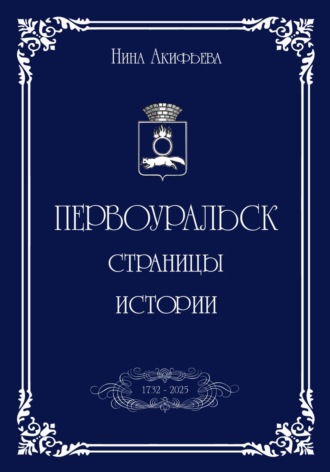
Полная версия
Первоуральск: страницы истории
Как тут не вспомнить слова Ивана Алексеевича Бунина: «…Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, – не просто наслаждения, а именно упоения, – как тянет нас к постоянному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд!».
В конце XIX века в Невьянске было только две школы и четырнадцать питейных заведений. Таким образом, одна школа приходилась на 6938 человек, а одно питейное заведение на 992 человек. На одну школу приходилось семь "кабаков". Грустная статистика. учитывая, что до начала XX века на всем Урале не было не одного высшего учебного заведения.
Источник: Акифьева Н.В. Питейная история Урала (XVII – начало XXI века). Серия «Очерки истории Урала». Вып 44. – Екатеринбург: БКИ, 2010. – 96 с. (изд. третье доп. и испр.). С.20-47.
ПИТЕЙНЫЕ ИСТОРИИ. НА CТАРОМ УРАЛЕ (3)
В правительстве понимали, что покончить с пьянством в стране одними Указами и полицейскими мерами не получится – нужна долгосрочная стратегия и ежедневная, кропотливая работа. Призывы к этому в России звучали уже давно. Еще в 1883 году К.П.Победоносцев в своих письмах к Александру III указывал на «всенародный зов к правительству об исцелении этой ужасной язвы». «Необъятная Россия состоит из пустынь, – писал обер-прокурор царю, – но нет такой пустыни, нет глухого уголка, где бы не завелись во множестве кабаки и не играли бы главенствующей роли в народной жизни».
С 1908 по 1912 годы в империи было продано 440 миллионов ведер водки. «В конце XIX – начале XX века самой пьющей губернией России была Московская (неоспоримое первенство!), дававшая доход от водки в 1885 году 20,7 млн. рублей, а в 1895 года уже 25,4 млн. рублей. За ней шла столичная губерния – Петербургская – 14,6 млн. рублей. На Урале самой «пьяной» по размерам потребления водки считалась Пермская губерния, которая тогда включала и территорию нынешней Свердловской области (5,67 млн. руб.)». По свидетельству А.Ф.Кони, с 1896 по 1906 год население Русской империи увеличилось на 20%, а питейный доход на 133%. «Причем в последнее время народ пропивал ежедневно почти 2 млн. руб., что не может быть признано нормальным».
В Верхотурском уезде, по свидетельству профессора И.Х.Озерова было выпито водки (в 1907 г.) на сумму в 3179 тыс. руб. А населения в этом уезде 245660 душ обоего пола (считая и грудных младенцев), что составило приблизительно по 13 рублей на человека, а на семью из пяти человек − 65 рублей. В самом Верхотурье расходовалось на водку по 29 рублей 88 копеек; в Богословской волости по 25 рублей 18 копеек; в Нижне-Туринской волости по 40 рублей 30 копеек на человека, что в пересчете на семью из пяти человек выходило по 149 рублей 40 копеек, 125 рублей 90 копеек и 201 рубль 50 копеек соответственно. «Если бы по такому масштабу пило водку все российское население, − восклицал университетский профессор, − то нашему министру финансов можно было бы спать спокойно, мы были бы далеки от бюджетного дефицита».
Заметим, что в России среднее душевое потребление водки (40%) составляло в те годы 0,61 ведра в год на человека. И в ряду четырнадцати государств мира, где было наиболее распространено употребление «сорокаградусной», Россия стояла далеко не на первом месте.
В начале XX века в российском обществе постепенно начала складываться точка зрения о необходимости консолидации в борьбе с пьянством и алкоголизмом. Итогом этих ожиданий стало проведение первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством. Съезд проходил в Петербурге с 28 декабря 1909 года по 6 января 1910 года.
Через два с половиной года – в августе 1912 года в Москве состоялся второй съезд, названный Всероссийским съездом практических деятелей по борьбе с пьянством. Инициатором его проведения и ключевым участником было духовенство. В итоговом документе съезда отмечалось, что наилучшим способом борьбы с алкоголизмом является пропаганда трезвого образа жизни, создание братств и обществ трезвости в приходах и монастырях. Съезд также принял обращение об установлении всероссийского праздника трезвости. После рассмотрения этого вопроса Комитетом Московского епархиального общества борьбы с народным пьянством, было издано определение Синода от 8 августа 1913 года о ежегодном проведении 29 августа всероссийского праздника трезвости.
Первая мировая война внесла коррективы в питейное дело. По Высочайшему повелению во время мобилизации была запрещена продажа спиртных напитков. Запрет был введен как обычная мера, сопровождающая мобилизацию. В губерниях были закрыты все казенные винные лавки, пивные, ренсковые погреба, и даже некоторые рестораны. Следующей мерой стало постановление правительство России о прекращении продажи водки на период войны и о концентрации всего производства этилового спирта для военных нужд. Все 400 спиртовых заводов России стали производить спирт только для потребностей фронта и медицинских целей.
В августе Император принял делегацию русских городов. Члены делегации высказали ему единогласную просьбу о совершенном прекращении торговли водкой, на что последовал «благожелательный ответ Государя». Николай сказал: «Я уже предрешил НАВСЕГДА воспретить в России казенную продажу водки».
Во время одной из сессий Государственной думы было сказано, что к воспрещению казенной продажи водки и спирта, вызванному войной, могут быть применены слова Пушкина о «рабстве, павшем по манию Царя». «Действительно, – считал Анатолий Федорович Кони, – снятие ига этого второго рабства в течение полугода принесло уже яркие и осязательные плоды. Порядок и спокойствие в деревне, очевидное и быстрое уменьшение преступности во всей стране, ослабление хулиганства и поразительный (по своим сравнительно с прошлыми годами размерам) приток взносов в сберегательные кассы – служат блестящими доказательствами благодетельности этой меры».
Сухой закон довольно больно ударил по водочным и пивным производителям. Например, Екатеринбургская городская Дума после долгих препирательств с «пивной королевой» Марией Ивановной Гребеньковой (акционерное общество «Уральская Бавария») постановила − вылить в реку Исеть 35000 ведер пива, что и было исполнено 1 апреля.
Дальше ситуация стала развиваться по знакомому нам сценарию. Население все больше стало употреблять различные суррогаты, а самогоноварение стало самым обычным делом. И уже в конце октября 1914 года председатель Совета Министров И.Л.Горемыкин откровенно признался, бывшему до него главой правительства В.Н.Коковцеву, что «нельзя производить таких перемен только росчерком пера».
Источник: Акифьева Н.В. Питейная история Урала (XVII – начало XXI века). Серия «Очерки истории Урала». Вып 44. – Екатеринбург: БКИ, 2010. – 96 с. (изд. третье доп. и испр.). С.47-58.
ПИТЕЙНЫЕ ИСТОРИИ. XX ВЕК (1)
Вместе с первыми вестями об Октябрьском перевороте Урал накрыла волна беззакония. И далеко не последнюю роль в зимней вакханалии 1917 года сыграли винные склады. Они как магнит притягивали к себе многочисленные толпы. Настроение собравшихся людей было крайне нервозным. Провокаторы, находившиеся среди толпы, пытались вызвать стычки с охраной, которая из-за своей малочисленности часто была не в состоянии остановить погромщиков.
Сложность обстановки в городах и заводских поселках Урала усугублялась острой нехваткой продовольствия. Кроме того, часть населения ошибочно понимала свершившийся переворот как провозглашение абсолютной свободы и вседозволенности. Поэтому большинство губернских и волостных ревкомов, на территориях которых располагались винные склады, пришли к выводу, что единственным выходом из создавшегося положения является уничтожение всех наличных запасов спирта и водки.
На Урале «винная революция» началась в первых числах ноября. Волна погромов накрыла Пермь совершенно неожиданно ночью 4 ноября 1917 года – после представления в цирке. Сначала были разгромлены лавки и магазины на улицах, прилегающих к цирку, затем – винный склад, где толпа основательно перепилась и двинулась громить магазины и лавки на Черный рынок и центральные улицы – Торговую, Сибирскую, Красноуфимскую. Большевик М. Горшков вспоминал о тех днях: «Все были пьяны в дребезину, ловили, шедших по улице, и поили под угрозой смерти. Вино вытаскивалось из всех погребов и заводов, даже текло по канавам Сибирской и Торговой улиц».
Очевидцы рассказывали, что солдаты разбили пивной склад и носили пиво, кто чем может. Пили фуражками, пригоршнями рук, кружками, котелками, грязными банками, обломками от старой посуды. «В складе-то, в самом подвале, где бочки стояли, по колено в пиве ходят. Часа два тому назад больной один рассказывал, тоже за пивом бегал: В пиве-то бабу какую-то, да мальчишку лет пятнадцати, утопили».
О. А. Мельчакова в статье «Революционные» будни губернского города Пермь» приводит фрагменты записок свидетельницы тех событий, медсестры Федотовой: «Меня поразила масса пьяных солдат с пивом в котелках. Группами, обнявши один другого и еле держась на ногах, они куда-то шли. Одиночки спали где попало – на дороге, в грязи, в канавах рядом с валяющимися опорожненными котелками. Дальше от станции начали попадаться целые толпы пьяных мужчин и женщин. Город был наполнен пьяными криками, песнями, выстрелами, руганью, дракой. Кругом все бурлило, стонало, охало». Таким запомнился губернский город Пермь медсестре Федотовой в первые дни ноября 1917 года.
15 ноября 1917 года Владимир Павлович Бирюков записал в своем дневнике: «Эта корь (вероятно, автор имел в виду заразный характер пьяных погромов), добралась и до нашего Шадринска. Утром, как мы только что проснулись, прислуга Груня сообщила, что солдаты разбили сегодня винный склад. Я пошел в город ненадолго и увидел, что по всем улицам солдаты и горожане тащат водку, некоторые везли бутылки в казенных ящиках. Солдаты бахвалятся, что вот они напьются и пойдут громить Шадринск. Я наблюдал, как мальчик тащил четверть. Подбежавшие солдаты отобрали ее для себя. Мальчик закричал, а потом завыл по-звериному, словно потерял родного отца, или его жизни грозила опасность. К вечеру в городе ходила дружинническая охрана. Бежавшие от склада солдаты, по утру были щедры и раздавали водку направо и налево. Дали бутылку и нашему дворнику. Дворнику надо было идти в караул по охране квартала. Вместо этого он с солдатами наклюкался и начал скандалить. В одиннадцать ночи на каланчах забили тревогу на пожар, но оказалось, что это жгли спирт, вероятно, на заводе у Поклевского».
Тревожная обстановка создалась и в столице горнозаводского Урала, Екатеринбурге. Чтобы предотвратить разгром винного склада, находившегося тогда на перекрестке улиц Шарташской и Обсерваторской, екатеринбургские власти ночью 5 ноября 1917 года распорядились выпустить спирт из хранилищ в ручей. Александр Кручинин в статье «Засухин ключ и дары революции» писал о тех событиях: «По ручью и по его неокрепшему еще льду спирт пошел в Харитоновский пруд, разлился по протоке и попал в Мельковку. Часть спирта по канавам протекла мимо питьевого Сорочинского ключа и также ушла в Мельковку. Спирт плавал поверх льда и очень скоро привлек многочисленных любителей, особенно среди солдат. Сбылась пьяная мечта: перед ними было «озеро» водки. Охрана, выставленная у пруда, сама вскоре оказалась пьяной. Собралась огромная толпа, пьянство принимало угрожающие размеры. По свидетельствам очевидцев, жителей улиц у Вознесенской горки, некоторые любители спиртного прямо захлебывались даровой выпивкой. Жители всех окрестных улиц, особенно жители слободы Мельковка, возили спирт кадками, бочками, ведрами и т.п. Команда, назначенная властями, во главе с Я.М. Юровским целую ночь с 5 на 6 ноября ходила из дома в дом и выливала наполненные спиртом кадки и корчаги. Солдаты из этой команды нет-нет, да и отхлебывали понемногу, и результат скоро сказался. В погребе одного из домов, когда Я.М. Юровский стал выливать из бочонка спирт на землю, солдаты стали подставлять ладони и пить. Когда же Я.М.Юровский попробовал призвать их к порядку, то раздались голоса: "давайте пристукнем его, что он нам не дает выпить!»
Харитоновский пруд и вся прилегающая территория на протяжении почти трех суток представляли удручающую картину. Челябинская газета «Народная свобода», со слов очевидца, писала об этом: «Солдаты, ругаясь, толкая друг друга, бросались на лед, к краю проруби и с радостью лакали из нее разбавленный водой спирт, не обращая внимания ни на грязь, что текла в ту прорубь, ни на навоз, окружающий ее. Лед не выдержал провалился, и все лакающие погрузились в холодную воду. Но, счастье их – вода была мелка. Отдуваясь, хохоча, солдаты вылезали на лед и снова начинали пить. Пили до одурения, до «положения риз». Многих тут же у проруби рвало, и рвотная пакость плавала в проруби, но «алчущие», не смущаясь этим, отмахивали ее рукой и пили».
И в Ирбите Октябрьский переворот запомнился погромами винных складов и магазинов, «Главными участниками погромов здесь, как и в других городах Урала (Перми, Екатеринбурге, Кунгуре, Шадринске, Верхотурье, Троицке, Верхнеуральске) были солдаты. Но в Ирбите беспорядки привели к особенно тяжелым последствиям: они сопровождались поджогами торговых складов, магазинов. В пригородных деревнях на почве дележа и безумного пьянства начались пожары, погибло около 200 человек», – писал П.И. Костогрызов.
К середине декабря волна пьяных погромов, накрыв Челябинск и Уфу, докатилась до Оренбурга, города в котором власть находилась под контролем войскового круга Оренбургского казачьего войска. Увы, беспорядков город не избежал. 17 декабря здесь произошел погром казенного винного склада. Охрана склада была возложена на солдат 4-го запасного полка. Однако соблазн был настолько силен, что стража не удержалась и отведала казенного спирта. Остальное «уничтожали» всем миром.
К началу 1918 года практически все спиртные запасы на государственных складах в уральских городах были либо расхищены, либо уничтожены.
В мае 1918 года в условиях резкого ухудшения продовольственного положения был принят декрет ВЦИК и СНК «О чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию», фактически подтвердивший продолжение «сухого закона», введенного еще царским правительством. Самогоноварение было отнесено к наиболее опасным нарушениям социалистической законности. Декрет, в частности, предусматривал уголовную ответственность за самогоноварение в виде лишения свободы с конфискацией имущества, изгнания из сельской общины навсегда и направление на принудительные общественные работы.
Однако рабоче-крестьянская милиция, на которую была возложена борьба с самогоноварением, с поставленной задачей справиться была не в состоянии. Самогон гнали везде, где были излишки продовольствия. Но большевистское правительство сразу сдаваться не собиралось, и 19 декабря 1919 года Совнарком РСФСР подтвердил приверженность новой власти декларированным принципам. В стране был принят очередной антиалкогольный декрет «О запрещении в РСФСР без разрешения производства и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ».
Но уже следующий «питейный» декрет Совнаркома РСФСР от 9 августа 1921 года «О продаже виноградных, плодовоягодных и изюмных вин» разрешал продажу вин крепостью до 14 градусов. Хотя запрет на производство и продажу водки сохранялся, многими современниками декрет был воспринят как отказ от ранее выбранной стратегии.
Был ли прок от всех этих действий? Вряд ли сегодня можно ответить на этот вопрос однозначно. Но вот специальная делегация английских тред-юнионов, инспектировавшая Россию в 1923-1924 годах, в своём отчёте указала на то, что «ни в одном из районов России члены делегации не зарегистрировали того явления, которое было известно во всем мире как «русское повальное пьянство». И даже более того: «Большевикам удалось создать новую психологию у рабочего класса – презрение и ненависть к пьянству как к классовому явлению, унижающему рабочий класс. Большевики подняли классовую гордость рабочего почти до аристократического уровня».
Оставим это высказывание на совести английских профсоюзных лидеров. Реальная же ситуация, во всяком случае, на Урале, не была столь радужной. Пролетарские газеты не скрывали тревоги. География питейных заметок охватывала весь горнозаводской Урал.
В Билимбае председатель правления Билимбаевского завода Кононов и агент уездного продовольственного комитета Верачев пируют с местными работниками: «Вишь, забрались на мягкие кресла, так теперь для них разливанное море кумышки. Пей – не хочу!»
В Екатеринбурге, «забыв свой долг перед трудящимися, член управления Верх-Исетским заводом Ф.М. Андрианов, заведующий техническим отделом Н.П. Орлов, член управления Верх-Исетским округом Павлов и другие пили под шумок, когда их товарищи, не покладая рук, работали над подготовкой «недели фронта». Эти «коммунисты» вместо того, чтобы вести агитацию, пропаганду и лекции, напились как последние пьяницы».
В Нижне-Уфалейском заводе и в Таблишской волости Камышловского уезда варят кумышку: «Тогда, как рабочие Питербурга, Москвы, рабочие Уральских заводов голодают, перебиваясь со дня на день на голодном пайке, а у нас в деревне разливанное море кумышки. Не пуды, не десятки, а сотни пудов перегоняются в одной только нашей волости на это проклятое зелье».
В Лайском заводе Нижне-Тагильского уезда «председатель местного исполкома гражданин Оносов и военный комиссар Шатунов, на днях забрались в гости к заправилам кооператива, где одной кумышки было добыто семь ведер».
«В Камышловском уезде отстранен от должности и предан суду член исполкома Сухоложской волости Быков за допущенное им в пьяном виде буйство в селе Сухоложском».
Таких «пьяных» заметок в уральских газетах и журналах тех лет можно встретить множество, и это при полном запрете на производство и реализацию водки со стороны государства. «Кабаков нет, зато, куда не ступи – везде пивная». Много их развелось тогда на уральских заводах и на рабочих городских окраинах.
Обстоятельства принятия закона 1921 года, а также быстрого распространения пьянства к концу 1920-х годов лежали, прежде всего, в области экономических и социально-политических изменений, произошедших в стране. Проникновение частника в область виноделия все усиливалось, а государство ежедневно теряло огромные деньги за счет нелегального производства и продажи спиртного. Уже в начале 1920-х годов фактом стала монополизация пивных в руках частных торговцев, отнюдь не стремившихся делится прибылью с государством. Погоня за выгодой неизбежно подталкивала их к обходу существующих законов. Высокая стоимость поступающих на рынок промышленных изделий и низкие цены на хлеб («ножницы цен») заставляли мелких производителей прибегать к переработке хлеба на самогон, а масса свободных предпринимателей, наводнивших города после введения «свободной торговли», только способствовала доставке самогона основному его потребителю – рабочему.
Газеты публиковали многочисленные письма и коллективные резолюции. Возмущенные авторы апеллировали к советским и правоохранительным органам, требуя убрать пивные и максимально увеличить наказание за самогоноварение. «Закройте пивную»! – требует рабочий из Златоуста, – «В ней пропивают заработок, на улице горланят нецензурные песни, сквернословят. Домой придут, бьют посуду, дерутся с женами, портят детей». С златоустовцем солидарны фабрично-заводские комитеты Верх-Исетского завода и завода «Металлист» из Екатеринбурга: «Пьянство губит рабочих, расстраивает производство. Нужна решительная борьба с пьянством и пьяницами. Пивные в рабочих кварталах культивируют пьянство. Убрать их». «Почему не выселят пивные? Почему не отдадут помещения, занятые ими под квартиры? Эти вопросы раздаются на каждом собрании железнодорожников, и застрельщицами здесь, конечно, являются женщины».
Пьянство становиться одной из главных проблем партийной организации. В 1924 году из членов уральской организации РКП(б), состоящей из 32200 членов, только за два месяца (январь и февраль) было исключено 174 человека (0.54% от всей организации). Основная причина – пьянство: 39% исключенных лишились партийных билетов за чрезмерное потребление алкоголя.
Источник: Акифьева Н.В. Питейная история Урала (XVII – начало XXI века). Серия «Очерки истории Урала». Вып 44. – Екатеринбург: БКИ, 2010. – 96 с.
ПИТЕЙНЫЕ ИСТОРИИ. XX ВЕК (2)
Выход из алкогольного тупика путем проведения запретительных мер показался правительству и партийному руководству советского государства бесперспективным. И уже с января 1924 года вступило в силу совместное постановление ЦИК СССР и СНК СССР о возобновлении производства и торговли спиртными напитками в СССР. Считалось, что продажа водки есть зло, но меньшее, чем кабала западноевропейских капиталистов. Однако оговаривалось, что мера эта временная и, обращалось внимание на экономический ущерб, который несло государство при существующих запретах. Вместе с тем не скрывалось, что встать на путь продажи водки побудил, главным образом, поиск средств для выполнения намеченных широких производственных планов.
Повсеместная продажа новой советской водки началась с октября 1925 года. «Новоблагословенная» получила шутливое прозвище по фамилии председателя Совета народных комиссаров А.И. Рыкова – «рыковка». В соответствии с реалиями нового времени появляются и своеобразные названия – «партиец» (0,5 л), «комсомолец» (0,25 л) и «пионэр» (0,1 л).
После введения в 1925 году государственной монополии на производство водки бюджет стал наполняться «пьяными» доходами. В 1927/28 финансовом году они составили 12% доходной части государственного бюджета. Отметим, что в царской России эти доходы, например, в 1909 году составляли почти треть госбюджета – 30%. Однако, по данным Госплана СССР, казенной и домашней водки в 1928-1929 годах пили в полтора раза больше, чем в 1913 году. По данным, изданного в 1929 году сборника «Борьба с алкоголизмом в СССР», в 1928 году в стране насчитывалось около 700 тыс. рабочих-алкоголиков
На Урале торговля винно-водочными изделиями, кроме пополнения бюджета стала еще и средством сдерживания давления на скудный товарный рынок. В розничном товарообороте во второй половине 20-х годов XX века на долю продуктов питания приходилось 55%, а на долю алкогольных напитков – 19%. В бюджете семей трудящихся Урала затраты на алкоголь значительно превышали сумму затрат на лечение, культуру и просвещение.
Армия алкоголиков плохо соотносилась с грандиозными планами индустриализации страны. И поэтому, взяв под контроль оборот спиртных напитков, правительство одновременно инициировало широкую антиалкогольную работу среди населения. С осени 1926 года в школах были введены обязательные занятия по антиалкогольному просвещению. В марте 1927 года были введены ограничения на продажу спиртного (малолетним, лицам в нетрезвом состоянии, в выходные и праздничные дни, в буфетах заведений культуры). Активное участие в этой кампании приняли видные ученые. В 1927 году вышла книга В.М.Бехтерева «Алкоголизм и борьба с ним», где он, в частности, писал: «Отрезвление трудящихся есть дело самих трудящихся…». В 1928 году в Москве было создано «Общество по борьбе с алкоголизмом», среди учредителей которого были Н.Подвойский, С.Буденный, Д.Бедный, В.Иванов, В.Маяковский. Тогда же вышел в свет первый номер всесоюзного журнала «Трезвость и культура» и создан всесоюзный Совет противоалкогольных обществ. В 1929 году ячейки общества появились на Урале. Инициаторами их создания на заводах и фабриках зачастую выступали женсоветы.
Однако избавиться от пьянства не удавалось. Даже в армии. Народный комиссар обороны СССР К. Ворошилов в приказе № 0219 от 28 декабря 1938 года «О борьбе с пьянством в РККА» года недвусмысленно констатировал: «За последнее время пьянство в армии приняло поистине угрожающие размеры. Особенно это зло вкоренилось в среде начальствующего состава. По далеко неполным данным, за 9 месяцев 1938 года в частях Уральского военного округа было отмечено свыше 1000 безобразных случаев пьянства. Неисправимый, беспробудный пьяница и лодырь не только не берется под обстрел большевистской критики, не только не изгоняется из здоровой товарищеской среды, которую он компрометирует, но даже иногда пользуется поддержкой товарищей. При таком отношении к пьяницам спившийся и негодный человек не только не стыдится себя и своих безобразных поступков, но часто ими бравирует. Много ли случаев, когда командирская общественность потребовала удалить из своей среды какого-нибудь неисправимого пьяницу? Таких случаев почти нет».
Во время Отечественной войны тема пьянства, потеряла злободневность. Остро стоящая проблема питания (уже к концу 1941 года из системы государственной торговли полностью исчезли не только спиртные напитки, но и овощи, картофель, фрукты, ягоды, молочные продукты), многочасовой рабочий день (иногда по 10-12 часов), отмена отпусков и жесточайший режим контроля практически не оставляли времени для бытового пьянства. Хотя спирт, выдаваемый на некоторых производствах, «его небольшими дозами распределяли между работающими», оставлял «жаждущим» такую возможность.



