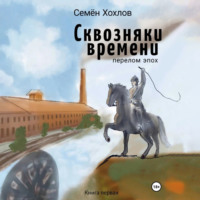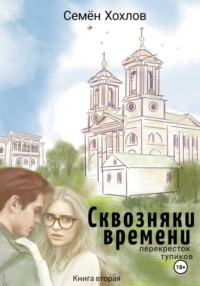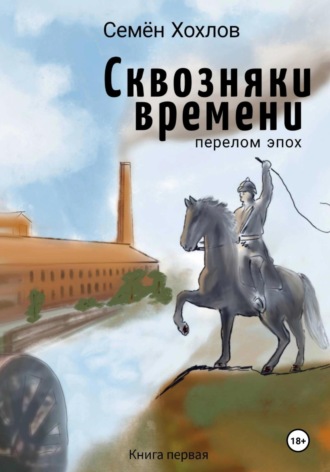
Полная версия
Сквозняки времени. Книга первая. Перелом эпох
– Да я уже жег уголь первой зимой опосля переезда и возницей вот уже второй год езжу! – горячо заговорил Никифор. – Да разве это дело? У углежогов заработок шесть копеек в день, возницам по восемь платят, но лошадка своя должна быть, ей овса в день на копейку с полушкой купить надо, ну или вырастить, да и все время боишься, что она надорвется. Рудобойцам когда по семь, а когда и по восемь копеек в день платят, но такая работа, что солнца неделями не видят, а потом от грудной жабы загибаются. Да и не только в этом дело…
– А в чем еще? – уточнил Мельников.
– Скучная вся эта работа, Степан Кузьмич, без интересу она! – Никифор сокрушенно потряс головой. – Ты вот говорил, что столяра бы взял. Я пока месть не столяр, но плотничал много, избы ставил, бани. В Казанской губернии один раз даже часовню рубил, не за главного, конечно, а в подмастерьях был. Одним словом, люблю с топором нянчиться.
– А в заводе, по-твоему, работа с интересом? – спросил мастер, слегка прищуриваясь.
– С интересом, Степан Кузьмич! – подтвердил Никифор. – Я когда на водобойное колесо смотрю, мне аж дух захватывает – это какую же выдумку надо иметь, чтобы заставить воду крутить колесо и чтобы оно потом через вал такие тяжелые молоты поднимало! Я на плотине часто бываю, пришел туда как-то рыбу поудить, а там плотинный мастер шлюзы на ночь затворял, мы с ним тогда разговорились. Он же кажную сваю там знает, кажную полосу железа! И всякая вещь там на месте и при деле!
– Ну еще бы Игнату свою главную плотину не знать! – усмехнулся Степан Кузьмич. – Он же сам ее ставил и первую сваю сам вбивал! Значит, ты говоришь, плотничал?
– Ага, плотничал! – подтвердил Никифор.
– Ну, коли так, попробую отдать тебя Игнату Гнедых, раз вы с ним уже в знакомцах ходите! – согласился Мельников. – Тем более он давно себе помощника просит: его давешнего отдали куда-то на Чусовую. Но учти, Никифор, Игнат в работе очень суров и требует много, да и работать тебе предстоит с лиственницей. Приходилось тебе когда лиственницу рубить?
– В Казанской губернии мы разок конду под дом из лиственницы рубили, – подтвердил Никифор.
– Конду? Это нижний венец сруба? – уточнил мастер.
– Он самый! – кивнул головой Никифор.
– Ну и как?
– Знатно потрепыхались! На кажный из четырех замков венца по полдня потратили! – Никифору было приятно рассказывать о своей работе. – Долотом и молотками щепу выбивали! Зато теперь этому срубу никакая сырость не страшна – триста лет стоять будет и не сгниет!
– В здешних местах дуб почти не растет, поэтому сваи и многие части шлюзов делаем из лиственницы, – пояснил мастер. – Пока она свежесрубленная, с нею еще хоть как-то можно работать, а когда она в воде годик полежит – как железо твердая становится! Ну, значит, определю тебя к Игнату. Только не думай, что тебе сразу как столяру второго сорта десять копеек платить начнут: первый год, пока в учениках ходишь, будешь те же восемь копеек в день получать. А там уж, как себя проявишь: иные столяры у нас и по двенадцать копеек ежеденно получают, но эти, правда, могут топором из лучины черта в ступе вырезать!
– Спасибо, Степан Кузьмич! – обрадовался Никифор. – За мной работа не постоит!
По разумению Степана, старания Никифора были правильными. Что такое крестьянин при заводе? Та же лошадь – тяни черную работу, пока ноги не вытянешь. А черной работы хватало: в рудниках надо было махать кайлом, добывая руду, в лесах даже в самые трескучие морозы надо валить лесины и волочь их к угольным ямам, потом руду и уголь надо было загружать в ненасытные домны. Однако и мастеровым стать враз не так-то просто. Лучшие мастера взращивались на заводах с детских лет, впитывая горький опыт с затрещинами и тычками старших. Никифор был мужик с головой и, если не будет лениться, шансы чему-то научиться у него есть.
Вчера, когда Степан вместе в кузнецом на руднике разбирали механизм ворота, мастер поймал на себе взгляд крестьянина, который вручную за веревку вытягивал ведро с рудой. Во взгляде промелькнул и погас огонь лютой злобы. Вряд ли эта злоба была направлена на самого Степана, скорее, на жизнь, на механизмы и железо, ради которого крестьянина как живой товар своротили с насиженного места и теперь заставляют по много дней в году ломать руду в подземелье преисподней. А потом в короткое и холодное уральское лето пытаться вырастить рожь и репу на скудной земле среди скал.
Работа мастеровых тоже похожа на ад, особенно тогда, когда расплавленный чугун разливается по земляным формам, страшными брызгами обжигая лицо, а иногда и выжигая глаза. Но мастеровые находят в этой работе какое-то странное упоение. Передают тайные секреты мастерства наиболее способным ученикам. А если где-то встречают новый механизм или машину, то считают важнее прочего разгадать ее секреты и вникнуть в суть ее работы. Нет, Степан ни за что бы не променял работу на заводе на работу в поле.
Тот мужик с нехорошим взглядом, он, когда вчера на руднике завидел Никифора, что-то сказал своему товарищу, тащившему с ним тяжелую бадью. Степану это показалось странным…
– Никифор, а Никифор? – спросил мастер.
– Что, Степан Кузьмич?
– А почему это тебя земляки ведьминым зятем кличут? – Мельников наконец-то вспомнил, как назвал Никифора вчерашний крестьянин.
– Это ты вчера от Федьки слышал? – недобро усмехнулся Никифор. – Промеж нами давняя дружба, с одной деревни мы! Он мою тещу Лукерью Трифоновну за ведьму считает, ну и меня ведьминым зятем величает.
– Ого! – засмеялся мастер. – Что она у тебя и вправду с нечистой силой знается?
– Да как сказать… – Никифор потеребил бороду. – Травница она, корешки да травки по лесам собирает, а потом людей и скотину от разной хвори лечит. Заговоры какие-то знает, но людям никогда ничего плохого не содеяла! Ее половина Казанской губернии знала. К ней врачеваться народ приходил, помещики лошадей дорогих приводили на излечение – она всем помогала. И сюда вместе с нами переехала, в деревне по Караульной дороге живет, я ей домик срубил на два окна, печку сложил…
– Так не она ли та самая бабка Лукериха, про которую все говорят, что она в деревне Карауловке лечит? – спросил Степан.
– Она самая и есть! – закивал Никифор.
– А с травками и с корешками как же? – заинтересовался мастер. – С собой оттуда привезла?
– Какие-то с собой везла, а какие-то уже тут на Камне разыскала. Непонятно как, но про нее и тут уже вся округа узнала. Даже башкиры коней лечить приводят!
– Да, Никифор, повезло же тебе с тещей! Как есть – ведьмин зять! —засмеялся Степан.
– А что? Мы с ней дружно живем, ей много не надо, и в наши с Агафьей дела она не влезает, зато Ванятку очень любит.
– А Агафья у тебя не того? Не ворожит?
– Не, Агафья в травках плохо понимает, – ответил Никифор. – Но у Лукерьи Трифоновны мать тоже не понимала, а вот бабка травницей была, поэтому она ждет, когда наша Анютка подрастет, чтобы внучке секреты рассказать. Но Анютке только третий годок пошел, рано ей еще с бабкой по лесам шастать.
– Да, Никифор, опасно с тобой ссориться, коли у тебя такие бабы за спиной стоят! – опять засмеялся мастер.
Передние подводы наконец вскарабкались в гору и теперь готовились к спуску: поправляли упряжь, давали лошадям отдышаться и доставали тяжелые ломы, с помощью которых можно было тормозить телеги, не давая им разогнаться и потащить лошадок, которые, чего доброго, могли от этого поломать ноги.
– Степан Кузьмич, это что же, казаки? – Никифор кивнул головой в сторону уходившей вниз дороги.
С гребня горы был виден отряд из десятка всадников, которые ехали по дороге навстречу обозу. До верховых оставалось с полверсты. В руках у многих колыхались пики, так что их можно было принять за казаков. Невысокие кони, остроугольные волчьи шапки…
– Нет, это не казаки, это башкиры! – мастер сам не понял, почему его голос прозвучал так встревоженно.
Степан родился на берегах Волги, но, когда ему было двенадцать лет, всю их деревню выкупили и перевезли на новый медеплавильный Воскресенский завод. Мальчика сразу отдали в ученики постигать заводские премудрости. По воскресеньям в церкви мать часто шептала мальчику: «Молись усердно, Степушка, а то тебя башкиры к себе увезут!» Башкирских деревень в окрестности Воскресенского завода было много, и смышленый мальчик быстро примечал их традиции и обычаи.
Башкиры считали себя потомками лесных волков, и не так давно ими принятое мусульманство совмещалось с язычеством. В этом они очень напоминали русских, которые хоть и считали себя истово православными, но верили в домовых и леших, пекли блины на Масленицу.
Башкиры собирали мед и пасли стада, при этом были хорошими наездниками, стреляли из ружей и луков. Степан не раз видел, как молодые башкирские батыры, словно играясь, доставали стрелой утку в полете или останавливали бег петляющего зайца. Башкиры были отличными воинами, и многие роды почитали за честь, если русские цари приглашали их на военную службу. Но этот народ любил свои реки, поля, леса и горы и очень переживал, когда русские меняли их облик, рубили леса, вгрызались в горы и запруживали плотинами реки. От этого почти в каждом поколении башкир находились бунтари, отчего по деревням вспыхивали восстания. Поэтому заводские работники знали, что с такими соседями надо жить с оглядкой.
Вот и сейчас Степана что-то насторожило в приближающемся отряде. Он уже мог рассмотреть, что все всадники были при саблях. У некоторых воинов за спинами были ружья, у остальных – полные колчаны стрел. Мастер часто видел башкир, выехавших на охоту. В этом случае они были вооружены луками или ружьями, у пояса пристегнут длинный нож. Но у этих были сабли и пики, да и такими большими группами они никогда не охотятся. Конечно, можно предположить, что это какой-нибудь род отправил своих воинов на службу царице, но почему тогда они едут в сторону Сибири?
Конный отряд поравнялся с обозом и медленно поехал вдоль него. Мельников увидел, что половина из людей в отряде – еще юноши лет по восемнадцать. Передний воин доехал до подводы с жеребенком и, склонившись над ним, начал его трепать, что-то приговаривая.
– Не трожь скотинку, не твоя! – буркнул на него мужик.
Жеребенок в хозяйстве был долгожданной радостью, нес в себе надежду на будущее, и хозяин боялся дурного глазу.
Отряд совсем остановился. Башкиры стали пристально рассматривать обоз. Задний и, видимо, старший из всех обратился к мужику на четвертой телеге:
– Бачка, откуда руда?
– Известно откуда, с Бакальских рудников! – ответил тот.
– Чей рудники? – опять спросил конный.
– Как это чьи? – удивился мужик. – Твердышевские же!
– Ой, неправда говоришь! – усмехнулся воин. – Царь все земли нам назад вернул!
– Какой ишо царь? – тупо уставился на него мужик. – У нас же царицка!
– Царь Петр Федорович! – продолжил башкирин. – Все, что вы русские обманом взяли, все нам назад вернул!
– Да ты что? Какой ишо обман? Ведь Петр Федорович помер давно! – начал вскипать мужик.
В этот момент у воина впереди отряда в руках оказался аркан, который он сноровисто накинул на шею жеребенка. Жеребенок тут же испуганно пронзительно заржал.
– Не трожь скотинку! – взревел хозяин жеребчика, выхватывая из телеги топор.
Воин с арканом одним движением выхватил саблю, привстал на стременах и, дико взвизгнув, рубанул мужика с топором. Задний из башкир, только что рассказывающий о новых указах воскресшего царя, тоже выхватил из ножен саблю. Однако возница четвертой подводы не стал дожидаться удара – он перекатился через телегу на другую сторону и побежал вдоль обоза. Воины отряда накинулись на обозных, которые рассыпались во все стороны.
Степан взлетел на Сороку, рядом Никифор резал постромки. Достав из-за пояса небольшой нож и перегнувшись через седло, Мельников принялся ему помогать. Через несколько секунд Никифор уже был на своем мерине верхом и гнал его без седла, охлюпкой. Сорока тоже рванулась вперед. Они проскакали мимо первой подводы, где возница тоже пытался перерезать постромки, причем делал это лезвием топора – как видно, ножа у него под рукой не оказалось. Степан и Никифор перегнали мужика с четвертой телеги, со всех ног бежавшего вниз с горы.
– Эх, помочь бы землячкам! – крикнул Никифор.
– Ничем ты им сейчас не поможешь, самим бы уйти! – охолонил его Степан.
Словно в подтверждение его слов, они услышали сзади дикое взвизгивание. Два воина, заметив, что от них пытаются уйти, скакали в сторону головы обоза. Мужик на первой телеге наконец-то выпутал свою лошадь, взобрался на нее верхом и начал набирать ход. Однако первый воин быстро настиг его и точным ударом пики сшиб с коня. Бегущий по дороге мужик что-то кричал, но второй воин, догнав его, рубанул саблей сзади.
Степан и Никифор отскакали довольно далеко, и их не преследовали. Когда они оглядывались, то видели, что большинство мужиков успело добежать до леса, но как минимум двое лежали в листве со стрелами между лопаток. Что ж, цели были намного крупнее зайцев и петляли куда как хуже.
– Никифор, скачи на юрюзанский завод и расскажи там о случившемся! А я поскачу к управляющему на катавский! – распорядился мастер.
Когда через два часа он подскакал к дому управляющего Катав-Ивановского завода, то от Сороки валил пар и с ее морды летела пена. Выскочивший на шум копыт конюх схватился за голову и заорал:
– Ты что, Сороку сгубить хочешь? – но увидел глаза мастера и осекся. – Аль юрюзанский завод горит?
Степан соскочил с седла и, бросив поводья конюху, побежал в контору управляющего Никиты Абаимова. Вломившись туда, он выпалил:
– Никита Петрович! Башкиры на рудный обоз напали на Юрюзанской горе! Часть мужиков побили, часть разбежалась!
Управляющий – седой бритобородый мужчина лет пятидесяти – поднялся от конторки.
– Когда? Сам видел?
– Сам! – подтвердил Степан. – Часа два-три тому назад. Десять человек, все конные, при оружии: пики, сабли, луки и ружья!
– Из засады напали? – уточнил управляющий.
– Да нет! Просто так: ехали навстречу, начали что-то спрашивать. Откуда руда да чьи рудники? А потом у них старший сказал, что, дескать, новый царь повелел все, что обманом у башкир взято, назад вернуть!
– Ты что тут мелешь! Какой еще царь? Или ты пьян? – голос управляющего загремел.
Разговоры о том, что башкир обманули с купчей земли пресекались даже среди приказчиков завода, а тут такое смеет говорить мастер.
– Что вы, Никита Петрович, я ж ее, проклятую, в рот не беру! Только тот башкирин говорил про какой-то указ царя Петра Федоровича…
– Ну-ка тихо ты! – прервал его управляющий. – На другие заводы сообщили?
– Только на юрюзанский. Я Никифора Скобина туда отправил.
– Понятно, – сказал управляющий, – далеко не уходи, тут будь. Сходи к Глафире на кухню, она тебя покормит.
До самой ночи Степан никак не мог вырваться со двора управляющего. Никита Петрович рассылал вестовых на другие заводы, несколько раз вызывал к себе Степана и опять расспрашивал о нападении. На следующий день была отправлена вооруженная экспедиция на Юрюзанскую гору. Около подвод было найдено шестеро убитых мужиков. Все телеги были перевернуты, и лошадей при них не нашли. На Юрюзанский завод явились еще восемь мужиков с разгромленного обоза. Куда подевались еще семеро возниц – убиты или прячутся в лесу – никто не знал. На всякий случай их записали в беглые.
Нападение башкир на обоз с рудой прямо на Сибирской дороге было настолько бессмысленным, что не укладывалось в головах. Зачем это было сделано? Ради разбоя? Но у мужиков нечего взять. Ради уведенных лошадей? Но крестьянские лошади представляли для башкир малую ценность – слишком изъезженные.
А через неделю запылала вся округа – башкиры взбунтовались повсюду. Их небольшие отряды все чаще видели поблизости от заводов.
Три завода Твердышевых-Мясниковых стояли рядом, образуя треугольник: от Катав-Ивановского до Юрюзанского – двадцать верст, от Катав-Ивановского до Усть-Катавского – тридцать верст и от Усть-Катавского до Юрюзанского тоже около тридцати верст, причем эта дорога проходила по тракту от Уфы до Челябинска – куску древнего Шелкового пути. Такое расстояние всадник на свежем коне легко преодолевал за полтора часа, и, если на прямых дорогах не было башкирских разъездов, заводы имели возможность поддерживать между собой связь.
Четвертый завод Твердышевых-Мясниковых располагался на семьдесят верст ближе к Уфе, то есть ближе ко всей бунтующей Башкирии. Завод находился в гораздо большей опасности, и держать связь с ним было намного труднее. В ноябре, когда уже лег снег, стало известно, что Симский завод занят башкирским отрядом. Механизмы завода сильно повреждены, и мастеровые опасаются за свою жизнь.
Когда установились надежные санные дороги, до катав-ивановской конторы дошло письмо, в котором говорилось, что башкир всколыхнул бунт яицких казаков, что бунтует почти вся Оренбургская губерния. Среди казаков объявился вор, который именует себя царем Петром III. Бунтовщики берут штурмом крепости вокруг Оренбурга и заставляют солдат, офицеров и священников присягать царю. Тех же, кто от присяги отказывается, казнят без милости.
Еще в письме было написано, что многие уже признали в самозванце беглого донского казака Емельяна Пугачева. Подлые людишки от имени самозванца распространяют манифесты, в которых подбивают на бунт. С этими манифестами следует бороться и ждать в скором времени правительственных воинских команд, которые приведут всех к порядку.
Глава 7. 1754-й
Конь Азата Хакимова легко вбежал в улицу деревни. Лето набирало силу, и солнце без устали вливало тепло в листву яблонь, зелень кустарников и соцветья цветов. Раз в несколько дней грохотали грозы, и от сочетания солнечного света и свежести дождя трава росла прямо на глазах. От этого буйства жизни словно бы сходили с ума пчелы и слепни. Только пчелы весь длинный июньский день носили в улья нектар и воду, а слепни гонялись за лошадьми, норовя укусить в незащищенные хвостом бока.
Чтобы избежать укусов жужжащих джинов, конь Азата охотно шел крупной рысью от самого дома до деревни Текеево, где жил старшина всего Шайтан-Кудейского улуса Азнала Карагужин. У дома Азналы прогуливался один из его сыновей – Юлай, был он почему-то хмур и неприветлив.
– Дома ли твой отец? – спросил у него Азат.
– Дома! – коротко ответил Юлай, беря под узцы коня гостя.
Однако, когда Азат входил в дом, Юлай не поспешил отворить перед ним дверь, как того требовал обычай гостеприимства, вместо этого сын хозяина куда-то метнулся. Гость хмыкнул, подумав про себя, что Юлай очень горд – в свои неполные двадцать пять лет уже полусотник, и ему пророчат быть старшиной улуса после отца. Впрочем, до этого пока далеко – Азнала еще крепко сидит в седле.
Когда он вошел в дом, Азнала был один и поприветствовал гостя по всем правилам. После этого посадил за стол и крикнул младшую жену, которая принесла гостю тарелку со свежим медом, ржаную лепешку и кружку чистой родниковой воды. Обычаи не позволяли сразу переходить к делу, поэтому гость и хозяин с полчаса обсуждали, сколько этим летом в табунах ждут жеребят и хорош ли будет мед. Впрочем, душистый запах меда из тарелки говорил сам за себя. Когда прошло нужное время, Азат перешел к делу:
– Ты, наверное, знаешь, Азнала, что этой осенью я решил женить старшего сына? – начал он.
Старшина кивнул: он знал, что сыну Азата Мирхею подобрали жену из соседней деревни.
– Отец невесты Марат Ибрагимов запросил за нее калым в двадцать кобылиц, – продолжил Азат. – Я считаю, что это очень много. Марат Ибрагимов простой пастух, мы и так оказываем ему большую честь, что берем его дочь первой женой. Я предлагал ему двенадцать кобылиц и два улья самых лучших пчел, но он упрямо просит табун из двадцати кобылиц. Я хочу, чтобы ты поговорил с ним, чтобы он так не упрямился.
Азнала вздохнул и, немного помолчав, ответил:
– Азат, ты старшина своей деревни и женишь старшего сына. Марат мог тебя обидеть, если бы запросил малый калым. К тому же, он тоже собирается женить старшего сына и ему тоже надо выплачивать калым за невесту.
– Я слышал про это, – подтвердил Азат. – Но с Марата просят только двенадцать кобылиц, а с нашей семьи он хочет взять двадцать!
– Кроме этого, Марат собирает среднего сына на службу к русским, – сказал Азнала, – поэтому ему нужно купить хорошую саблю, ружье и железный панцирь.
– В былые годы наши батыры почти всегда ходили на войну без дорогих панцирей!
– Это потому, Азат, что железо было дорого и за панцирь приходилось отдавать по сорок кобылиц. А еще потому, что стрелы били точнее ружей. А теперь мой Юлай говорит, что английское ружье может выбить седока из седла на расстоянии в двести шагов и лучше, чтобы на нем при этом был панцирь!
– Это ты верно сказал, что железо было дорого, да только башкиры при этом жили богаче и вольнее, а теперь и табуны наши стали меньше, и леса не так богаты зверем! Русские заперли наши реки, повсюду дымят их заводы! От этого кумыс и мед стали горчить! Когда мы примыкали к Московии, царь Иван обещал не чинить нам обид, обещал, что все родовые земли останутся за нами! Не пора ли нам вынуть сабли из ножен и напомнить, кто хозяин на этой земле?
– Да, Азат, русский царь обещал нашим дедам сохранить вольности, – подтвердил старшина улуса. – Но наши муллы так старательно прятали его грамоту от злых людей, что совсем потеряли ее! Ты должен понимать, что открыто выступить против властей сейчас – это обречь башкир на разорение. Помнишь, чем все закончилось четырнадцать лет назад? Нам тогда почти удалось поднять на открытую борьбу всю Башкирию, но из-за Волги пришли воинские команды, и многие деревни, побоявшись разорения, сами стали выдавать зачинщиков. Среди прочих схватили и меня… Нас всех отвезли на суд в Оренбург, где мы прилюдно раскаялись и повинились в бунте. Но шесть человек отказались признать свою вину и были приговорены к позорной казни, среди них был мой двоюродный брат. Их подвесили крюками за ребра, а нас всех заставили на это смотреть… Через три часа пятеро были мертвы, но ангел смерти Азраил никак не приходил за моим братом… Он висел, и пока у него хватало сил, посылал страшные проклятия в нашу сторону за то, что мы не смогли пойти до конца.
Азнала разгорячился и начал размахивать руками.
– …Ты должен понимать, что всему свое время и надо до поры сдерживать молодые горячие сердца от бунта. А еще помни, что ты – старшина своей деревни и пример для всех. Я слышал, что из последнего набега на казахов твой Мирхей привез из-за Яика несколько серебряных блюд и может сам обеспечить калым. Если ты дашь малый калым, то и все вокруг начнут давать малые калымы и вконец обеднеют.
Азату пришлось согласиться с доводами Азнала Карагужина. Интересно, откуда он узнал про блюда? Азат строго-настрого запретил сыну говорить кому-либо о добыче. Но Мирхей был в том походе не один, и старшина улуса был прекрасно осведомлен о том, кто с чем вернулся.
В итоге Азат должен был признать, что Азнала мудр и справедлив в своих советах. Он уже собрался прощаться с хозяином, когда в дом с криком влетел Юлай:
– Отец! Жена подарила мне сына!
На его лице не было и тени той хмурости, которую Азат видел во дворе. Глаза Юлая горели огнем, из-под черных усов сверкали белизною зубы. Хозяин и гость кинулись его поздравлять.
– Отец! – воскликнул Юлай. – Я назову его Салават!
Азат и Азнала переглянулись. «Салават!» было древним боевым кличем их рода, и, согласно старинным поверьям, дать мальчику такое имя означало обречь его на вечную битву.
– Юлай, – сказал старшина сыну, – не надо спешить, у тебя есть еще несколько дней, чтобы выбрать сыну доброе имя.
– Я уже все решил! – ответил молодой полусотник. – Моего сына будут звать Салават! Салават Юлаев!
Глава 8. 1915-й
Паровоз дал призывный гудок и начал медленно ворочать чугунными лапами. Вагоны, лязгая буферами, стали один за другим нехотя повиноваться этому движению. Мимо открытых нараспашку дверей теплушек медленно поплыли торговки с корзинками, в которых были укутаны горячая гречневая каша, вареная картошка и пирожки, курящий на перроне солдатский патруль с винтовками за плечами, вездесущие мальчишки, попы в черных рясах и обжигающие взгляд своей чистотой сестры милосердия.
На самом краю платформы, никого не стыдясь, справлял малую нужду однорукий солдат. Он равнодушно шаркнул взглядом по набирающим ход вагонам, из которых на него смотрели десятки глаз. Солдат нисколько не завидовал этим двуруким и двуногим людям, потому что на них были такие же серые шинели, как и на нем, и он слишком хорошо понимал, куда они едут и что их там ждет.
Второй год войны особенно сильно чувствовался на таких больших станциях, как Самара. На Запад каждый день ползли все новые и новые эшелоны с людьми, лошадьми, сукном, шерстью, сбруей, мукой, крупой и сеном. В обратную сторону эти поезда возвращались почти порожними, словно бы где-то там, на закатной стороне русской земли, разверзлась страшная яма, которую пытались закидать живым и неживым материалом. Впрочем, со встречными поездами порой возвращались искалеченные телом и душой солдаты; глядя на все это, люди понимали, что великая война складывается для империи нехорошо.