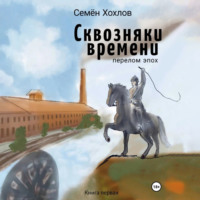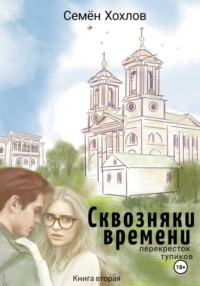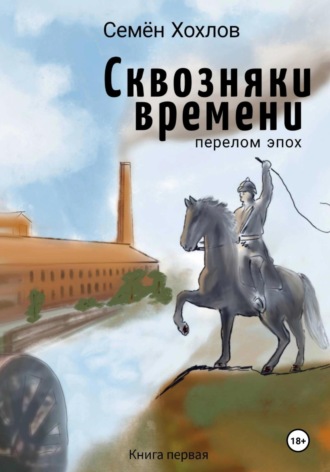
Полная версия
Сквозняки времени. Книга первая. Перелом эпох
Запив нехитрый обед молоком, Андрейка обратился к отцу с просьбой, которую лелеял всю дорогу до покоса:
– Пап, а можно я с тобой тут в лесу ночевать останусь?
Несколько дней назад, приготовляясь к покосу, отец с матерью договорились, что косить вместе с отцом пойдет Петька. Но теперь, после неудачной Петькиной рыбалки, Андрейке захотелось занять его место и, как совсем взрослому, ночевать на покосе с отцом. Антон на минуту задумался, размышляя, как бы помягче отказать младшему сыну. Без навыка косьбы тот был не работник и мог помочь только в качестве кострового, но костровой был бы нужен, только если бы тут работала целая бригада.
– Андрейка, ночи холодные, а ты без теплой одежки!..
– Я могу домой за одеждой сбегать!
– Андрей, ну сам подумай, время ли сейчас туда-сюда бегать, двадцать верст – это не шутка! А кто матери по хозяйству поможет? Одной воды сколько надо: и для Буренки, и для огорода!
Мальчик повесил голову и чуть не плакал от обиды.
– Ты же сейчас дома за главного мужика, пока я на покосе! – продолжил убеждать Антон. – Я и тут сейчас на твою помощь рассчитываю, нужно побольше дров для костра запасти и балаган подправить, прошлогодний уже никуда не годится!
Услышав, что он вместе с отцом будет строить шалаш, Андрейка воспрял духом.
– А что нужно для балагана?
– Возьми топор и сходи наруби побольше лапника! Если сушняк увидишь, то неси его для костра!
Через несколько часов, когда новый балаган красовался хвойными стенами и рядом были заготовлены сухие ветки и сучья для костра, Антон отправил довольного сына в город, а сам направился на поляну, чтобы продолжить косьбу.
К вечеру, когда раскаленное солнце начало цепляться за верхушки деревьев, жара стала спадать. Вместе с жарой куда-то попрятались слепни, и косить стало легче. Антон проходил все новые и новые ряды, сам удивляясь тому, сколько удалось сделать за первый день.
Наконец, решив, что на сегодня хватит, Гнедых отнес косу к балагану и по крутой, еле угадываемой в густых зарослях тропинке спустился к протекающему в низинке ручью, чтобы умыться и набрать в котелок воды. У ручья, раздевшись по пояс, громко кряхтя и отдуваясь, ополаскивался Алексей Антипович.
Антон стянул с себя заскорузлую от пота рубаху и, став рядом с соседом, принялся горстями черпать и лить на себя воду. Ручей начинался в сотне саженей отсюда, и бьющая прямо из-под земли родниковая вода была ледяной. Она приятно обжигала натруженное за день тело и словно бы смывала верхнюю грубую коросту усталости, оставляя в мышцах приятное эхо дневного труда.
Ополоснувшись, Антон наскоро прополоскал и отжал рубаху. Натянув на себя мокрую льняную ткань, он увидел, как Алексей Антипович достает из ручья бутыль зеленого стекла.
– Антон Данилович, заглядывай начало покоса отметить! – призывно взболтнув бутылкой, сосед стал подниматься от ручья.
Гнедых вернулся к своему балагану и, захватив жестяную кружку, картошку, сало и хлеб, отправился вечеровать к Алексею Антиповичу.
В густеющем лесном сумраке под висящим на толстой сырой палке котелком уютно плясали язычки огня, быстро поедая сухие ветки тальника. Такой костер почти не давал углей и поэтому был непригоден для долгого обогрева, зато позволял быстро сварить кулеш или вскипятить воду для чая.
Покосники негромко стукнулись жестяными кружками, и от холодного, как слеза чистого первача по всему телу стало разливаться приятное тепло. Антон и Алексей захрустели огурцами. Несколько минут они молча, с аппетитом отработавших день мужчин закусывали хлебом и салом.
– Ну вот, слава Богу, и косить начали! – первым прервал молчание Алексей Антипович. – Травы в этом году добрые! Еще бы картошка уродилась, и тогда зимовать не страшно. Мы все хоть и на заводской работе, а все равно от природы зависим!
– У меня еще дед любил повторять, что наши мужики одиннадцать часов в день – рабочие, а остальное время – крестьяне! – согласился Антон.
– Оно, конечно, так, только у нас на Урале с чистого крестьянского труда сыт не будешь – земля не та! – Алексей Антипович достал кисет и стал неспеша вертеть самокрутку. – Я по молодости работал в Воронежской губернии, мать у меня из тех мест, вот там – земля, так земля, чернозем! Палку в землю воткни – и она прорастает!
– Ну и как у них сейчас там? Многих на войну забрали?
– Да! Двоюродный брат писал, что как в прошлом году царь мобилизацию объявил, то которые и сами просились. Говорит, что в деревнях да по хуторам людей много стало, а земли свободной нет, вот мужики и не знают, куда себя девать. В город ехать – ремесло надо какое-нибудь знать, на завод или фабрику кого попало, сам понимаешь, не берут! А тут война! Ну и мужички, кто помоложе да посмелее, и пошли! Племянник мой тоже пошел, деньги уже родителям присылал, они на них патефон купили!
– Да… – задумчиво произнес Антон. – А ведь с нашего завода мало кого взяли!
– Говорят, что царь военному министру велел в первую голову крестьян набирать, а мастеровых пока не трогать!
– Надолго ли это «пока»? – Антон тоже полез за кисетом. – Ты Артура Батыева видел?
– Две недели назад видел его пьяного на базаре, на костылях еле шкандыбает. Мужики говорили, что он какие-то жуткие вещи рассказывает, они их батыевыми сказками называют!
– Истории он и вправду невеселые рассказывает, но вралем Артур раньше никогда не был, и я ему верю! – Антон потянул из костра тлеющую с одного конца веточку и прикурил от нее.
– Он вроде в вашем цеху раньше работал? – уточнил Алексей Антипович.
– В нашем, – подтвердил Антон. – Сначала, как пацаном пришел, так до действительной службы со старым Михеичем работал. Потом, как из армии вернулся, еще два года отработал. Ну а прошлым летом, как мы германцу войну объявили, его опять забрали.
– Ну и что, Батый рассказывает, как он ногу потерял?
– Говорит, что их прямо с Урала куда-то в Германию отправили. Первую неделю наши наступали и почти без боя немецкие городки занимали. Германцы вроде как не ожидали, что мы на них попрем, ну наши офицеры и раздухарились, что все так легко получается. А потом немцы с силами собрались и ка-ак дали по нашим! Батый говорит, что никто из наших генералов ничего и понять-то толком не успел. Только немцы принялись из пушек стрелять, а пушки у них такие, что за несколько верст бьют и даже не видно, где они стоят! Вот под такой выстрел Артур и угодил. Видимо, еще дешево отделался, потому что его увести успели, а через несколько дней после этого всех, кто там стоял, окружили и кого перебили, а кого в плен увели. Наш главный генерал, чтобы в плен не попасть, застрелился!
– Да, дела невеселые!.. В газетах пишут, что наши из Польши отступают и того гляди могут Варшаву оставить! – сокрушенно покачал головой Алексей Антипович. – Давай, Антон, еще по одной!
Они выпили по второй и снова захрустели огурцами. Крепкий самогон шибал в голову, и Антон начал заметно хмелеть.
– Я, Антипыч, вот чего понять не могу: ну сцепились в Европе все друг с другом, а мы-то чего в эту собачью свалку полезли? Нам от этого какой резон?
– У нашего царя с французами дружеский договор был подписан! – пояснил Алексей Антипович.
– Так мы и с немцами крепко дружили! – парировал Гнедых. – Вон на заводе среди приказчиков и инженеров в кого ни плюнь – в немца попадешь!
– Немцы за австрияков встали, а те против сербов поперли за то, что они австрийского принца застрелили. А сербы нам братья, и вера у них опять же православная, вот царю и пришлось вступиться! – Алексей Антипович внимательно следил за политикой и теперь ему было приятно показать свое понимание.
– Получается, что за сербов да за французов русские головы подставлять надо! Сколько народу в прошлом году по мобилизации взяли?
– Если опять же верить газетам, то четыре миллиона! – Алексей Антипович ответил вполголоса, словно бы опасаясь, что кто-нибудь здесь в лесу может его услышать.
– Вот! А если Варшаву не удержим, то придется еще народ собирать, и тогда уже и мастеровых могут начать грести! Тебе, Антипыч, сколько лет?
– Сорок четыре! А тебе?
– А мне тридцать восемь, меня могут и призвать.
Опасения Антона разделяли сейчас почти все рабочие. Над страной нависала угроза поражения, и люди чувствовали, что не сегодня, так завтра их могут оторвать от привычного круга забот и отправить отстаивать интересы империи далеко на запад.
– Давай, Антон сын Данилов, еще выпьем, чтобы война поскорее закончилась и миновала нас чаша сия!
Куницын налил в этот раз почти по полкружки, Антон даже не смог выпить все одним глотком. Закусив, Алексей Антипович стал подкидывать в костер сухие ветки. Хмель приятно гулял в голове, потрескивающее пламя стало ярче и словно бы отодвинуло куда-то в темноту тяжелый груз Антоновых мыслей.
– Я, Антон Данилыч, вот о чем хотел тебя спросить… – Куницын подложил в огонь очередной сук и говорил не глядя на Гнедых. – Говорят, что вы с товарищами интересное дело задумали…
– Какое такое дело? – Антон только что сидел, не думая ни о чем, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы понять, о чем говорит сосед.
– Говорят, будто бы вы с Плотниковым и Метелиным задумали лесопильню открыть…
– Кто это, интересно, говорит? – насторожился Антон.
– Земля слухом полнится! – неопределенно ответил Алексей Антипович. – Только я, Антон Данилович, не из простого любопытства интересуюсь, я хочу в компаньоны к вам попроситься!
Антон напряженно замолчал, размышляя, как бы помягче отказать. Четвертый конь в упряжке явно был лишним, тем более, что этот конь имел не самый простой характер и мог начать тянуть все на себя, а то и вовсе захотеть стать возницей и взять в руки вожжи и кнут.
Глава 3. 1987-1994-й
Пять лет назад, когда Света оканчивала школу, у нее не было никакого сомнения по поводу будущей профессии. В пятом классе, как только начались уроки истории, она влюбилась в этот предмет.
Все годы историю преподавала Надежда Ивановна, очень мирная женщина предпенсионного возраста. Держать класс в узде учительница совершенно не умела, поэтому на ее уроках стоял постоянный ребячий гвалт. Надежда Ивановна, силясь перекричать школьников, старалась говорить громче, от этого постоянно срывала голос и говорила хрипло. От мамы Света не раз слышала, что многие педагоги в учительской просили историчку быть построже, потому что шум на ее уроках мешал занятиям в соседних классах. Надежда Ивановна мучилась, пыталась вызывать главных смутьянов к доске и ставила им за незнания двойки, но ничего сделать с дисциплиной не могла.
При этом ученики любили историчку, твердо зная, что поставленные на уроках двойки можно будет исправить. Надежда Ивановна в конце четверти заранее раздавала темы, каждый неуспевающий готовил свой кусок, и на таких уроках в классе стояла тишина. В итоге должники получали необходимые им тройки, а иногда и четверки за четверть. После этого в начале новой четверти история на уроках истории повторялась – все снова галдели и не слушали бедную Надежду Ивановну.
Вопреки остальным, Света любила историю не за мягкость учительницы, а за саму суть предмета. Начиная с последней группы детского сада эту любовь ей прививал ее отец. Работая инженером на заводе, он перечитал все что можно в районной библиотеке и имел очень стройное представление об истории России и Советского Союза.
Папа любил рассказывать семейную легенду, согласно которой его дед Иван Кондратьевич имел дворянские корни и служил офицером в царской армии. Однако во время Гражданской войны дед перешел на сторону красных и, чтобы порвать связь со своим дворянским прошлым, попросил у командования разрешение на смену фамилии. Семейное предание гласит, что по распоряжению самого Блюхера красного командира стали именовать Калининым. В память от деда у папы хранился старинный золотой перстень, и Света любила, рассматривая это кольцо, представлять, как жили ее предки.
Однажды, когда Света уже училась в десятом, папа принес вырезку из областной газеты. В статье сообщалось, что летом 1987 года советскими археологами был обнаружен древний город на юге Челябинской области, получивший название Аркаим по имени холма, под которым были проведены раскопки.
Все последующие годы Света с папой жадно вылавливали из многочисленных газет небольшие сообщения о ходе раскопок. Уже было известно, что городу более четырех тысяч лет, что он сохранился в очень хорошем состоянии и что жители, по всей видимости, использовали город как храмовый комплекс и покинули его все разом.
Открытие древнего города в родной области совершенно потрясло комсомолку Свету Калинину и еще сильнее утвердило ее в намерении поступать на исторический факультет Челябинского госуниверситета.
Между тем в стране происходили изменения. Магазины все чаще встречали покупателей пустыми полками. Появились талоны на сахар, колбасу, сливочное масло. Самой важной единицей размена стали не деньги, а бутылки водки: имея ящик «беленькой» можно было за пару месяцев построить гараж или дачный домик.
Комсомольские собрания стали принимать форму спектаклей, в актах которых вожаки привычно рубили руками воздух, призывая к добросовестной работе для общей перестройки, а в антрактах те же ребята хвастались друг перед другом джинсами-варенками и обменивались новыми записями Виктора Цоя, бубня под нос: «Перемен требуют наши сердца!..»
Летом 1990-го Света поступила в университет. Произошло это как-то легко: в приемной комиссии чувствовалась растерянность, количество абитуриентов, стремившихся постигать историческую науку, было весьма скромным, едва-едва больше, чем количество мест.
Когда на втором курсе Света готовилась сдавать зимнюю сессию, красный флаг над Сенатским дворцом в Кремле был спущен и вместо него на флагшток был поднят триколор новой России – Советский Союз прекратил свое существование. Преподаватели, кандидаты и доктора исторических наук почувствовали себя ненужными в новорожденной Российской Федерации. Еще несколько лет назад их предметы считались важнейшими для любой специальности, историю и философию всегда ставили первой парой, посещение являлось строго обязательным, а нарушители нещадно карались.
Теперь же все изменилось, на лекциях бывало не более половины студентов, да и те могли откровенно читать газеты или конспекты других лекторов. Света не раз видела, как на их кафедру заходили преподаватели и показывали своим коллегам новые книги о «настоящей истории России». Профессора-историки заглядывали в них, отчего их совсем негустые шевелюры становились дыбом. Спорили с псевдофактами, противоречащими здравому смыслу, после чего жадно глотали валидол и валерьянку. Однако напечатанная на деньги неведомого Сороса литература подкупала красотой обложки и качеством бумаги, и эти недорогие издания были широко представлены на многочисленных книжных развалах, где совсем уже немыслимо было встретить затертый томик «Краткой истории КПСС».
Хотя требования к студентам-историкам резко снизились, группа, в которой училась Света, потихоньку уменьшалась. Кто-то находил возможность перевестись на юридический или лингвистический факультеты, престиж которых, и так немалый в «старое время», теперь подскочил до небес. Кто-то уходил в бизнес, пробуя себя в ларечной торговле. Светина подруга Маша забросила учебу и стала летать вместе со своей мамой и тетей в Турцию за шмотками, пополнив армию челноков.
Как-то раз Света встретила ее на Зеленом рынке Челябинска, где Маша бойко торговала вязаными свитерами и носками. После того как подруги расцеловались, Маша призналась, что хочет вернуться и доучиться на историка, потому что теперь столько знает про турков, что с легкостью напишет любой диплом. После этого она всучила Свете очень красивый белый свитер, отдавая его за полцены. Смутившаяся студентка призналась, что у нее и от половины цены, есть только треть. Однако Маша все равно впихнула ей свитер, и Света заносила ей деньги потом. С тех пор она обновляла свой гардероб только у Маши, а та неизменно ей делала половинную скидку, обещая вскоре вернуться на учебу. Когда Света забежала в Машину палатку два дня назад, чтобы купить кофточку в подарок сестре, то в палатке торговала незнакомая девушка. На вопрос Светы: «Где же Маша?», та ответила, что Мария Петровна в палатке на другом конце рынка – дела у подруги явно шли в гору.
Постепенно из шестидесяти студентов на потоке осталось только двенадцать человек, десять из которых были девушки. Полтора года назад по факультету прокатилась небольшая волна энтузиазма – на высокогорном плато Горного Алтая, где сходятся границы сразу четырех государств: России, Казахстана, Монголии и Китая – при раскопках был обнаружен саркофаг с отлично сохранившейся мумией молодой женщины: ее обнаружила аспирантка из Новосибирска, которой доверили раскапывать второстепенное захоронение. Находку ретивые журналисты окрестили Принцессой Укока.
Курган уже имел следы раскопок, видимо, несколько столетий назад там побывали бугровщики – охотники за древним скифским золотом. Малоперспективный могильник доверили аспирантке, обнаружившей сначала могилу убитого юноши, под которой лежали тела шестерых коней. Уже под ними был раскопан еще один погребальный сруб с саркофагом из ствола лиственницы. По всей видимости, почти сразу после захоронения в погребальную камеру проникла вода, которая быстро замерзла, благодаря чему покоившееся в саркофаге тело, пролежав во льду две тысячи четыреста лет, прекрасно сохранилось. Принцесса Укока не относилась к знатному роду, скорее всего, она была жрицей или шаманкой, поэтому ее и похоронили в отдельной могиле.
Теперь новосибирские археологи были нарасхват, их приглашали с докладами в Китай, Европу и даже США. Прошлой осенью они выступали с докладом в университете Екатеринбурга, и Света в составе группы из преподавателей и студентов ездила туда на специально выделенном автобусе.
На фоне общего уныния исторического факультета ярко выделялась Ольга Павловна Жалова, которая считала, что смутные времена рано или поздно пройдут и стране еще понадобится ее настоящая история. Чтобы встряхнуть факультет, она придумала сделать цикл дипломных работ, посвященных Пугачевскому восстанию. По ее мнению, такой подход позволял по-новому взглянуть на эту проблему. Своим энтузиазмом Ольга Павловна заразила дипломниц, и они отправились собирать материал в краеведческие музеи родных городков.
Света часто думала, что в истории еще очень много белых пятен, раз совершенно неожиданно в России древние курганы начинают отдавать давно забытые города и саркофаги со спящими принцессами. Нужно только суметь почувствовать дыхание времени.
Глава 4. 1915-й
Постройка лесопильни была их давним замыслом, трудным и почти нереализуемым шансом выскочить из хомута вечного безденежья. Идея эта родилась в виде шутки прошлой весной, когда машинист Ероха Метелин решил срубить новую баню и пригласил себе в помощь двух своих закадычных друзей: Антоху Гнедых и Витьку Плотникова.
Взяв лопаты, мужики раскидали на Ерохином огороде тяжелый мартовский снег и принялись рубить стены будущей бани. Работали в основном по вечерам: световой день быстро прирастал, и вместе с ним венец за венцом рос сруб будущей мыльни.
Когда сруб был готов, они раскатали его по бревнышку и снова собрали на том месте, где до этого стояла старая, топившаяся по-черному баня. Бревна проложили сухим мхом, прорубили оконце и дверь и принялись настилать тесовую крышу. Вот тогда-то Ерофей и пожаловался на то, как дорого стало нынче покупать доски. На это друзья в шутку посоветовали машинисту открыть свою лесопильню.
Когда баня была готова, на первый парок топившейся по-белому печки Ерофей пригласил своих товарищей и выставил им в предбаннике литровку. Друзья выпили за баню, за владельца бани и, пожелав ему и дальше в справе держать свое хозяйство, вспомнили о необходимости собственной лесопильни.
Сидя тогда в новом предбаннике, Ерофей ответил, что нет ничего проще, надо только снять паровую машину с какого-нибудь старого паровоза. А уж он как опытный машинист сможет ее обслужить. К тому же, Антон и Виктор тоже кое-что понимают в механике и помогут ему в строительстве лесопильни.
Они тут же стали прикидывать, много ли сейчас в Катав-Ивановске работы с лесом, на что гонявший груженные железом составы Метелин сообщил, что пока по всей России строятся железные дороги, нужно бесконечное количество шпал и досок с брусом для вагонов-теплушек. Поэтому, даже если лесопильня не будет занята местными заказами, можно будет брать подряды железнодорожных акционерных обществ.
Для топлива можно покупать уголь, который добывают недалеко в Копейске. Уголек там хоть и плохонький, бурый, но ведь и машине не вагоны за собой тянуть, мощи вполне хватит. Опять же, можно сжигать или продавать на дрова все деревянные обрезки, которые будут оставаться после роспуска лесин на доски.
Тут Витька вспомнил, что однажды к ним в цех привозили для ремонта механизм зерновой мельницы, которая могла работать и от машины, и от ветряка. Если лесопильню поставить на пригорке, то в ветреные дни и угля никакого не надо: ветер будет крутить шкив пилы бесплатно. Из приоткрытой двери предбанника было видно, как за заводским прудом торчит лысая верхушка большого бугра, называемого Шиханкой. К подножию этой горы кривыми улицами лепились ряды домов, но строиться ближе к вершине никто не хотел: слишком ветрено и неуютно, даже деревья не растут.
– Ветряк на Шиханке надо ставить! – сказал тогда Витька. – Там почти всегда ветродуй, и дорога дотуда почти готова, от домов меньше версты дотянуть надо.
– Где ты на Шиханке воду для машины возьмешь? – возразил Ерофей. – Там ключей нету!
– Воду в бочках подвозить можно! – стал отстаивать свою идею Витька. – Нам даже не обязательно самим возить, люди будут готовы за скидку на распил водовозить!
Откуда ни зайди, идея получалась выгодной, и все упиралось только в одно: где взять деньги на покупку машины и постройку лесопильни. Увлекшись, друзья просидели тогда в бане до ночи и, прежде чем разойтись, условились собирать деньги и во что бы то ни стало никому не говорить про их затею.
В мечтаниях и сомнениях прошел целый год, и вот месяц назад Метелин снова пригласил друзей попариться.
– Есть подходящая машина! – выдохнул Ероха, когда они втроем вывалились передохнуть из жаркой бани в знакомый предбанник.
– Ну? – Антон и Витька нетерпеливо уставились на друга.
– В Златоусте на маневровом паровозе стоит, – Ероха вытер полотенцем крупные бисеринки выступившего на груди пота. Был он жилист и черняв, говорил неспеша, хоть и отлично понимал, как не терпится сейчас друзьям. – Помните, в феврале морозы под пятьдесят гнули? С железом на холоде надо с пониманием работать, оно хрупким становиться. А они на маневровый молодого машиниста поставили, а он к полному составу товарных вагонов на большой скорости подошел. Случись бы это все летом, так, наверное, и обошлось бы. А тут – зима да такой мороз, что уши в трубочку сворачиваются! Вот у паровоза рама в двух местах и лопнула! Раму уже не отремонтировать, надо полпаровоза менять! Поэтому его теперь продавать хотят!
– А ты машину смотрел? – спросил Виктор.
– Смотрел!
– Ну и как?
Прежде чем ответить, машинист пододвинул к себе три кружки и из большой банки налил себе и друзьям янтарного квасу. Все с удовольствием принялись тянуть прохладный напиток.
– В котле извести прилично накипело, но это можно почистить, – принялся перечислять Ерофей, – один выпускной клапан чуть стучит, палец на нем менять надо, в паропроводе прокладки еле держат, и два монометра совсем никудышные! Но это все ерунда, дней на пять работы!
– А сколько за машину хотят? – спросил Антон, и они с Витькой даже перестали дышать.
– Четыре тысячи целковых! – ответил Ерофей, пристально глядя на сучок в столешнице. – Еще тридцать рублей на монометры, палец и прокладки, они в златоустовском депо есть. Кроме того, надо железной дороге сто двадцать рублей перегонных заплатить, воду нам бесплатно зальют, но нужны дрова или уголь, это еще рубликов тридцать. Все вместе почти четыре тысячи двести получается!
– Ох, ни хрена себе! – Витька откинулся назад и с шумом стукнулся головой о деревянную стенку предбанника.
– Как же машину сюда перегонять? Ты же говоришь, что у паровоза рама лопнутая! – уточнил Антон. – Другой паровоз нанимать надо?
– Не надо! До нас от Златоуста меньше ста пятидесяти верст, потихонечку дошкандыбать своим ходом можно! – ответил Ерофей. – Давайте думать, где денег взять!
– Фундамент же еще лить надо! Да пила со всеми приводами, да постройка, да ветряк! Мы не потянем! – запаниковал Витька.
– А мы не будем все разом делать! Фундамент зальем, какой надо, а стены пока по времяночке поставим и постройку ветряка отложим! С машиной мы зимой даже за тонкими стенами не замерзнем, а уж как лесопильня начнет доход приносить, так мы и ветряк надстроим! – видимо, Ерофей уже не раз крутил все это у себя в голове и теперь довольно убедительно излагал друзьям.