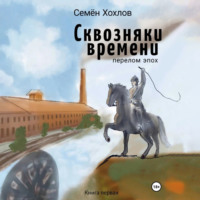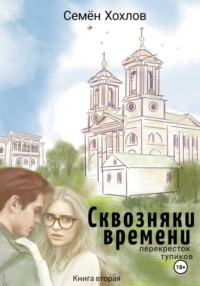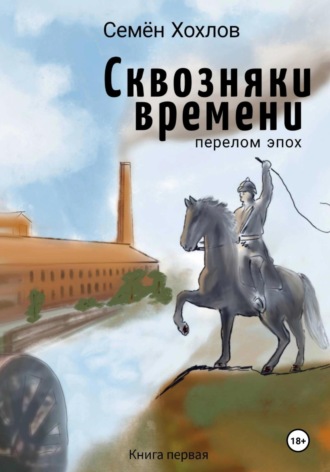
Полная версия
Сквозняки времени. Книга первая. Перелом эпох
– И сколько все это может стоить? – понуро спросил Виктор.
– Шесть с половиной тысяч! – ответил Ерофей и, придвинув к себе кружки, опять налил всем квасу.
– У меня всего двести семьдесят рублей отложено, и то придется Зинаиду убеждать, что для дела надо, – потупясь, признался Виктор. – Ну если еще у родни позанимать, то рублей четыреста на все про все наскребу!
– У меня шестьсот восемьдесят лежит, но больше шестисот вложить не смогу, придется же на заводе расчет брать, и первое время на что-то жить надо! – сказал Антон.
– Ну и у меня семьсот пятьдесят, и я, как и Антоха, пятьдесят рублей хочу на жизнь оставить. Думал я, что мы все вместе пару тысяч наскребем, но набирается только тысяча семьсот рубликов, – подытожил Ерофей. – Ну что же, видать, нам надо идти на поклон к Василию Матвеевичу Больщикову!
Каменный дом купца Больщикова стоял в центре города на Калиновой улице недалеко от площади с храмом. Был он сложен из того же плитняка, что и построенная купцом школа. Двухэтажный и длинный, он возвышался над деревянными избами соседей и походил на племенного быка, зачем-то забредшего в стадо овец.
На первом этаже дома располагалась контора, лавка, кухня и жилые помещения для работников. На втором этаже жило большое купеческое семейство. За домом стояли многочисленные сараи и амбары, в которые то и дело что-то приносили и уносили. Перед лавкой грузилось несколько подвод, кряжистый работник таскал к ним четырехпудовые мешки с мукой.
Антон, Ерофей и Виктор вошли в контору и поинтересовались, могут ли они видеть хозяина. Конторский мужичок провел их в соседнюю комнату, где за большим столом работал секретарь купца.
– Вы по какому вопросу? – сухо поинтересовался он, оторвавшись от книги с таблицами.
– Говорить хотим с Василием Матвеевичем! – неприветливо пояснил Ерофей, ему не хотелось открывать этому человеку, что они пришли просить денег в долг.
– Я вижу, что не христосоваться пришли! Какое у вас к нему дело?
– Дело очень важное, поговорить нужно с твоим хозяином! – продолжил топтаться на месте Ерофей.
– Василий Матвеевич очень занят и не велел никому беспокоить! Изложите суть дела мне, а дальше посмотрим, докладывать ему или погодить! – секретаря начал раздражать этот настырный рабочий, который, судя по въевшейся в морщинках у глаз копоти, был или сталеваром, или машинистом.
– Говорят же тебе, что дело у нас до купца!.. – решил помочь другу Виктор.
– Вот я и спрашиваю, какое у вас дело? – расставляя слова, повторил секретарь.
– Личное у нас дело, понимаешь! – Витька начал горячиться и от этого стал говорить громче, как в заводском цеху при споре с мастером.
В этот момент ведущая в кабинет Больщикова дверь открылась и на пороге появился сам Василий Матвеевич. Небольшая бородка купца была аккуратно подстрижена, из-под бровей смотрели внимательные глаза. Одет он был по-деловому: белая сорочка, жилет, брюки и легкие сапоги. Из кармана жилета, поблескивая золотом, свисала цепочка от часов.
– Иван, что тут происходит?
– Вот, Василий Матвеевич, рвутся к вам, а за какой надобностью – сказать не хотят! – кивнул на посетителей секретарь.
Больщиков всмотрелся в лицо Ерофея.
– Это ты в прошлом году помогал паровое отопление в школе налаживать?
– Я, Василь Матвеевич, твои рабочие тогда котел неправильно собрали, и в системе циркуляции не было! – напомнил Метелин.
Купец окончательно вспомнил машиниста. Вспомнил и то, что он отказался брать за свою работу деньги. Впрочем, тогда многие отказывались от оплаты или брали совсем немного, зная, что Василий Матвеевич возводит школу за свой кошт.
– Проходите! —приглашающе мотнул головой Больщиков.
Антон с товарищами вошли в просторный светлый кабинет. Мебели тут было немного: два стола, стулья, шкаф с книгами и большие напольные часы. В углу висели образа, под которыми еле видным в дневном свете огоньком горела лампадка. Больщиков рассадил всех по стульям и сел сам.
– Ну, рассказывайте, что у вас за дело!
Ерофей начал рассказывать, сначала немного сбивчиво, но потом выправился. Василий Матвеевич слушал внимательно и не перебивал. Когда наконец Метелин дошел до сути и сказал, что им нужно взаймы пять тысяч, купец как-то ойкнул, после чего потянулся за лежащем на столе карандашом.
– Ну-ка, давай сызнова! Сколько, говоришь, стоит машина? – Больщиков принялся выписывать ответы Ерофея на листок бумаги. – Во сколько фундамент обойдется? Пильный механизм? Сколь у вас своих средств имеется?
Выписав числа в два столбика, он побарабанил карандашом по столу.
– Та-ак, значит вы затеяли предприятие, на которое у вас имеется только четверть суммы и предлагаете, чтобы остальные средства вложил я?
– Мы взаймы просим, в рост! – пояснил машинист.
– А с чего вы взяли, что я даю деньги в рост?
– Три года назад ты Мишке Соснову двести рублей ссуживал на постройку дома после пожара, – вступил в разговор Антон.
– Было такое! – кивнул головой Больщиков. – Но Соснов – погорелец, и помочь ему сам Бог велел. Я с него хоть и расписочку взял, что деньги даны под пять копеек с рубля, но в конце все проценты ему назад вернул.
Мишка тогда действительно рассказывал всем в городе, что купец помог ему бескорыстно.
– Ну, положим, что я соглашусь вам помочь, – продолжил Больщиков, – и под какой процент вы думаете получить деньги?
– Копеек бы под семь, как в Крестьянском банке… – закинул удочку Ерофей.
– Тю! Да вы, мужики, видно, жизни совсем не знаете! – ахнул Василий Матвеевич. – Сейчас под семь процентов даже под надежный заклад никто не даст! Война же идет! А это что значит, знаете?
Мужики переглянулись и отрицательно помотали головами.
– Во-первых, рубль слабнет! – стал пояснять Больщиков. – Если пуд ржаной муки сегодня стоит полтора рубля, то через год он если не на десять, то на восемь копеек подорожает! А во-вторых, деньги сейчас очень дороги, потому как во время войны самое время капитал делать! Все рвачи сейчас стараются хватать подряды на поставку фуража и провианта для армии! Даже лежалое гнилье на фронт пытаются сбагрить! Вот и получается, что теперь за год многие купцы втрое против прежнего успевают провернуться! Две недели назад один мой уфимский знакомец другому знакомцу денег ссудил за тридцать пять копеек за рубль!
Антон, Виктор и Ерофей ахнули.
– Вот видите! И ведь это оба человека с понятием! – продолжал рассуждать купец. – А вы пока в таких делах люди новые, вас на мякине провести можно!
– Родитель твой, Василь Матвеевич, тоже из кузнецов вышел. И ничего, смог разобраться, авось и нам удача будет! – задористо махнул кулаком Ерофей.
– Да, батюшка тяжело начинал, царство ему небесное! – Больщиков перекрестился на образа. – Но и люди тогда другие были, честнее, ни в пример нынешним! Если купец с тобой рука об руку ударял, то ты был уверен, что он расшибится, но слово свое сдержит! Сейчас – не то, бумаги пишем, а прежнего доверия друг к другу все равно нет! Потому как люди перестают быть купцами, а становятся коммерсантами!
Мужики согласно закивали головами, Больщиков неожиданно разговорился, и они не понимали, отказал он им с займом или еще думает.
– Ладно! Хотите я вас научу коня покупать? – неожиданно предложил Василий Матвеевич.
– Торговаться что ли? – не понял Витька.
– Не столько торговаться, сколько выбирать. Конь – он только для нагляду, с сеялкой или паровой машиной все так же! – запутал всех купец.
– Ну давай! – согласился Ероха, ему стало интересно услышать от торгового человека советы по выбору машин.
– Вот на что по-твоему надо в первую очередь смотреть при выборе коня? – в глазах Больщикова мелькнула хитринка, как будто он задал заковыристую загадку.
– На зубы! – сразу ответил Ерофей.
– Зубы – это важно, но не самое главное! – парировал купец.
– Ну тогда на стать надо смотреть! Как он стоит, пляшет на месте или нет! – сделал вторую попытку Ерофей.
– Это важно, но не в первую очередь! – продолжил хитрить Василий Матвеевич.
– Шерсть у него надо пощупать и жилы на ногах потрогать! На копыта посмотреть, стоптанные или нет! – стали наперебой предлагать Виктор и Антон.
Хозяин кабинета опять отрицательно покачал головой.
– А на что же надо тогда смотреть? – озадаченно спросил машинист.
Больщиков назидательно поднял указательный палец вверх:
– В первую очередь всегда сначала смотри на продавца! Если он тебе не нравится, то каким бы ни был товар, не важно – конь или телега, покупать не надо!
Мужики одобрительно заулыбались: у каждого в жизни была такая сделка, когда чуйка говорила, что лезть не надо, но жадность брала свое. Ерофей вспомнил купленные по молодости за полцены красивые сапоги, оказавшиеся крадеными, – их пришлось вернуть владельцу. Антон вспомнил, как почти задаром купил у воровато оглядывающейся бабы мешок ржаной муки, которая, как выяснилось дома, была с плесенью. А Витька вспомнил, как на железнодорожной станции всклокоченный цыган всучил ему бочонок меда. Витька отчетливо помнил, что пробовал мед именно из этого бочонка, но по приезде домой обнаружил внутри какую-то студенистую дрянь.
– Еще хочу сказать, что коли вы большое дело затеваете, то вам нужно с разными людьми говорить научиться! – продолжил Больщиков. – Вот вы сейчас с моим секретарем чуть не полаялись, а того не знаете, что секретари да разные приказчики на предприятиях – первые люди! Вы, к примеру, договорились с промышленником в его конторе, что он вам лесу отпустит. Но какие бревна вам передавать, будет на месте приказчик решать. Может, корабельную сосну первый сорт выдаст, а может, и с червоточинкой подсунет. Поэтому и надо к человеку подход иметь! Иного не зазорно и папиросками угостить или полфунтом чая, но только так, чтобы человек видел, что это от души идет!
Витька сердито засопел, видимо, представив себе, как он угощает папиросками секретаря. Ерофей добродушно ухмыльнулся, чувствуя в словах купца правоту.
– Ладно, мужики! Покалякали – и к делу! – Василий Матвеевич сдвинул брови и стал еще серьезнее. – Денег я вам дать готов, пять тысяч, сколь просите! Но слово мое такое: двадцать пять копеек с рубля и проценты платить каждые полгода!
– Нельзя хотя бы двадцать копеек, Василь Матвеевич? – попробовал торговаться Ерофей.
– Нет, мужики! Слово мое последнее. и я вас не неволю! Деньги нынче дороги, и двадцать пять копеек я с вас беру не чтобы в прибыли быть, а чтобы в убыток не уйти. Так что решайте, согласны или нет?
Ерофей, Антон и Виктор переглянулись, Антон чуть кивнул головой, Витька махнул рукой, словно говорил: «Пропади оно все!»
– Мы согласны! – наконец ответил за всех машинист.
– Ну и помоги вам Бог! – Больщиков снова перекрестился на образа. – Только помните, что вы не погорельцы и мы с вами не школу взялись строить! Вы теперь деловые люди, и спрос с вас будет, как с деловых! Дня за три до того, как соберетесь ехать за машиной, приходите вексель оформить. Работать будете с Иваном Денисовичем Котенко, моим секретарем. Он малый с головой, год-два и, глядишь, отколется от меня, свое дело начнет. Лесопильня ваша вместе с машиной в залоге будет. Нотариусу за сделку приготовьте рублей пятнадцать-двадцать, это у Ивана уточнить можно. Что еще? Разрешение на строительство вам надо у городского головы справить, с этой бумагой опять же Иван вам помочь может. Ну а как опилки из под пилы у вас полетят, приходите, я вам малость с подрядами подсоблю!
Все трое пожали крепко сбитую руку купца, после чего Василий Матвеевич проводил их до секретаря. Иван Денисович уже без всякой неприязни, спокойно стал растолковывать порядок оформления залога и выписки векселя.
Когда Антон, Виктор и Ерофей вышли из конторы Больщикова, на улице ярко припекало летнее солнце. Подводы с мукой уехали, оставив на земле кругляки конского навоза, в которых, шумно споря между собой, копалось несколько воробьев.
– Ну что, мужики, нас есть с чем поздравить! – осклабился Ерофей и принялся пожимать руки товарищам.
– Да, такие денжища берем, что думать страшно! – покачал головой Антон.
– Эх, сами себе на шею хомут вешаем! – невесело улыбнулся Витька.
Глава 5. 1995-й
Света, задумавшись, смотрела в темноту окна, за которым в бесноватом танце кружилась и выла метель. Видимо, древние славяне не зря называли февраль вьюговеем.
– Как метет! – похоже, папа угадал ее мысли. – У Пушкина в «Капитанской дочке» Петруша Гринев с Пугачевым именно в такую пургу познакомился. Кстати, Свет, а вам в дипломе на художественную литературу можно ссылаться или только на более серьезные книги?
– Так у Пушкина, пап, есть серьезное историческое исследование Пугачевского восстания, я как раз планирую с него начать. Сейчас… – Света вышла из кухни и вернулась через минуту с небольшой книгой в руках. – Вот, смотри, Александр Сергеевич Пушкин «История Пугачева»!
На кухню вернулась мама.
– Я все постелила. Не пора ли спать ложиться?
– Сейчас, мам! Только папе покажу одно очень интересное место…
Света раскрыла книгу на странице с оставленной закладкой.
– Вот тут где-то… Ага, вот! – и она начала читать вслух:
«Пугачев быстро переходил с одного места на другое. Чернь по-прежнему стала стекаться около него; башкирцы, уже почти усмиренные, снова взволновались. Комендант Верхо-Яицкой крепости, полковник Ступишин, вошел в Башкирию, сжег несколько пустых селений и, захватив одного из бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы правой руки и отпустил его, грозясь поступить таким же образом со всеми бунтовщиками. Башкирцы не унялись. Старый их мятежник Юлай, скрывшийся во время казней 1741 года, явился между ими с сыном своим Салаватом…»
– Тут у Александра Сергеевича явная ошибка, – Света оторвалась от чтения, – Юлай Азналин, отец Салавата Юлаева, родился только в 1730-м и во время восстания, в 1741-ом, ему было не больше одиннадцати лет. Видимо, Пушкин перепутал его с Азналой Карагужиным, дедом Салавата. Впрочем, это не так важно…
Света снова начала читать:
«Вся Башкирия восстала, и бедствие разгорелось с вящей силою. Фрейман должен был преследовать Пугачева; Михельсон силился пресечь ему дорогу; но распутица его спасала. Дороги были непроходимы, люди вязли в бездонной грязи; реки разливались на несколько верст; ручьи становились реками. Фрейман остановился в Стерлитамацке. Михельсон, успевший еще переправиться через Вятку по льду, а через Уфу на осьми лодках, продолжал путь, несмотря на всевозможные препятствия, и 5 мая у Симского завода настиг толпу башкирцев, предводительствуемых свирепым Салаватом. Михельсон прогнал их, завод освободил и через день пошел далее. Салават остановился в осьмнадцати верстах от завода, ожидая Белобородова. Они соединились и выступили навстречу Михельсону с двумя тысячами бунтовщиков и с осьмью пушками. Михельсон разбил их снова, отнял у них пушки, положил на месте до трехсот человек, рассеял остальных и спешил к Уйскому заводу, надеясь настигнуть самого Пугачева; но вскоре узнал, что самозванец находился уже на Белорецких заводах.
За рекою Юрзенем Михельсон успел разбить еще толпу мятежников и преследовал их до Саткинского завода. Тут узнал он, что Пугачев, набрав до шести тысяч башкирцев и крестьян, пошел на крепость Магнитную. Михельсон решился углубиться в Уральские горы, надеясь соединиться с Фрейманом около вершины Яика.
Пугачев, зажегши ограбленные им Белорецкие заводы, быстро перешел через Уральские горы и 5 мая приступил к Магнитной, не имея при себе ни одной пушки. …»
– Я тут несколько страниц пропущу, – Света подняла глаза от книги. – Тут у Пушкина идут описания боев между Декалонгом и Пугачевым, потом события снова в наши края перемещаются. Ага, вот здесь:
«Михельсон между тем шел Уральскими горами, по дорогам мало известным. Деревни башкирские были пусты. Не было возможности достать нужные припасы. Отряд его был в ежечасной опасности. Многочисленные шайки бунтовщиков кружились около его.
23-го Михельсон пошел на Чербакульскую крепость. Казаки, в ней находившиеся, бунтовали. Михельсон привел их к присяге, присоединив к своему отряду, и впоследствии был всегда ими доволен.
Жолобов и Гагрин действовали медленно и нерешительно. Жолобов, уведомив Михельсона, что Пугачев собрал остаток рассеянной толпы и набирает новую, отказался идти против его под предлогом разлития рек и дурных дорог. Михельсон жаловался Декалонгу; а Декалонг, сам обещаясь выступить для истребления последних сил самозванца, остался в Челябе и еще отозвал к себе Жолобова и Гагрина.
Таким образом, преследование Пугачева предоставлено было одному Михельсону. Он пошел к Златоустовскому заводу, услыша, что там находилось несколько яицких бунтовщиков; но они бежали, узнав о его приближении. След их чем далее шел, тем более рассыпался, и наконец совсем пропал.
27 мая Михельсон прибыл на Саткинский завод. Салават с новою шайкою злодействовал в окрестностях. Уже Симской завод был им разграблен и сожжен. Услыша о Михельсоне, он перешел реку Ай и остановился в горах, где Пугачев, избавясь от погони Гагрина и Жолобова и собрав уже до двух тысяч всякой сволочи, с ним успел соединиться».
– Так, тут у Александра Сергеевича опять описание боев идет, – Света перевернула несколько страниц и продолжила:
«При всех своих успехах Михельсон увидел необходимость прекратить на время свое преследование. У него уже не было ни запасов, ни зарядов. Оставалось только по два патрона на человека. Михельсон пошел в Уфу, дабы там запастися всем для него нужным…»
– Ну все, дальше уже не про наши места! – закончила Света.
– Обалдеть! – папа был явно впечатлен, – Битва за рекой Юрзенем – это же наша река Юрюзань! Симской, Саткинский, Белорецкий заводы – серьезная война в округе кипела!
– Дочь, а Пушкин Чебаркуль Чербаркульской крепостью называет? – спросила мама.
– Ага! – коротко подтвердила Света.
– И башкиры у него – башкирцы! – весело заметил папа. – А что, Пушкин в наших краях был?
– Нет, – ответила Света, – он и в Оренбург на три дня всего приезжал в 1833-м, а после этого и «Капитанскую дочку» написал и «Историю Пугачева».
– Вот что значит гений! – заметил папа. – Съездил на три дня в Оренбург и сразу две книги после этого выдал!
– Так, гении мои, – строго сказала мама, – три часа ночи, не пора ли спать?
Через двадцать минут все в квартире Калининых крепко спали.
Глава 6. 1773-й
Обоз из двадцати двух подвод медленно карабкался в гору, которая взбугрилась по Сибирской дороге примерно посередине между крепостями Уфа и Челяба. Время для лошадей было самое тяжелое: несколько недель после Покрова лили дожди. Они сбивали осенние листья с берез и осин, отчего многоцветный в начале осени лес редел и становился грязно-зеленым – теперь до весны в нем будут только хвойные цвета.
Уже несколько раз пробовал ложиться снег, он прикрывал поля и перелески, но в колеях дороги чавкала грязь, по которой выбивающиеся из сил лошади тащили тяжело нагруженные рудой телеги.
От бакальских рудников до дальнего завода было больше сорока верст горами, и в мокрое осеннее время обоз этот путь делали в два дня. Крестьяне молили у природы морозов, которые сковали бы жижу и позволили бы сменить постылые телеги на быстрые сани. В санях этот же путь успевали проделать за один день, при этом лошади не так сильно уставали.
Степан Мельников ехал из рудников верхом. Управляющий Катав-Ивановского завода разрешил старшему мастеру воспользоваться своей лошадкой Сорокой. Конюх долго наставлял Степана перед поездкой, чтобы тот не горячил Сороку и давал ей отдохнуть на подъемах. Поэтому Степан уже полверсты шел в гору с Сорокой в поводу. Подъем был длинным, и идти пешком предстояло еще не менее часа.
Мельникову перевалило за сорок лет. В темных волосах на голове и в бороде уже было заметно присутствие серебра седины, в углах внимательных глаз прорезались морщинки, но фигура мастера объединяла худобу и большую физическую силу. Он был в том возрасте, когда накопленный опыт сочетался с крепким еще здоровьем. Мастеровые трех заводов уважали старшего мастера за понимание дела и за умение в трудную минуту, когда не хватало рабочих рук, браться и делать сложную работу самому.
Мастер с лошадью шел у второй подводы и разговаривал с возницей Никифором, который тоже поднимался в гору спешившись. Оглянувшись, Степан увидел, что обоз растянулся почти на версту, причем последние две подводы сильно отстали: лошаденки были совсем плохи и перевозка руды была для них делом непосильным. Все возницы послезали с телег и шли пешком, рядом с одной из кобыл в центре обоза весело бежал жеребенок. То и дело он заигрывал с матерью, не подозревая, что еще год-два и на его шею наденут такой же хомут.
Шедший рядом с мастером Никифор, русобородый приземистый мужик лет тридцати пяти, три года назад был перекуплен заводчиками и переселен из Казанской губернии на Урал. Теперь он старался вникнуть в тонкости заводского хозяйства, чем сильно отличался от других привезенных вместе с ним мужиков.
– Вот, Степан Кузьмич, – обратился Никифор к мастеру, – давеча мужики на руднике сказывали, что тульский кузнец Демидов будто бы царю Петру дорогой пистоль починил и царь его за это заводами жаловал. А наши хозяева как свое богатство получили? Ведь, говорят, купцами они были? А теперь вот наши души покупают, значит, они помещиками теперечи стали?
– Не помещиками, а заводчиками, – поправил Степан. – А история у них тоже подходящая имеется. Царь Петр в Симбирск приехал, и пригляделся ему остров посередине Волги, захотел он там отобедать. Тут как раз по Волге проплывала лодка с четырьмя купцами: три брата Твердышевы – Петр, Иван и Яков – да Иван Мясников. Старшего брата Петра Борисовича я в живых не застал, а Иван Борисович на заводах много бывал, да вот этим летом помер, упокой, Господи, его душу!..
Степан и Никифор сняли шапки и перекрестились.
– …Так вот, подрядились купцы царя на остров перевезти. А он их и спрашивает: «Чем вы пропитание зарабатываете?» Те в ответ, так, мол, и так, надежа-государь, торговлишка у нас малая. А царь им и говорит: «Купцов у меня в державе много, а заводчиков нет. Езжайте вы лучше к горам и начинайте руду копать да медь из нее плавить! А чтобы делу этому способить, даю вам от себя пятьсот рублев золотом!»
– Пятьсот рублев? – ахнул Никифор.
– Пятьсот! – подтвердил Степан. – Вот они сначала медное дело освоили. А чтобы промеж собой не разругаться, Иван Мясников взял себе в жены ихнюю сестру Татьяну. Ну а уж как медное дело освоили, так они сюда пришли и стали железоделательные заводы ставить: сначала Катав-Ивановский, потом Усть-Катав-Ивановский, потом Юрюзань-Ивановский, а потом развернулись и Симской с Белорецким, только я на Белорецком не бывал, все тут по округе кружусь.
Мастер тяжело вздохнул: после смерти Ивана Твердышева, одного из хозяев, дела на заводах как будто бы споткнулись, то тут, то там происходили неприятности. Пять дней назад на одном из рудников сломалась машина для подъема руды. Местный кузнец передал, что починить сам не в состоянии, и Степану пришлось выехать на рудник.
Когда мастер приехал на место, то убедился, что силами одного кузнеца тяжелый ворот с колесной парой не починить. Видимо, в колесную пару попадали кусочки руды, и это привело к тому, что часть зубьев искрошилась. Теперь ворот, с помощью которого два человека могли поднимать из глубокой шахты шестипудовую бадью, простаивал, и руду поднимали малыми ведрами вручную. Выработка на руднике сразу сильно упала. Местный кузнец, в обязанности которого входило подправлять койла, делать мелкие ремонты, а иногда и заковывать в кандалы провинившихся рудокопов, изготовить такую колесную пару не мог. Степан вез зубчатые колеса опытным кузнецам на завод – это значит, что рудник будет работать без подъемной машины еще недели две.
Шедший рядом с мастером Никифор вдруг заглянул в глаза и, словно разом решившись, сказал:
– Степан Кузьмич, давно просить хочу…
– Ну? – мастер с трудом оторвался от собственных мыслей.
– Возьми нас с сыном к себе в мастеровые! – выдохнул Никифор.
– В мастеровые? – хмыкнул Мельников. – Тебе годков-то сколько? Ты уж назад к земле расти стал, а тут заводскую премудрость изучать надумал? Разве что о сыне потолковать можно, сколько ему?
– Ванятке-то моему? Двенадцатый год пошел!
– Что же, самое время пойти в ученики, – согласился Степан. – Прикреплю его к опытному мастеру – пусть учится. Только ведь наше ремесло тяжело дается, его подзатыльниками внушают, да и не каждый понимает, многие не сдюживают.
– Он у меня смекалистый! – пообещал Никифор.
– Ну-ну, посмотрим! – опять хмыкнул мастер.
– Степан Кузьмич, ну а как же насчет меня? – опять спросил Никифор.
– Не знаю… Был бы ты кузнецом или столяром, я бы тебя взял. А так ваш брат после сохи обычно или в углежогах ходит, или в рудобойцах, ну или как ты сейчас – возницей.