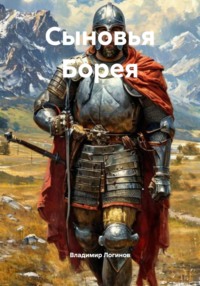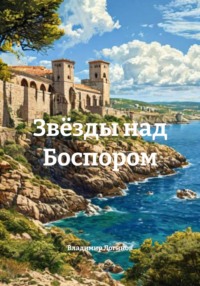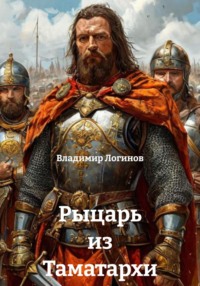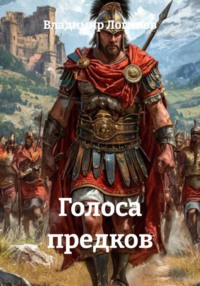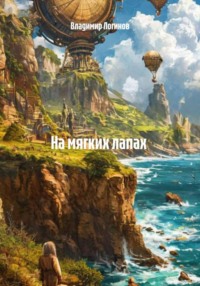Полная версия
Мстислав Удалой
Солнце уже скрылось за кромкой леса, и вечерняя заря тихо расползлась, накрыв своим желто-красным покрывалом полнеба. Князь, распаренный после бани, сидел на замшелой дубовой колоде, что лежала возле входа в избу Степана Объедко. Степенно пил чай с чабрецом и мятой из берестяной кружки. Белая льняная рубаха на нем взмокла, на плечи его был накинут овчинный армяк хозяина. Отхлебнув в очередной раз из кружки, князь спросил стоявших напротив него жалобщиков:
– И много взял с вас энтот Бельзкой?
Мужики переглянулись меж собой, один из них, не зная как лучше ответить, неуверенно заговорил:
– Тако яко ж поведать, княже!? Упредил нас охотник Микула, што за кабанами ходил! Мы скореича скотину в лес угнали, а гуси с утками ещё домой не заявились, одни свиньи в хлевах! Гридни Бельзкова с десяток свиней пиками закололи, да в телегу свою побросали! Егда глава наш сельский Охрим, поведал князю, што скотину забрал болоховский князь Мирослав, тот взбеленилси, да Охрима грязно тако, обругал старым пнем, плетью своея огрел. От такова позору старшина наш умом-то и тронулси. Да ить яко ж не тронешьси, аще он ещё у князя Ярослава Галицкова Осмомысла служил, в сотниках ходил в дружине ево! Посля уж служил сыну Ярослава, пьянице Володимеру, а уж потом у князя Романа Волынскова, иже бояр галицких на дух не переносил за жадность и своеволие их, на кол многих пересажал, да коих повесил. Зело жесток был князь Роман, а к простому люду добр вельми! С венграми и поляками ратоборствовал наш Охрим в дружине князя Романа! За заслуги прошлые, за ум, избираем мы ево ежегодно на вече сельском, дабы вершил, значит, он делами общинными мудро по чести, по справедливости. А теперя што? Видать придетси, егда наступит серпень-месяц, другова главу кликать на сходе нашенском! Охрим-от на покой проситси! Дряхл вельми, стал. Люди сказывали, што он ещё князя Володаря знавал. Во, годов-то ему!
Князь, допив чай, поставил кружку рядом, заговорил миролюбиво:
– А очтево ваш Охрим, аще такой заслуженный ветеран, тако в Галиче не доживал свой век?
– А тута вишь яко всё обернулось, княже! Посля кончины князя Романа на поле бранном, противу короля польскова Лешко Белова, разброд, междоусобья всяки пошли! Уж дюже Галич богатый, кусок жирный, всем запонадобилси: и королю венгерскому Андрею, и королю польскому Лешко, и Игоревичам, князьям киевским, да ить и болоховские князья на Галич-то рот-от разинули! Охрим, стар уже стал, покою возжелал – вот и убралси в глухомань нашу, от разброду галицкова, бестолковова!
Князь нахмурился, мужиков взглядом прожёг, твёрдо заявил:
– Ладно, мужики, я Сашку Бельзкова пристрожу, штоб боле к вам не шастал, грабежом не промышлял!
Один из жалобщиков обрадовано воскликнул:
– Вот благодарствуй, батюшко! А то ведь князей развелось, яко блох на шелудивой собаке! На всех не угодишь, достатку нашева на всех не хватит! Нам бы кому-то одному подати платить!
– Добро, мужики, я и болоховских князей пощупаю! Сказывайте всем охотникам до вашего добра, кто сюды заявитси, што виру-дань платите едино одному князю Даниилу Романовичу, моему зятю, а кто грабежом у вас тута займетси, не сносить тому главы! Сказывайте всем прямо – великий князь Мстислав Галицкий тако-то повелел! А сей час идите, спать уж пора!
Через два дня селян взбудоражил неожиданный приход в Бронницы воинского конного отряда. Привел двухтысячную дружину из Звенигорода тысячник Каструк, который, по-видимому, эти места хорошо знал. В селе сразу стало шумно, собаки охрипли от беспрестанного лая. Единственная улица села сделалась, вдруг, тесной от запрудившего её полкового обоза и всадников. Загруженные палатками, мотками запасных ремней, мешками с просом, овсом и углем для походной кузни, обозные телеги заполонили проезд, и всадники материли возчиков, кое-как пробираясь обочь. Мало того Каструк пригнал с собой ещё и стадо баранов в сотню голов, и те добавили в общий гвалт свою лепту орания.
– Овец-то, где взял? – строго спросил князь.
– Та где! Купил в Звенигороде, – ответил, поклонившись, Каструк.
– Небось, отнял у ково ни то? – проворчал князь.
–Та нет, княже! У болоховскова князя Мирослава позаимствовал! Сказал ему, што ты с им рассчитаешьси!
– Чем я с им рассчитаюсь? – хмуро заметил князь. – Рази токмо плетьми, да в живых оставлю. Ладно, ставьте пока палатки возле вон варягов, да заваривайте себе обед! Бани посля топите у селян, отмывайте грехи, да отпаривайте грязь-ту походну! Торчать нам тута не мене двух недель покуда зять мой, Даниил с дружиной сюды прискочит. Венгров в Галиче боле десяти тыщ, а нас маловато. Подождем Данилу с братом евоным Василько, да половцы в Звенигород должны подойти. Тесть мой, хан Котян, обещал прислать – вот егда вкупе и выступим противу войска венгерскова. Король Коломан-то молод ещё, дурак-дураком, вояка из ево худой, но ратью командует многоопытный воевода Филя, вельми добрый воин!
– Може миром уйдут мадьяры, княже, аще пошлём посла? – во взгляде Каструка мелькнула тень надежды на мирный исход.
– Не уйдут! – твердо заявил князь, безнадежно махнув рукой. – Король Коломан считает Галицию своим уделом – к этому приучил ево ещё отец, король Андрей! Знай, в Галиче Коломана короновали католические пасторы, а наши иуды-бояре присягнули ему! И всё! Хватит об том, Каструк! Кликни до меня варяга Юллу!
Каструк, расседлав коня, повел его поить, приказав по пути одному из дружинников найти варяга. Когда сотник явился, князь пригласил его в избу, где, усадив за стол, предложил перекусить жареным гусем. Юлла, поблагодарив, отказался, сославшись на то, что только что обедал.
– Вот што, Юлла! – приглушённо заговорил князь, хотя в избе никого не было, – возьмёшь мово запаснова коня, да и скачи-ка во Владимир к зятю моему Даниле! Пусть со своей дружиной немедля поспешит сюда, да брательника свово Василько с дружиной тож прихватит!
– Когда ехать, княже? – с готовностью заговорил варяг.
– А вот прям, сей же час! За двое-трое суток, небось, доскачешь до Луцка, а тамо и Владимир недалече! На всяк случай вот тебе кожан с моей печатью, штоб якой ни то дурень тебе препон в пути не чинил, да попусту не задерживал! Гуся энтого возьми на дорожку!
*****
Расстояния до какого-либо места на Руси того времени люди измеряли поприщами – это более нынешнего километра. Но то, если близко, а если далеко, то путь измерялся уже в сутках. Пеший брал с собой в дорогу, в заплечном мешке, какой-нибудь перекус и кружку, а верховой, иль на телеге, для дальнего пути, имел в чересседельниках кроме хлеба, сала и пшена ещё и обязательный походный котелок для чая или варки каши на костре, ну и, конечно торбу с овсом для коня. Любой путник – на коне ли верхом, на повозке, пешком ли, но останавливался возле какой-нибудь воды. Стоянки эти были известны путникам и даже имели свои названия. Если же кто-то шёл или ехал по этой дороге впервые, то стоянку видел по приметному месту: там обязательно примята трава или снег и чернеет костровище, обложенное голышами.
Юлла, быстро собравшись, поскакал в сторону основного шляха через болото. Немало времени ушло у него, пока он пробирался краем болота, а потом лесом десять верст, чтобы, наконец, выбраться на этот проклятый шлях, который вёл из Галиции к северу, на Волынь.
Солнце уже клонилось к зубчатой кромке леса на западе, а разгорячённый конь все нес варяга галопом по наезженной дороге. Вот уже и тени от придорожных берез и елей протянулись поперёк пути. Конь, почувствовав, что всадник высматривает стоянку на ночь, перешёл с галопа на шаг и усиленно закрутил хвостом, отгоняя дорожных мух, которые при сбавлении скорости конского бега сразу же атаковали его взмокший от пота круп. Уже начало смеркаться, а никакой стоянки не попадалось. Очень уж суеверны были в то время люди, даже хотя бы и воины, а потому перспектива заночевать в лесу, да ещё одному, вовсе не устраивала храброго викинга, но и подеваться некуда, и вода край как нужна. Но вот дорогу пересёк маленький ручеёк и Юлла решил устроить ночёвку возле него. Ручей свернул с дороги на большую поляну. Приученный с детства к походной жизни, варяг быстро устроился на опушке леса возле ручья у поляны. Наломать сухого валежника, и развести костерок, было для Юллы минутным делом. Поставив две рогатины из сырого вербника, сотник срубил секирой молодую березку, прошептав древнее извиняющее заклинание. На стволик надел котелок с водой и положил на рогатины. Пламя костра облизало закопченные бока котелка. Юлла, сняв с коня седло и узду, пустил того пощипать свежей травки; сам же, вынув из чересседельной торбы холодного уже гуся и хлеб, тоже принялся перекусывать. Сидя спиной к лесу, лицом к поляне, Юлла вначале тупо смотрел перед собой, медленно пережёвывая пищу, но вот внимание его привлекла одиноко стоящая посреди поляны странная на вид сосна. Плоская, чуть с наклоном, крона её была необыкновенной ширины, а кривой, извитый вдоль продольной оси ствол, был такой толщины, что не обхватить и втроём. Странная сосна выглядела довольно низкой. Ей, растущей на равнине, на открытом пространстве, на порядочном расстоянии от теснины леса, не надо было тянуться среди деревьев к свету. Солнечного тепла ей тут с избытком хватало. Сосна эта была уродлива, как всякое изнеженное существо, тронутое хворью: на извитом стволе то тут, то там выпирали безобразные наросты величиной с добротный кочан капусты, толстые кривые ветви закручивались вокруг них, словно какой-то неимоверной силы смерч налетел, вдруг, на эту сосну и крутанул её несколько раз. А вот крона же стелилась как-то ровно во все стороны и напоминала плоскую крышу сарая с сеном. Юлла подумал, что на такой крыше-кроне удобно отдыхать лешим и вельвам. Лешие – это такие уродливые человеки с огромными, как у летучей мыши, ушами; лба нет, а вместо рта глубоко зияющая яма, и кривое туловище сплошь заросло рыжими волосами. А вельвы – те вообще сплошные комки шерсти, словно перекати-поле, но с ногами и руками, на которых скрюченные желтые когти выглядят устрашающе. Вообще-то они мирные, но если кто-то из путников им не понравится, то могут и вспороть живот, или вскочить сзади на спину и не избавишься от такого наездника.
Дерево отбрасывало на поляну зловещую тень, и она походила на ведьму: крона – голова, ветви – руки, наросты – грудь и живот. Глядя на эту тень, Юлла поёжился, но, увидев, что конь его мирно щиплет траву, несколько успокоился. Вечер наступал быстро, а тут ещё пробежал какой-то ветерок, словно воришка в сумраке. Мельком взглянув на сосну, Юлла заметил, как на ветвях затряслись, подпрыгивая, будто в жутком смехе, волосатые комки. Присутствие духа окончательно покинуло бесстрашного викинга. «Проклятое место, – подумал он. – Черти меня сюда занесли. И ведь не уснешь теперя. А ну, да леший очертит круг, тако и не выберешься отсюда вовеки. Юлла вывернул свой плащ наизнанку, накинул на себя. Сова захохотала где-то в лесу. В животе у Юллы, где-то в печёнках поселилась паника, и унять её не было сил. В это время раздался далёкий, а вроде и близкий, истошный визг поросёнка. Юлла вскочил, как подброшенный неведомой силой. Но так уж был воспитан викинг с раннего детства, что, несмотря на панику, залил костерок машинально так и не попитым чаем. Мигом собрался, взнуздал коня тряскими руками, и, пока не стемнело, погнал его на звук визжащей скотинки, а сомнения грызли сотника, будто мышь пол амбара, вдруг то леший так-то прикидывается. По лицу сотника хлестали ветви деревьев, но конь чуял куда скакать, и вскоре сквозь редкий лес Юлла разглядел какое-то строение.
Это оказался одинокий хутор с небольшим полем возле строений, на котором неряшливыми заплатами разлегся всякий дикорос с лебедой, кипреем и вездесущей крапивой. Покосившаяся изба с камышовой крышей, с сараем и курятником из жердей, обмазанных глиной, была обнесена дырявым во многих местах плетнём из верболозы. От хутора веяло таким запустением, что казалось, будто никто здесь и не жил, или уж давно повымерли все. Однако когда Юлла подъехал ближе, то заметил в вечернем, грязно-фиолетовом с синевой, мареве легкий, рыжевато-белесый дымок, жидкой струёй поднимавшийся со двора к потемневшему небу. Из сарая послышался всхрап и короткое ржание лошади, почуявшей приближение родственной конской души в виде коня Юллы. Посреди двора мужик в грязной рубахе, подпоясанной истёртой донельзя верёвкой, жарил над раскалёнными углями поросёнка на вертеле. Сотник понял, что спасительный визг именно этой животины он и услышал, когда запаниковал от видения нечистой силы. Сейчас, увидев мужика, Юлла вздохнул с громадным облегчением, ночевать в заброшенном доме он бы ни за что не стал – уж лучше в поле с лешими, чем в пустой избе с ведьмами. Оглянувшись, мужик приветливо махнул рукой, приглашая всадника во двор. Юлла спешился, завёл коня, поздоровался с хозяином.
– Кто ты, мил человек? – спросил мужик, не прерывая своего кулинарного занятия. – По виду, тако вроде ратник!
– Юлла я, сотник князя Мстислава!
– Заводи, варяг, свово коня в стойло, ставь рядом с моим, да задай корма! Тамо трава свежак, утресь ишо накосил!
Юлла, сделав всё, как велел хозяин, присел на телегу, задал будничный вопрос:
– У тебя заночевать-то можно?
– Ночуй, варяг! Это будет последняя ночь, иже проведу я её с гостем! Энто добрый знак! Дедушка будет доволен!
Юлла насторожился – хозяин говорит загадками, но спросил, чтобы как-то отвлечься от подозрений:
– А чего ты, на ночь, глядя, порося-то решил испечь? Да и до осени ещё далеко!
Хозяин расстелил на телеге рогожу и положил на неё горячую, кое-где подгоревшую, всю в жире тушку поросенка; принес из дома ковригу черного, словно речной голыш, хлеба и ловко разрезал тушку на несколько неровных частей огромным кривым тесаком. Радушно предложил:
– Угощайся, варяг, да спать пойдём! А поросёнка я порешил, понеже завтрева уйду отсель, а кто ево кормить-то будет! Вон ещё пяток кур испёк, одново петуха оставил дедушке на утро!
Юлле есть вовсе не хотелось после гуся и пережитого страха от встречи с лешим, а потому задал новый вопрос:
– А хозяйки-то, семьи, у тебя нету штоли?
Хозяин тоже присел на телегу рядом с сотником, и, уперев отрешённый взгляд на тлеющие угли, которые уже подёрнулись сизым налётом, заговорил тоскливым голосом:
– Да тута, мил человек, така сказка получилась, што не приведи Господь другому спытать то што выпало на мою долю. У пршлом годочке, грудень-месяц уже наступил, я собрался заячьи ловушки проверить. Накануне, ночью, пошёл на двор по малой нужде, луна светила в полную силу. Гляжу, а дедушка на моём любимом месте сидит и мою работу сполнят, ложки режет. Я напугался. И ведь добро то, варяг, што он не в шапке был. Я ему, яко водится, поклонился, а обратно со двора иду – ево уже нету. Я, было, призадумался – не к добру энто, а всё ж оседлал коня, да уехал на промысел свой. Зря я тако-то поступил! Эх, дурак, дурак! К вечеру вернулся, мешок куянов приволок, а жены Вады с дочкой Полюшкой нету, и коровы нету, одни куры в курятнике. Смотрю вокруг – следов конских много и следы энти через лес к шляху ведут. Ну, я всё и понял – не зря дедушка на моём месте сидел….
– Тако што ж ты не искал-то их? – встрепенулся Юлла.
– Ага, яко же! Где ж их найдёшь! Мир велик! Родни ни у меня, ни у неё нету! – горестно воскликнул хозяин. – Я зиму-то работой себя изнурял, всё надеждой себя тешил, а вдруг вернутся. Но дедушка знака тако и не подал, а позавчерась у меня был Чака, да и позвал жить к дяде Боко. Вот я и порешил утресь к ему в лес двинуть. Михасем меня кличут, варяг!
– А ты, яко посмотрю, язычник, Михась! – заметил сотник, глядя в пустоту малиновых сумерек.
– Тако и вы, варяги, сколь ведаю, не шибко тверды в вере Христовой! – отпарировал хозяин. – Меня дядя Боко утешит, подскажет яко дале жить!
Михась завернул мясо в рогожку, спрыгнул с телеги и пригласил Юллу в избу:
– Айда, варяг, спать, аще сможешь, вставать рано!
В избе у Михася стоял стойкий запах нежилого, будто душа дома, семейного очага, давно уж покинула это, когда-то, может быть, счастливое жильё. Тяжелого вооружения у сотника не было. С собой он взял только секиру, короткий пехотный меч, на нем же была норманнская кольчуга без брони, да широкий кожаный пояс с боевым ножом. Возле хозяйского топчана, застеленного большой медвежьей шкурой, Юлла прислонил к стенке избы секиру с мечом, снял с себя кольчугу с поясом, и, намаявшись за день, улегся спать, накрывшись своим зелёным плащом сотника. Уже засыпая, он услышал, как кто-то под печкой стонал и по-детски плакал. «Эх, видать домовой кручинится, – пронеслось в голове. – Видать дому беда грозит»…
Утро ещё только занималось, и в открытую дверь избы вполз утренний холодок. Юлла почувствовал, как кто-то мягко тронул его за плечо. Сотник, по военной привычке, мигом очнулся и сел на топчане, опустив ноги на пол. Рядом сидел хозяин, и по его виду непонятно было, спал ли он. Вместо утреннего приветствия, он буднично произнес:
– Иди, варяг, поймай в курятнике петушка, а я заберу тут кой-чево!
Юлла натянул кольчугу, забрал оружие и вышел во двор. Там он плеснул себе в лицо из стоявшей возле входа бочки с водой, и огляделся. Оба коня стояли возле телеги уже осёдланные, с чересседельными сумами, готовые к дальнему переходу. На крыше лежала охапка сена, возле дверей избы такая же. Юлла поймал в курятнике одинокого петуха, и пошёл было к избе, но оттуда вышел хозяин с топором в правой руке. В левой руке у него торчал веник-голик. Хозяин молча положил веник возле чурбана, на котором обычно колют дрова, взял у Юллы петуха, мигом оттяпал тому голову, и голенастые ноги. Кровь слил на веник, а потом этим веником, смоченным кровью птицы, стал мести в углах избы, приговаривая:
– Уходи, дедушка, выметаю тебя! Прости, што в поле чистое выметаю, не сердись… . А то сгоришь… . Ну да ты, ведаю, шустрый, найдёшь у ково жить…
С этими словами Михась бросил веник под печь, на дворе закопал зарезанного петуха, а его голову и ноги закинул на крышу. Юлла, молча, с невозмутимостью богов Олимпа, наблюдал за простыми языческими священнодействиями хозяина. Михась же высек кресалом огонь и поджёг охапку сена под дверью. Поджёг и сено на крыше. Вспыхнувшее пламя взвихрилось столбом, и вскоре уже вся изба занялась огненным смерчем, соперничавшим с занявшейся вполнеба зарей на востоке. Страшный гул пожара разнесся по округе, словно все черти преисподней свершали тризну по бывшему человеческому жилью, и не то плакали, не то радовались этому.
Михась с Юллой, вскочив на коней, поспешно отъехали от бушующего огня. Остановившись, Михась прокричал огромному костру:
– В честь Вседержителя Вселенной, иже желает изведать сущность свою чрез нас, человецев! Пусть тепло его согреет твою душу Вада и твою Полюшка! А грозный гул, иже я слышу, пущай страшит врагов ваших и обидчиков….
*****
Оба всадника, больше не оглядываясь, поскакали через лес к шляху. Выбравшись на дорогу, Михась первым остановил коня:
– Ну, прощевай, варяг! Мне туда, откуль ты приехал, а тебе вон туда!
Юлла посмотрел на уводившую вдаль извилистую дорогу, ближайший поворот которой закрывали подступавшие к ней сосны вперемежку с берёзами, потом перевёл взгляд на Михася и как-то устало произнес:
– А всё ж дурень ты, Михась! Зачем избу пожёг? В ней ведь люди могли бы жить, иже остались по воле случая без крыши над головой! Время-то аховое! Мало ли кто без избы остался!
Михась удивленно уставился на сотника, во взгляде добровольного погорельца промелькнуло осуждение. Объяснил как ребёнку:
– Эх, варяг! Ничево ты не смыслишь! Да я ведь всю прошлую жизнь свою сжёг! Оставь я дом, в нём бы поселилась нечистая сила, а дедушка мне бы в спину на всю оставшуюся жизнь проклятья слал, укоризну!
– А память, память-то, куда ж денешь? – возразил Юлла.
– Ништо, пусть яко заноза сидит в сердце моём! Дядя Боко усмирит боль мою!
– Конь-то волхву не нужон, разве што на жертву Перуну пойдёт, – миролюбиво заметил сотник.
– А я ево отдам кому-либо в Бронницах! Мне он уже не сгодится.
– Отдай князю Мстиславу, ему нужнее!
– Можно и так! А ты, варяг, смотри, не спутай, скоро одна дорога на Кременец пойдёт, ты её пропустишь, потом попадется тебе развилка, тамо ещё камень агромадный лежит, тако ты не ехай по той што от десницы, а бери по той, што от твоей шуйцы. Прощевай, брат!
Всадники разъехались в разные стороны и конь Юллы, хорошо отдохнувший за ночь, резво понесся по дороге. Редкий туман уполз в низины, солнышко встало чистое, будто умытое, а это указывало на то, что день будет жарким. Юлла, до большой полдневной жары, торопился проехать как можно больше, а потому подгонял коня, не обращая внимания на встречавшиеся по дороге подводы и повозки. Проскакав часа два, и, встретив большой обоз не менее чем в полсотни телег, нагруженных мешками и тюками с каким-то товаром, сотник, притормозив бег своего коня, поинтересовался у одного из возчиков далеко ли ещё до Луцка. Возчик, задрав бороду вверх, завыл, словно волк:
– И-и-и, милай! До Луцка, аще даже скакать будешь споро, да лошадь твоя не сдохнет по пути, тако заночуешь ещё возля шляха!
Вскоре Юлла догнал двух косарей, которые предложили ему отдохнуть в их деревне, благо, что она рядом, а до развилки дорог, якобы, далеко. Но через час скачки по дороге, сотник эту развилку всё-таки увидел, там ещё лежал объемистый валун, с приличного быка пятилетка величиной. Возле этого, обросшего серо-зелёными лишайниками и дорожной пылью, валуна стояла пароконная бричка, а здоровенный, в пропотевшей рубахе, бугай, ростом и шириной плеч ничуть не меньше этого валуна, лениво смазывал оси и ступицы колёс своей повозки чёрным густым дёгтем. Юлла спешился, разминая ноги, потянулся, повращал в разные стороны затекшей спиной, не спеша, подошёл к бричке, и, поздоровавшись с бугаём, спросил, которая из этих дорог ведёт к Луцку. Детина что-то пробурчал в ответ, и непонятно было то ли он здоровается, то ли объясняет по какой дороге ехать. В это время мимо на вороном жеребце проскакал какой-то молодец в белой рубахе и кожаной безрукавке, шёлковые синие штаны его были заправлены в мягкие постолы. Он мельком глянул на Юллу, развернул коня обратно, и, подъехав к бричке, резко спросил:
– Кто таков? Эй, Варёный! Чего энтому ратнику от тебя надобно?
Бугай оставил своё занятие и густым басом прорыкал:
– Да вот дорогу на Луцк у меня пытает, Горислав!
– Молодец ядовито усмехнулся, спросил уже с угрозой в голосе:
– Ещё раз добром спрошаю, кто таков?
– А тебе-то, какое дело! Езжай своей дорогой! – начал сердиться сотник.
– Мне до всего есть дело! Венгры в Галиче и Перемышле, ляхи в Червене и Берестье, а ты, видно по всему, человек ратный! Може лазутчик якой, да и говор у тебя не нашенский! Прознать хочу, што ты за птица….
Это были последние слова, что Юлла расслышал, так-как удар сзади по голове вырубил сотника. Бугай, которого назвали Варёным, а это он огрел варяга, подхватил падающего Юллу.
Очнулся Юлла уже связанным по рукам и ногам, лежащим в бричке, которая с грохотом катила по дороге в неизвестность. Сзади, привязанный за повод, рысил конь сотника. Рядом с повозкой скакал дотошный всадник, названный Гориславом.
Юлла, болезненно пошевелив головой, заговорил, обращаясь к всаднику:
– Куда ты меня волокёшь, вошь подкожная?
Горислав, нагло ухмыльнувшись, небрежно бросил:
– В Бельз, ко князю моему, Александру! Он те язык-от развяжет! Шастают тута всякие по дорогам! Помалкивай лучше, покуда плетью не огрел!
Юлла заскрежетал зубами от бессилия и обиды на самого себя. «Эх, дурак я, дурак! Вляпался, яко кур во щи! Распустился, рассупонился! Бдеть надо было, а я яко простой торгаш на майдане, аль баба на базаре. Тьфу, а ещё воин!» Больше всего его удручало то обстоятельство, что не выполнил он очень важного поручения князя Мстислава, которому преданно служил уже более десятка лет.
Глава 4
УДЕЛЬНЫЕ САМОДУРЫ
Чтобы было понятно читателю, кто такие удельные князья, и, что это за уделы такие, спешу сообщить следующее. Удел – это город с окружающей его территорией и населением. В современном понимании – это обычный район в области или в княжестве по тому времени. Глава княжества, /губернатор/, великий князь, давал удел своему сыну или племяннику для прокорма. Так что удельный князь – это глава района. Уделы могли быть большими с соответствующим количеством населения, а могли быть и малыми, да с неудобными, тощими землями, с которых не возьмёшь доброго урожая. Один город, скажем, имел 20 тысяч населения, а другой – всего-то две тысячи горожан. Само собой и удельный князь был сильным и богатым, а другой слабым и бедным. Сильный старался захватить удел слабого, а тот, естественно, сопротивлялся. Мотивы, конечно, были разными, но всё сводилось к одному: богатый хотел быть ещё богаче. В домонгольский период на Руси, глава района-удела землёй не владел в общепринятом смысле. Земля, с лесами и реками, принадлежала общине, но князь обладал куда большим – административной властью, а это, прежде всего, право на сбор дани, податей, виры с населения в обмен на защиту от нападения внешних врагов и охотников до чужого добра. Ну, и, кроме того, а это очень важно, князь имел право заниматься разрешением хозяйственных и бытовых споров среди населения, на подведомственной ему территории.