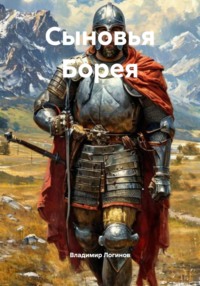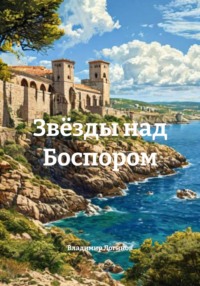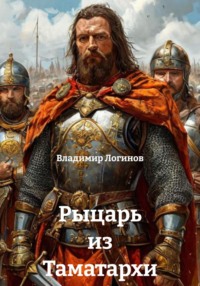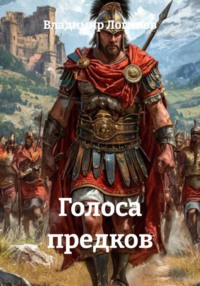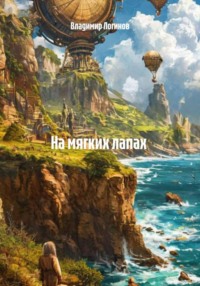Полная версия
Мстислав Удалой

Владимир Логинов
Мстислав Удалой
История ничему не учит, только
наказывает за невыученный урок.
Индира Ганди
ПрологВ конце ХХ века российский писатель Дмитрий Михайлович Балашов сказал пророческие слова в одном из своих исторических романов: «…Когда глухим копытным топотом пролилась с Востока череда народов и племен, чтобы Россия обрела величие свое в кровавом, кровном и братском объятии с народами степей, мы должны помыслить об ответственности нашей перед потомками своими, за все то гибельное, что сотворяем мы сегодня над землею предков наших и народом своим. Ибо не мы, не мы господа и создатели земли этой, мы только арендаторы, и суд грядет, и суд неотвратим, и гибель свою, как и спасение, сотворяем мы сами, и плата за грехи наши, не станут ли свыше сил наших?
Горько быть потомком великих отцов! Но и счастье – прикоснуться к величию пращуров!»…
Личность князя Мстислава Мстиславича Удалого современному читателю мало известна, а лучше сказать, неизвестна вовсе.
А ведь между тем именно этот талантливейший полководец Руси, широко известный в Европе государственный деятель, виновен в том, что творится в России сегодня. Именно из-за одной единственной ошибки князя Удалого эволюционный, поступательный процесс демократии на Руси прервался. Исправить ошибку князя Мстислава уже не смогли такие выдающиеся исторические личности, как его внук Александр Невский и зять Даниил Галицкий. Постараюсь объяснить, в чем же заключается политическая и стратегическая ошибка прославленного князя.
Дело в том, что несколько ранее всемирную ошибку, повлекшую за собой крутой поворот истории и гигантские бедствия для всех народов, в том числе и европейских, еще успел совершить в начале Х111 века, из-за элементарной жадности, самый могущественный по тому времени монарх Востока хорезмшах Мухаммед Гази. А ведь у него была 400-тысячная регулярная армия. Произошло все довольно банально: правитель города Отрара польстился на караван с товарами монгольских купцов, которые расположились в городе на отдых и помывку в бане после тяжкого перехода по пустыне, направляясь в Хорезм. Правитель Отрара приказал убить купцов, а товары присвоил. Большую часть товаров правитель отправил хорезмшаху, а тот сдуру принял такой подарок. Чингизхан, узнав об этом, прислал послов, чтобы выяснить, в чем дело. Хорезмшах вместо того, чтобы с извинениями вернуть товары и наказать правителя Отрара, приказал казнить послов, чем и поставил себя и свое государство под топор. По Священной Ясе, основному закону монголов, убийство, доверившегося тебе, считается величайшим преступлением, которое можно искупить только кровью.
Чингиз вынужден был напасть на Великий Хорезм, иначе бы его не поняли приближенные и воины. В течение года огромное государство, включавшее в себя всю Среднюю Азию, а также территории современного Ирака, Ирана, Афганистана и Пакистана, было разгромлено и народы Хорезма ввергнуты в рабство всего лишь 200-тысячным корпусом добровольцев Чингиза. Хорезмшах погиб в бегах.
Монголы вкусили радость легких побед и жажду движения на запад. Половцы, которые были давними недругами монголов, оказались на их пути. Монгольские полководцы Джэбе и Субутай с двумя туменами /20 тыс./ двинулись на половцев. Через послов они попросили русских князей не мешать им, наказать своих извечных врагов. Вот тут-то князь Мстислав, как главнокомандующий 80-тысячной армией, как старший среди русских князей, мог бы, и проявить политическую мудрость, волю и ответственность перед своим государством и народом, и не вмешиваться в распрю монголов с половцами, однако поддался на уговоры хана Котяна, своего тестя. По сути дела, русские князья повторили роковую ошибку хорезмшаха Мухаммеда. Послов убили, чем и навлекли такие бедствия на Русь, что последствия этого губительного поступка до сих пор сказываются на нас, потомках. Честный князь Мстислав, хоть и верный союзническому долгу перед половцами, должен был бы переступить через себя и в интересах своего народа и государства, просто плюнуть на своего тестя, на половцев, которые никогда друзьями-то для русского народа и не были. В данном случае князь должен был отмежеваться от половцев, которые в последствии, в разгар боя, предали русские полки и сбежали с поля сражения. Князь Мстислав впервые в своей жизни был разбит наголову, а хитрый политик хан Котян втянул Русь в изнурительную войну с монголами, в полную зависимость от Орды.
Хан Батый, внук Чингиза, естественно не мог простить убийства послов и поступил согласно закону, Ясе. Он пошел войной именно на Русь. Князь Мстислав легко мог разгромить войска Батыя. При его громадном авторитете собрать 100-тысячную армию ничего не стоило, все русские князья того времени боялись, как огня, воинственного князя и дали бы свои дружины в общее войско. А тот, используя тактику монголов, которую он хорошо знал – это охват противника в клещи и запасной полк, спокойно мог победить 50-тысячное монгольское войско Батыя. Да вся беда в том, что князь был уже стар, к тому же, сломлен духовно своей единственной неудачей в битве при Калке. Он бы и здесь победил, если бы не предательство половцев. Ведь у Мстислава было 40 тысяч опытных русских ратников, вместе с половцами – это 80 тысяч, а у Субутая было только 20 тысяч воинов. А к приходу Батыя в 1237 году самый опытнейший полководец Руси уже умер, и это был 1228 год.
Как бы там не было, а последствия необдуманного решения князя Мстислава, за что он себя потом пять лет до своей кончины в 1228 году корил и мучился душой, сказались, прежде всего, на эволюции поступательного демократического развития в русских княжествах, где управление обществом, не сразу конечно, стало тоталитарным, по образу и подобию правления ордынских ханов. Думается, если бы не эта роковая ошибка, демократия на Руси восторжествовала бы гораздо раньше, чем в Европе.
Однако, правда и в том, что монгольское нашествие имело и позитивные моменты: ордынские отряды неоднократно помогали русским князьям отразить нападения крестоносцев на русские земли. Если бы не военная помощь Орды, Русь, скорей всего, стала бы к Х1У веку католической. Внук князя Мстислава Удалого Александр Невский оказался более дальновидным и мудрым, чем его дед. Будучи христианином, князь Александр переступил через себя и поклонился Батыю, прошел по языческому обряду между двух костров, что для человека православной веры было чрезвычайно унизительно. Это подвиг, и совершил его князь Александр во имя людей, для спокойствия и мирной жизни в Новгородской земле. А еще раньше через это унижение прошел его отец Ярослав Всеволодович, зять князя Мстислава. Зато отец и сын получили в лице хана Батыя лучшего друга. Характер младшего зятя Мстислава Удалого, князя Даниила Галицкого, можно сказать совпадал с
характером тестя, так уж он был воспитан им. Князь Даниил долго сопротивлялся Батыю. Сначала он успешно воевал с монгольским полководцем Куремсой и неоднократно громил его, но проиграл несколько сражений другому полководцу, Бурундаю. В конечном итоге ему пришлось покориться.
Обстановка на Руси в начале Х111 века сложилась довольно сложная. Киев уже в Х11 веке потерял свое политическое и экономическое значение в русских землях из-за постоянных распрей удельных князей, претендовавших на великокняжеский престол с одной стороны, а демократические брожения киевлян – с другой, которым не нравился то один князь, то другой. А тут ещё старшие Мономашичи поссорились с младшими. Братоубийство и война уже не ужасали людей. «Хотите ли войны? Меч в руке моей! Хотите ли мира? Вступим в переговоры!» – обращался какой-нибудь из князей к народу на вече. «Войны, войны!» – ответствовал народ. А князья, все сородичи, все одного Владимиро-Ярославова племени, так в злобе отвечали друг другу, воюя за уделы: «Убей меня здесь, а живого не изгонишь! Умру, но отомщу! Не будь же ни мне Переяславля, ни тебе Киева!»
Потомков Владимира Мономаха народилось к началу Х111 века столько, что их уже было не сотни, а тысячи. Большинство из них служило в дружинах своих дядей, мечтая о своем уделе, хотя бы даже маленьком, пусть даже из одного села. Многие из князей, не имея ни дружин, ни авторитета, побирались на папертях церквей, замаливали свои грехи в монастырях, становясь послушниками и монахами, или обрабатывали землю, как простые землепашцы. Земли же принадлежали общине, в которой заправляли крупные землевладельцы: бояре и богатые ремесленники. Оружейный кузнец, например, зачастую был гораздо богаче самого родовитого и знатного боярина и его голос в общине мог быть решающим.
Народное собрание /вече/, в каком-либо из городов, приглашало какого-нибудь князя с дружиной из 300 ратников на службу для обороны своей территории от захватов и грабежа, автоматически ставило его и мировым судьей, и, если этот князь по каким-либо причинам горожанам надоедал, то и говорили ему, собравшись на вече: «Иди к черту, ты нам еси не надобен!» И приходилось уходить. Вот такая демократия.
Оппозицией боярам в совете городов, как правило, выступали уважаемые люди из ремесленников: торговцев, кузнецов, златоковалей, тележных мастеров, ткачей, строителей, которых выбирало вече. Наняв князя, община обязана была содержать князя с дружиной, а потому предоставляла ему право собирать виру /налоги/ с подчиненной территории.
Враждуя друг с другом, князья старались земли не разорять, нивы и села не жечь, заранее считая территорию своим хозяйством, да и народ мог не принять жестокого претендента на удельный престол. Приходилось перед народом заискивать, много чего обещать даже невыполнимого, бояр и знатных людей подкупать, если было на что. Вот откуда произошли пустые обещания, взятки и подкупы.
К началу Х111 века на русской равнине, усилиями старших Мономашичей, родилось три основных государственных образования. Это Новгородская земля, Северо-Восточная Русь /Владимиро-Суздальское княжество/ и Юго-Западная Русь /Галицко-Волынское княжество/.
Киев, Чернигов, как уже говорилось, потеряли свое былое величие. Столица же Юго-Западной Руси Галич стал к тому времени богатейшим городом, соперничавшим по количеству населения и экономическому могуществу с Господином Великим Новгородом и Владимиром. Галич затмил Киев, прежде всего таким важным для всех товаром, как соль, которым снабжалась не только вся Русь, но и часть европейских стран, доставалось и Востоку. Кроме того, восточные торговцы, используя Великий Шелковый путь, старались не задерживаться в Киеве, шли в Галич, а там уже Венгрия и Польша, да и остальная Европа. На базарах не только крупных городов Руси, но даже и мелких, можно было услышать греческую, тюркскую, арабскую речь, латынь. В княжеских и боярских родах считалось неприличным не знать греческого и тюркского языков. Торговцам же без знания языков вообще не стоило заниматься международной торговлей. Расчеты на рынках велись в основном византийскими деньгами. Это золотой византий, серебряный милиариссий, но были в ходу и арабские деньги: медный фельс, серебряный дирхем, да и свои, серебряные гривны, использовались широко. Но был и меновой расчет, когда менялся товар на товар, а также в качестве денег выступала и пушнина, которая часто ценилась выше золотых византиев.
Нужно четко отметить, что с юга на Русь через церковь и торговлю шла мощная и постоянная волна византийского влияния, а с Востока же неудержимо накатывал вал культуры тюркоязычных народов, да и католический Запад через купцов, миссионеров, а то и посредством военных вторжений беспрестанно стремился вытеснить православие, считая его еретическим.
Русские князья, еще задолго до Мономаха и после него, женились на византийских принцессах, не забывая шведских, польских и венгерских королевен. Сам Владимир Мономах был женат на английской королевне Гиде. Чуть позже князья стали родниться и с половецкими ханами. Например, князь Юрий Долгорукий был женат на половецкой принцессе Юлдуз. Красивое имя, не правда ли? Означает – утренняя звезда. У того же князя Мстислава Удалого последнюю жену тоже звали Юлдуз, и она была дочерью половецкого хана Котяна, который сыграл в судьбе самого талантливого князя русской земли такую гадкую, трагическую роль, втянув зятя в международный политический скандал и войну.
Может быть, князь Мстислав совершил ошибку уже тогда, когда женился на прекрасной половчанке? Но и его можно понять. Воинственный князь, охваченный идеей объединения Руси по примеру своего прадеда Мономаха, в своей борьбе с удельными князьями, своими сородичами, нуждался в независимом союзнике, которого и нашел в лице половецкого хана. Гнилой союзник этот подвел зятя в самый решающий момент боя, сбежал с поля сражения и поломал все тактические построения Мстислава. Конечно, честный и благородный князь по характеру своему не мог бросить хана Котяна на «съедение» монголам и покрыть свое имя позором. Последствия этой честности мы, потомки, расхлебываем по сию пору в виде беспредела чиновников, у которых совершенно иная психология, иное сознание, иное мировоззрение, чем, например, у чиновников той же Европы. Беспредел этот накладывается на рабскую психологию членов общества, отсюда и все наши беды, неразберихи, неуклюжесть и экономическое отставание от Запада. Мы потеряли протестных пассионариев еще там, в глубине веков. В результате выросли приспособленческие поколения, которые уже не в состоянии были изменить сложившиеся исторические обстоятельства.
Надо отметить, что князь Мстислав Удалой никогда не стремился стать Великим князем всея Руси, но был любим в народе и страстно желал объединить русские земли в единое государство, а потому и громил всех подряд, кто выступал против этого объединения. Новгородская республика, где посадником сидел его зять Ярослав /отец Александра Невского/, была в его руке, так же, как и Северо-Восточная Русь, где во Владимире властвовал его племянник Георгий. Оставалось только присоединить южные княжества, где самым мощным являлась Юго-Западная Русь, и, где уж пятнадцать лет существовал вакуум твердой власти.
В столице, городе Галиче, стоял венгерский гарнизон, а всеми хозяйственными делами в Галиции заправляли бояре. По сути, князь Мстислав воспользовался приглашением польского короля Лешко Белого, который на это время враждовал с венгерским королем Андреем 11. Имя князя Мстислава наводило ужас на европейских монархов. Все они хорошо помнили, как неистовый русский князь наголову разгромил 40-тысячный корпус ордена меченосцев, а варяги, личная гвардия Мстислава, догнала и уничтожила самого магистра вместе с его окружением.
Едва только Мстислав приблизился к Галичу, венгерский гарнизон сбежал из города, а с ним и католические епископы. Православные епископы, которые пришли с новгородским князем, короновали Мстислава на великое княжение в Юго-Западной Руси. Чтобы не выглядеть чужаком в Галиции Мстислав женил пятнадцатилетнего юношу, князя Даниила, на своей четырнадцатилетней дочери Анне.
Венгерского королевича Коломана с женой, польской королевной Соломеей, которые до того были коронованы католическими священниками на Галицкий престол, Мстислав отпустил в Венгрию. Некоторые историки уже считают этот шаг большой ошибкой. Но князь не мог поступить жестоко по отношению к детям венгерского и польского королей, хотя бы потому, что те с отеческой заботой отнеслись к семейству князя Романа Галицкого, вдове и сыновьям Даниилу и Василько.
Женив Даниила, усмирив галицких бояр и мелких удельных князей, Мстислав поспешил на север, где взбунтовались его племянники Константин и Георгий, каждый из которых претендовал на власть во владимирской земле. К Георгию примкнул зять Мстислава Ярослав против брата Константина. В страшной сече на реке Липице Мстислав в пух и прах разгромил владимиро-суздальские полки Георгия и зятя Ярослава. А потом взял, да и посадил на владимирский престол Константина, а в Новгороде оставил опять же побитого им зятя Ярослава.
Церковь, в лице православных епископов и митрополитов, многие из которых были греками, ставленниками Византии, ничего не могли поделать со строптивыми русскими князьями. Христианство было не так уж и сильно в домонгольский период. Около трети населения на Руси вообще были язычниками, боялись всего, да и христиане, встретив что-то непонятное по жизни, и внушавшее им страх, крестя лоб, приговаривали: «Чур, меня, Чур! Свят, свят, свят!» А ведь каждый знал, что Чур – это древнее языческое божество, отгоняющее от человека всякую нечистую силу. Такое заклинание и сейчас произносят, испугавшись непонятного явления, и даже не задумываются над таинством этих слов. Там, в далеком Х111 веке, различных сект было великое множество и сейчас их более чем предостаточно. Люди, не зная, как сохранить свой скот и себя от поветрий и инфекций, навешивали на шеи себе и скоту различные обереги, всячески ублажали домовых и скотьего бога Велеса, путаница в верованиях была неимоверная.
Надежных противозачаточных средств в то время не существовало, а потому рождаемость и смертность были гигантскими. Женщина с 15 до 40 лет рожала 15 – 20 детей, половина, а то и больше из которых не доживали и до года. Крестьянской семье прокормить детей было проще – община увеличивала надел главе семьи. Можно сказать, таким образом, города и земли богатели.
Положение же все увеличивающегося количества князей и княжат становилось все сложней и сложней. Каждый, достигший совершеннолетия, требовал себе удела, а где его взять? Вот и шли беспрестанные братоубийственные войны. Захватив удел, его еще надо удержать, как-то поладить с общиной, иначе она могла его и изгнать. Князь мог надеяться только на силу – свою дружину, а её надо на что-то содержать – это налоги, дань. Будешь много требовать с общества – тебя скинут. А вот если больше территория, значит можно иметь и большую, чем у соседа дружину и на общину поплевывать. Вот они, предпосылки для междоусобий. Князь Мстислав воевал со всеми. Имея возможность и наследственное право по Любечскому соглашению занять великокняжеский престол в Киеве, он его не желал. Тем более, что стараниями двоюродного дяди Мстислава, князя Андрея Боголюбского, значение Киева, как объединяющей Русь политической единицы упало до нуля. Возвысился Владимир и Великий Новгород, которые, по сути, были у князя Мстислава в кармане – там сидели его ставленники. Оставалось прибрать к рукам Юго-Западную Русь, что он с успехом и сделал, воспользовавшись приглашением польского короля Лешко Белого.
В 1218 году князь Мстислав Удалой, подавив недовольство своих же ставленников во Владимире, вернулся в Галич….
Часть 1В ПРОШЛОМ ЗРЕЕТ ГРЯДУЩЕЕ
Глава 1
ПРЕДСКАЗАНИЕ ВОЛХВА
Заканчивался изок-месяц, травы ждали крестьянской косы, на это указывал вездесущий осот, который уже повсеместно заколосился. Наступала жаркая пора сенокоса. Не слышно пересвиста и пения пернатых, потому как основная часть птичьего племени сидела на яйцах и благоразумно помалкивала.
Вечерело и дневной ветерок с юго-запада совсем стих. Небо, хоть и без облаков, не казалось чистым, как утром. Его будто кто-то слегка припорошил светлой дорожной пылью, а вечернее солнышко, разбавляя бледную выцветшую синеву, придавало ему охристый оттенок.
Наезженная дорога, по которой, не спеша, двигалась одинокая пароконная бричка с дремлющим на передке возчиком, как-то без перехода, резко, вошла в плотный массив темного леса, и сразу стало вокруг сумеречно, а, очнувшемуся от дремоты возчику, тревожно на душе. Лес этот пользовался у путников дурной славой, постоянно на этой лесной дороге что-нибудь да случалось: то дышло или оглобля сломаются, то колесо слетит с оси, то лошадь захромает, да и шишей побаивались. К тому же на вершине огромного бука обязательно сидел черный, как головешка, величиной с доброго гуся, ворон и глухо, скрипуче каркал, словно предупреждая путника, смотри, мол, не плошай.
Степан Объедко, сорокалетний плотный мужик, сидевший на передке брички, с опаской глянул по сторонам и нервно хлестнул вожжами по крупам уставших коней. Те было дернулись, и даже затрусили ленивой рысью, но вскоре опять перешли на размеренный шаг. Как не спешил Степан попасть домой хотя бы к ночи, да видать придется заночевать в этом проклятом лесу, да еще одному, чего уж ну никак не хотелось мужику. В бричке у него лежала чушка сырого железа фунтов на сто, да изрядно отощавший дорожный мешок с котелком, берестяными кружками и съестными припасами. Но важнее всего, из-за чего Степан нервничал, был кошель с деньгами, который, казалось бы, он надежно спрятал под днищем своей брички, в специально оборудованном тайнике.
Заканчивались уже третьи сутки, как он выехал из Звенигорода, где продал знакомому купцу, греку Акинфию, девять кольчуг. Грек рассчитался со Степаном серебряными милиариссиями и десятком золотых византиев. Сумма внушительная, довезти бы до Бронниц, родного села, да сдать поскорей железо и, главное, выручку кузнецу Вакуле, при котором Степан уже лет десять как был кем-то вроде приказчика-экспедитора. Грек высоко оценил изделия русского кузнеца, но сам-то он в накладе не останется, продаст в Царьграде эти высококлассные кольчуги вдвое, а то и втрое дороже константинопольским экскувиторам, гвардейцам императора. Царьградские оружейные мастера не умели делать таких прочных кольчуг, какие умели изготовлять русские мастера, потому Акинфий и зачастил в Киев, Галич или в Звенигород, где и нащупал изворотливого Степана Объедко, которому тоже было удобней ездить ближе, нежели в Киев или Галич. Дорога в Звенигород занимала восемь суток в оба конца, кузнец свое время ценил, а потому и доверял возить на продажу свои изделия Степану, убедившись в его честности.
Степана успокаивало одно: сделка прошла тайно, без свидетелей, с глазу на глаз. Никто ничего не видел, никто ничего не знал, и никто за все время пути за Степаном не следил, да и сам он на уртонах /стоянках/ не суетился, вел себя степенно, как все дорожные сожители. Помнил Степан и тот случай, когда один мужик продал корову, да бычка на базаре в Галиче, и, получив за скотину один милиариссий и несколько медных фоллов, положил деньги в карман своих кожаных хоз. Все хлопал, да хлопал ладонью по карману, проверяя на месте ли деньги, да все оглядывался по сторонам и назад, чем, по-видимому, и привлек внимание базарных прохвостов. Люди, известное дело, воры – они и в каменном веке воровали. Мужик этот и с базара-то выйти не успел, как денег в кармане не оказалось. К Степану уже привыкли на базарах Звенигорода и Галича, знали, что оборотистый мужик просто закупает железо для своих кузнецов, а тяжелые чушки не украдешь и за пазуху себе не покладешь, а чего привозит, никто не видел и не интересовался.
Теперь вот, возвращаясь, да еще через этот чертов лес, Степан Объедко места себе не находил на передке брички, и как тот мужик с коровой все оглядывался назад, да по сторонам, все одно, что тот карась на горячей сковородке. В общем-то, путь Степану был известен, и он уже приглядывал знакомую полянку с родничком, где можно заночевать, когда увидел, вдруг, впереди фигуру одинокого путника, размеренно шагавшего по лесной дороге. Степан поначалу даже обрадовался, но тут же в душу закрался холодок тревоги: черт его знает кто это, а может вон за тем придорожным кустом еще двое сидят, да его Степана и поджидают. Объедко правой рукой нащупал на поясе костяную рукоять половецкого кончака, а из-под сидения достал дротик в полсажени длиной с добрым лезвием, шириной в ладонь. Вскоре поравнявшись с путником, Степан остановил повозку. Остановился и незнакомец. На нем была надета черная монашеская хламида с капюшоном на голове. Борода и усы белые. Из-под капюшона на Степана в упор глядели жгучие, как угли, пронзительные глаза. Возчик смутился, однако произнес привычную дорожную фразу:
– Садись на бричку, отче! Подвезу! Других дорог все одно тута нету.
Незнакомец усмехнулся, жестко произнес:
– Отче! Хм! Тако и ты, по всему видать, не молоденький уж! Спрячь дротик-от!
С этими словами он легко вскочил на повозку и присел на железную чушку, прогревшуюся за день на солнце.
– Погоняй-ка, давай, брат! – произнес незнакомец голосом властным, непререкаемым, а, когда бричка тронулась, задал обычный вопрос:
– Далеко ль до Бронниц, брат? Есть ли там ратны люди?
Степан, уже успокоившись, буднично ответил:
– Ежли ехать всю ночь, тако к утру доберемси, а ратны люди, тако, егда я из Бронниц уезжал две недели назад, объявилась тамо сотни две, аль боле тово, дюжих молодцов. По виду, да по говору вроде варяги! Вели себя мирно, никово не забижали, за баранов платили, да все в речке купались, отсыпались. А то затеют на лугу игрища ратные со звоном мечей и криками дикими, задорными, боевитыми. Приволокли с собой яких-то волынщиков с десяток. Те по утру все чего-то грозное наигрывают, особливо перед игрищами ратными, а перед заходом ярила, напротив играют весело эдак, девкам нашим шибко по нраву, особливо гулящим, да безотцовщине.