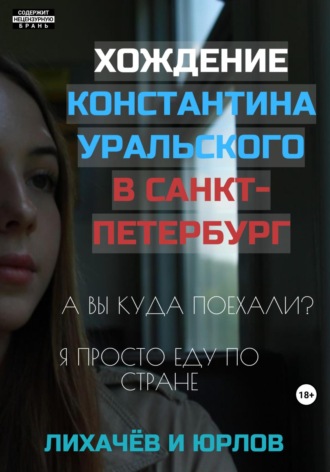
Полная версия
Хождение Константина Уральского в Санкт-Петербург
И мы дальше, как бы эти парни не скалились. И вышли мы к воротам, что бабка неприметная охраняла. И прошла мимо неё Натаха, голыми ляхами сверкая. И осмотрела осуждаючи, ноги Натахи, эта бабка. И посмотрела она и на меня внимательно, что вынужден я был поздороваться. И видел я заборы бетонные, что графити были изресованные, а над серым бетоном качалась, на ветру, колючая проволка. И шли мы с Натахой дальше. И всё кружила она, перед носом моим, бёдрами толстыми. И тянулась тропинка куда-то туда, вперёд. И вышли мы к пляжу, где люди отдыхали. И заметил я тут же спасателей, что жизни утопающих спасают. И подумал я, что не всё так прохо, как есть на самом деле. И выбрали мы с Натахой место случайное. И села Натаха под козырёк, от солнца яркого прячась. И заметила тут же она девок загорающих, что лежали голыми лицом к солнцу, головой на восток.
– Какие девушки, смотри, – говорила она мне.
И видел я двух девушек этих, и сияла их белая кожа на ярком солнышке. И то, чего не было у одной, то было у другой, и наоборот.
– Иди, познакомся, – гнала меня Наташа.
А я лишь думал, что не против бы, да зачем? И сидел я на песке накалённом на девок красивых и на Каму, поглядывал одновременно. А Натаха мне рассказывала историю, одной знакомой, что жизнь успешную вела. И я сидел и слушал о том, как знакомая эта тянула деньги из парня своего, потому что он мужик. И что готова она была на всё ради денег, даже кольцо замужества снять, чтобы мужчина незнакомый за ужин заплатил. И слушал я это всё, потому что выбора у меня не было.
– Ну как ты считаешь – нормальное такое поведение, или нет? – спрашивала меня Натаха.
И рассказывала она ещё про мужа девушки этой, что был он до неё безработным лохом. И что согнала она его с дивана и пнула под жопу, отправив работать. А сама этот диван и заняла, вместо ленивого мужика, наслаждаясь роскошной жизнью.
И надоело мне слушать Натаху. И пошёл я к Каме – руки обмыть, к тем девушкам ближе. И прошёлся я по раскалённому песку, что солнце нагревало ещё с пермских времён. И вступил я в воду, что водорослями зелёными заросла. И надеялся я, что смогу пойти по воде, если захочу. И оглянулся я, и видел, как Натаха в смартфон пальцами тычет. И слышал я разговоры тех девушек, что приглянули мы с Натахой, как только пришли на этот пляж. И будто казалось мне, или это было на самом деле, что говорят они, обсуждают, то же, что и Натаха. И странно мне было, непонятно. И ушёл я обратно, так и не искупавшись в Каме. А Наташа что-то мне про спину мою говорила, что сутулюсь я, как всё поколение миллениум. И пошли мы вон с пляжа, под крики налетающих чаек. И быстро мы скрылись в густом лесу от яркого солнца. А Наташа мне говорила о Максиме, о том, как познакомились они, дружили. И понял я в этот момент, что нет у неё друзей, что должны оставаться из прошлого в настоящем. И что друзья её уже живут своей жизнью, хоть и их много. И шли мы с ней по улицам убогим, чьё-то говно обходя. И говорил я Наташе, что Максим, её друг, всего лишь шут, что плачет, когда остаётся один. И то ли призадумалась Наташа об этом, то ли обиделась, то ли – и то, и другое. И шли мы с ней дальше, обойдя здание школы, чей угол в центральную улицу упирался. И повернули мы направо, попав на улицу шумную, и где яркое солнышко всё засвечивало. И увидели мы с Натахой пони, что бедные, дыбали на месте, ожидая команд женщин не высоких, что стояли рядом. И шли мы дальше с ней, подругой моей – мимо аптек и магазинов. И всё говорили о Максиме с Викой, и о их жизни интересной. А Наташа всё на солнышко косилась, раздражённо прикрывая рукой голову. Ведь кепку розовую, она опять забыла дома.
И видели мы с ней странное действо – как мужчина азиатско-персидской внешности, что стоял с велосипедом у остановки, поучал женщину за что-то, которая была водителем тролейбуса. И что-то эмоционально объяснял он ей, чему-то учил. И слышал я язык не русский, чужой. И прошли мы дальше, хоть и интересно было мне. И подошли мы с Натахой к светофору – ожидая зелёного сигнала. И проехал пред нами пустой тролейбус огромный, за рулём рулём которого была та самая женщина с охонинными бровями. И загорелся зелёный цвет пропуская пешеходов по своим делам. И промелькнул пред нами тот мужик на велосипеде, крутив педали в шлёпанцах. И шли мы дальше с Натахой к ней домой, уж в последний раз для меня. И на вахте привычно осмотрели нас, будто видят впервые. И зашли мы к Натахе домой, обрадованные тем, что скрылись, наконец, от знойного солнца. И завалились мы с ней на кровать, отдыхая от утомительной прогулки. И посмотрел я на часы, и было три часа. И лежала рядом Натаха, что-то мне говоря.
– Надо готовить, – неожиданно очнулась она.
И пошла Натаха к плите, в последний раз для меня готовить.
– Есть макароны и гречка, – говорила Наташа, – что будешь?
– Макароны, – выбрал не думая я.
– Макароны готовить аль-дэнтэ? – спрашивала она с каким-то странным акцентом.
– Аль-дэнтэ? – переспрашивал я.
– Да, аль-дэнтэ, – повторяла она тот же акцент.
– Ну хорошо, путь будет аль-дэнтэ, – соглашался я.
– Значит – аль-дэнтэ, – утверждала Натаха.
А я всё копался в смартфоне, пытаясь понять – куда же я сегодня уеду?
– А макароны спиралька или ракушка? – всё донимала меня Натаха.
– Спиралька, – отвечал я.
И стала Натаха трясти коробку с макаронами, что спиралькой были.
– А спиралькой мало, – говорила она, – придётся с ракушкой готовить.
А я молчал – мне было всё-равно. И стал я свой рюкзак собирать, чтобы вещи свои впопыхах не оставить. А Наташа всё это время кушать готовила. И крутилась она возле плиты в том платье, что запомнил я её в те дни. И просила она меня открыть грибы и маслины консервированные. И открыл я их спокойно, лёгкой рукой. И радовалась Наташа почему-то, тому, что я еа кухне ей помогаю. И собирал я свой рюкзак, с тревогой ожидая дороги. И думал я, что не могу остановиться. И еду я туда, куда не должен приезжать. А Натаха жарила грибы и маслины, заливая их маслом подсолнечным и олифковым. И слышал лишь я, как шипит сковорода накалённая, а не разговоры Натахи. И чувствовал я, что что-то от меня уходит из этой квартиры, дешёвой студии. И что уже ничего меня не остановит от того, чтобы отправится дальше. И поставил я перед собой рюкзак свой, готовый уже уйти. И разлёгся я на кровати, как ленивый муж, в ожидании жратвы. И сготовила Натаха грибы с маслинами, и осталось ей только макароны в аль-дэнтэ приготовить. И завалилась Натаха на кровать, рядом со мной. И как бы не заметил я этого, копаясь в своём смартфоне. И прислонялась Натаха ко мне, как могла. И не замечал я этого, хоть и чувствовал.
– Ты качаешся что ли? – спрашивала она, разглядывая мою руку.
А молчал, терпиливо ожидая того, что произойдёт, или не произойдёт. И чувствовал я на плече своём толстые пальцы Наташи.
– Нет, не качаюсь, – отвечал я, отдёргивая руку.
– Ну дай посмотреть, – конючила она, желая меня пощупать.
– У тебя макароны, похоже, переварились, – отвечал я.
И соскочила Наташа с кровати, и изгибалась и пружинила кровать эта, под тушей тяжёлой. И шла Наташа громкими шагами к плите, на которой макароны варились.
– Блин, переварила, – говорила она, пробуя что-то.
И зашумела она чем-то железным, и забилась вода из-под крана. И не успел я одуматься, как уже стояли на столе две тарелки. И пригласила меня Наташа на кушанье, сев первой за стол. И кушали мы макароны – одни аль-дэнтэ, а другие – не очень. И кушал я грибы и маслины жаренные от Натахи. И боялся я, честно говоря, за желудок свой, и за то, что отравлюсь я, и в дороге худо будет мне. И вроде кушал я что-то, но понимал, что еда эта, всё-таки, вегитарианская. Но кормили меня бесплатно, и как бы, всё же, вкусно. И скушал я быстро макароны, что были разварившиеся и полусырыми, но не смог я осилить грибы с маслинами, потому что жирным это было. И поблагодарил я Наташу за пищу, и за то, что путника просто так кормила. А Наташа лишь спрашивала – почему я не доел грибы с маслинами, и переваливала остатки мои к себе в тарелку. И смотрел я, как жадно Натаха жрёт. И всё-таки осуждал я её за это. Хоть и не касалось меня это всё, до определённой степени. И сидел я в своём углу спокойно, сил перед поездкой набирался. И Натаха сил набиралась, и спрашивала всё меня – во сколько я уезжаю. И говорил я ей, что осталось мало времени, буквально пару минут. И предлогала мне Натаха в дорогу орехов, изюма, кураги, чтобы голод нахлынувший утолить. И соглашался я взять то, что она предлогала, потому что – если дают, то бери. И сидел я напротив рюкзака поглядывая на часы, выжидая, когда же можно будет отправиться в дорогу. А Натаха всё кушала, и тоже ждала. И увидел я, как большая стрелка к малой приблизилась, так тут же понял я, что опаздываю почему-то. И схватил я рюкзак свой тяжёлый, закинув его на плечо.
– Всё, пора, – сказал я Натахе, и присел снова на кровать – на дорожку.
И заторопилась Наташа собираться, хватая все вещи, что без дела два дня валялись. И надел я обувку, и вышел вон из квартиры Наташи, что домом мне была пару дне, а Натаха слелом. И прошёл я мимо вахты той, что ха всем следит, в последний раз, и вышел вон. И шли мы с Наташей к автобусной остановке, а она что-то опять пошлое шутило. И подумал я случайно – не остаться ли мне ещё на ночь в Перми, женщину разведённую удовлетворить, и себя? И пришли мы к остановке той, где подростки дурачились от безделья, как мартышки половозрелые.
И подъехал, самым неожиданным образом, наш автобус до города. И зашли мы в него, заняли места свободные. И говорила мне что-то Наташа, а я и не слушал вовсе, а рядом ещё контролёрша с подружкой болтала, и я её тоже не слышал. Я лишь слышал себя и мысли свои. И остановился автобус случайно на остановке, бабушку подобрав.
– Молодой человек, – сказала контролёр, – уступите место бабушке.
И уступил я место бабушке, что было рядом с Наташей, хоть и были в автобусе свободные места. А контролёрша всё базарила на те темы, что Наташа постоянно говорила. И обсуждала она то, как кто-то с кем-то встречается, и замуд выходить не хочет. И слышал их весь автобус, отрешённо поглядывая в окно. А подруга её, да и она сама, больше на казашек походили, чем на коми-пермяков. И снова остановился автобус непонятно где, и осталась контролёр одна – ушла её подружка. И занял я место свободное, поближе к власти, что в виде контролёра была предсавлена в автобусе. И остановился вновь автобус, и ушла та бабушка, что сидела рядом с Натахой.
– Костя, иди сюда, – звала меня Натаха.
– Нет, у тут, у власти местной, хорошо, – отвечал я.
А контролёрша слушала наш разговор и громко смеялась. И остановился опять автобус у остановки какой-то. И зашли ещё народ.
– Уступи мне место, – требовала одна женщина, что запомнил я её с мальчишеской стрижкой.
И встал я покорно, уступив ей место. И стоял я в проходе, дожидаясь, когда же я приеду на вокзал. И чувствовал я уже усталость, хоть только и начал свой путь. А Натаха уже болтала с той бабулькой, что подсела к ней. И видел я, что общалась она со своим будущим – так легко они понимали друг друга. И оглядывалась Натаха на меня, спрашивая – как дела? А я ехал молча, понимая, что должен страдать. И тянул меня назаз, всё время, рюкзак мой тяжёлый. А яркое солнце продолжало палить – было жарко. И видел я за окном Пермь не увиденную. И остановился автобус в последний раз, у остановки конечной. И вышел я быстро, скорее высвободиться от духоты автобусной. А следом за мной Натаха плелась. И шёл я на вокзал на который и приехал. И вспомнил я, что думал, что Перми одного вокзала недостаточно, поэтому и появилась Пермь-вторая. И оставил я Натаху где-то одну, у вокзала, а сам пошёл билет себе покупать. И купил я билет до станции Балезино – до самой ближайшей станции на запад. И слышал я за спиной топотания суетливые. И знал я, что это Натаха, помаячить зачем-то пришла. И шептала она мне что-то, а рядом три стража полиции проходили мимо. И смотрели они на меея и Натаху странно, нехорошо. И думал я, как бы мне не хотелось, чтобы меня прибрали полицейские из-за этой девки суетливой. Но прошли они мимо, хоть и каждому мы не понравились. А Натаха мне всё шептала что-то, а я услышал её, как только полицейские скрылись за стенами вокзала.
– Тут моя бабушка на вокзале, – говорила она.
– И что? – не понимал я ничего.
– Она видимо на дачу поехала, – говорила оглядываясь Натаха.
– Ну и где она? – спрашивал я.
– Там, на платформе, возле вокзала, – отвечал Натаха, странно смеясь.
– Ну пошли на другую, – говорил я.
И пошли мы с ней на другую платформу, чтобы не встретить бабушку, что могла увидеть чужого, незнакомого ей мужика с её внучкой. И отправлял я Натаху вон с вокзала, объясняя, что я и сам могу уехать.
– Езжай домой – не надо меня провожать, – говорил я.
– Не, я тебя провожу, – настаивала Наташа, – сейчас она скоро уедет.
И падало всё из рук Натахи. И жалел я себя в тот момент, что попался мне в Перми такой друг. И разорвалась цепь у сумочки, что блистела оттенком истёртой краски, что долно было походить на золото. И паниковала Наташа почему-то, не прекращая странно смеятся, рот рукой прикрывая. И звонила ей бабушка, в это же время, рассказывая, что поехала она на дачу сейчас. И врала ей внучка, что на красную шапочку похожая, что в делах она вся, занятая. И ждал я электричку свою, чтоб уехать скорей подальше от Натахи. И вдруг – стало тихо. И поняли мы, что электричка, на которой бабушка Натахи едет на дачу, уехала. И пошли мы на тот перрон, попутно спрашивая дорогу у продавца мороженного, где стояла моя электричка. И сели мы на скамейке попрощаться, как парень и девушка прощаются. И хотелось мне скорей уйти и сесть в пропитанную потом электричку. И спрашивала Натаха ещё, у работников железной дороги – правильно ли я еду? И обнялись мы с Натахой напоследок. И почувствовал я тело её. И ощутил грудь мягкую, и тело здоровеющее. И знаю я, о чём думала, в тот момент, Натаха. И попрощались мы с ней, не договорившись даже встретиться ещё раз. И поднялся в вагон тот, что выбрал случайно. И сел я на то место, где перрон и Пермь было видно. И видел я Наташу через вагон электрички, и было мне как-то спокойно и хорошо. И помахала мне рукой Натаха на прощанье. И я помахал ей в ответ. И видел я, как ушла она куда-то по-делам своим, ориентировочно – на восток. И остался я один – свободным и одиноким.
И мог я делать всё что угодно – хоть вылезти из электрички, и пойти жить другой жизнью в этом городе. И сидел я и ждал, когда же электричка тронится, и поеду я на запад. А солнце всё палило, жарило, и было всем непосебе. И слышал я уже разговоры шумные позади, на непонятном, смешанном с чем-то русском языке. И какие-то, непривычно активные были эти люди – живые, деревенские.
Балезино – Киров
И как только я призадумался о том, что можно и выйти вон, так хлопнули двери и электричка дёрнулась вперёд. И медленно медленно тянулась она туда, куда все хотят уехать. И поехала электричка, народом разным наполненная, тихо бремча колёсами. И смотрел я всё в окно, наблюдая за тем, меняется вид дорожный. И казалось мне уже, что жизнь которую я прожил с Наташей, последние два дня, уже была не со мной, и не сегодня. И слышал я позади разговоры, и понимал я, что люди там празднуют что-то – кушают, обсуждают дела свои, и при этом – ещё узнают знакомых, что случайно попали в этот же вагон. И говорили они, как я понял, на удмуртском языке, не забывая и русское словечко добавить. И сидели напротив меня два парня длинноногих. И ноги свои они не знали куда деть. И хоть и разные были они – один с тёмными волосами, а другой с рыжими, очень похожими они были, как двоюродные братья. И ехали все куда-то туда, домой. Одни я, несчастный, всё хотел в западную Россию попасть необычным способом. И ходила по вагону, в это время, растерянный контролёр, что билета проверяла и зайцев в поезде искала. И к каждому она подходила – рвя билетик, и отдавая его обратно. И ко мне подошла, посмотрела на билетик, порвала, и ушла. И ехали мы все дальше. И слышал я, как компания шумных людей хотела угостить, перекусом небольшим, контролёра строгого. И останавливались мы у пеньков и заборов, что имели странные названия деревень. И интересно было мне заглянуть в каждую – посмотреть – как там живут люди простые? И шумел народ в электричке вечерней. И шумели колёса железные. И бегали люди, из одного вагона в другой, дверями железными шумя. И услышали все крики в тамбуре возмущённые.
И кричали что-то люди, ища контролёра, требуя объяснений. И шла к ним напуганный контролёр – слушать жалобы. И поняли все, по крикам встревоженным, что не открылись у электрички двери, те, что к северу были направленны. И ждали смиренно пассажиры в тамбуре, когда же выпустят их, хоть и проехали они уже свою станцию. А электричка, как назло, продолжала ехать всё дальше и дальше. И ничего, никто, не мог поделать в этой обречённой ситуации. И смотрели они покорно на дверные створки электрички. И читали они надпись, что была сделана, по трафорету, старой, горчичного цвета, краской, ту самую надпись, что читали все жители страны большой. И видели они буквы эти, на которых краска эта обтёрлась да отвалилась местами. Буквы, те буквы, что сами по себе не красивы и строги, чрез которые видны все бескрайние просторы наши, что полюбили мы навсегда, хоть и не понимаем этого. И ведь каждый, эту надпись, читает ещё раз, хоть и не замечает этого, как только собирается выходить на станции своей. Вот они там стояли и читали – "не прислоняться", и видели пугаючи одинаковый вид, что разделяет одну станцию от другой.
И шептались пассажиры, испуганные неприятнейшим событием.
– Что случилось? – спрашивал кто-то
– Похоже, с той стороны двери не работают, – отвечали другие.
И ведь великая случайность – сесть в именно в этот вагон, а не другой. Но ещё более выликая – пойти, со своего места, направо, а не налево. И при этом, я видел, что люди эти сидели где-то рядом со мной, но всё же решил почему-то пойти направо, уж потом, когда поняли, что те двери – это ловушка, они бежали обратно, через весь вагон, к той двери, что была открыта, но было уже поздно. И как бы они не стучали по закрывшимся двермям, двери не открывались. Потому что не может электричка, что поехала дальше, вернуться назад – это необратимый процесс. И все до единого знали это, в том числе и те люди, что не вышли на своей станции. И стояли они покорно в тамбуре, ожидая следующую остановку. И смотрели они в горизонт, на север, как и я, когда только домой приеду с западной России. И остановилась где-то электричка. И крикнула разозлённая женщина, уставшей, что-то нехорошее и злое. И вышли пассажиры те, кто должен был выйти на этой станции, и те, кто не должен был. И смотрел я в окно и видел любей, что проехали свою остановку из-за глупости какой-то. И шли люди по платформе номер один и проклинали они всё и вся, идя куда-то туда. И думал я, как некоторые другие в вагоне – как они будут добираться до дома? И поехала дальше электричка, набирающи гудя, разносить пассажиров по просторам страны. И видел я, что солнце уже стремится упасть за горизонт, туда, где не видно было бы объекта, что всю жизнь земную согревает. И увидел я одни, как скрылось оно за лесами густыми и тёмными, и засмеркалось пространство вокруг. И заметил я, на небе тучи хмурые, что не видел я несколько дней. И стало очень темно в электричке, так темно, что включили свет, который освещает вагоны, когда темно на улице. И заметно было, что чем сильнее вечереет, тем меньше народу в вагоне едет. И расползлась, по станциям маршрутным, компания шумная, что позади сидела. И шла к тамбуру женщина весёлая, что была самая шумная в вагоне. И что-то хохотала она, шутила уходя.
– Ой, сумку забыла, – говорила она возвращаясь.
– Тут нет твоей сумки, – отвечал ей кто-то.
И искала женщина сумку свою, которую где-то оставила.
– А где я её оставила? – спрашивала она у всех, в том числе и у себя.
Но никто не знал – где её сумка. А электричка, как назло, всё торопилась скорее приехать к той станции, к которой женщина эта ехала. И не было понятно – то ли она её потеряла на пункте отправления; то ли, сумку эту, украли во время пути; то ли и не было вовсе этой сумки, и женщина что-то забыла, не помнила.
– Ладно, потом, надеюсь, найдётся, – говорила женщина хохоча, торопилась к тамбуру, к правильной двери, к той, что открывается. И вышла она в темнеющее пространство, на станции своей, держа в руках какую-то сумку. И двигалась наша электричка дальше. А мне всё боязно было смотреть в окно, ведь там – бушевал уже ветер. И видел я, как гнул он берёзы, что вокруг болот местных росли. И странно мне было, будто еду я вникуда, в ад. А в вагоне уже сидела мало народу – пару человек и контролёр, а все остальные разъехались по станциям своим попутным.
– Вы до куда едет? – спросила меня томный контролёр, надвиснув надо мной, склонив голову.
– До Балезино, – отвечал я, боясь, что меня могут высадить во тьму.
– До Балезино? – удивилась контролёр, – понятно.
И уходила она куда-то туда, позади, где сидели оставшиеся пассажиры. И страшно мне было оглянуться, увидеть тех, кто приследует меня. И смотрел я в окно, и видел я там, как бушевала гроза. И всё-таки оглянулся я на всякий случай, и увидел я, что в вагоне сидит всего пять человек, в то числе и я. И страх мой, как оказалось напрасный был на это счёт – такие же люди, как я, сидели в вагоне, блеклым светом покрываемые, и тоже ждали остановки своей. А страх мой был на основе того, что ночевать, в Балезино этом, мне было негде. И чем ближе мы подъезжали к Балезино, тем страшнее мне становилось. И выходили из вагона последние пассажиры.
– Осторожно – двери закрываются, – сказал голос из неоткуда, – следующая остановка Балезино – конечная.
И услышал я это, и интересно стало мне – кто ж до самого Балезино со мной едет? И увидел я в вагоне двух девушек болтающих и смеющихся. И ушёл куда-то в другой вагон контролёр, дверми от тамбура хлопнув, и оставив нас одних. И хотелось мне подойти к ним – попроситься на ночлег, но боялся я, что примут они меня за сумасшедшего. И встал я с места своего, на котором пронёсся в пространстве от точки "А" до точки "Б". И закинул я рюкзак свой тяжёлый на плечи уставшие. И смотрел я на своё отражение, что виднелось от окна, за которым была только тьма. И поглядел я в их сторону странно – себя и их пугая. И решил я всё-таки подойти к ним, не желая спать на вокзале или на улице. И шёл я медленно по проходу вагона к девушкам этим, а они лишь притихли на местах своих. И рассказал я им о себе, и о том, что мне ночлег на ночь нужен.
– Здравствуйте, девушки, – сказал я.
А девушки молчали.
– Мне нужна вписка в Балезино на ночь, – говорил я, – я путешестую по стране нашей.
И слушали они меня замерши, боязливо.
– Ладно, не буду вас пугать, – сказал я, и ушёл с обидой в горле.
А они так и нечего не ответили, лишь молчаливо пронаблюдав. И пришёл я обратно к своёму месту, опозоренный, сам не зная за что. И понял я, в тот момент, что все привыкли говорить, что они любят путешествовать, но меньше всего, всем хотелось бы встретить путника, что идёт мимо их дома в поисках ночлега. И приехали мы к станции какой-то. И шли, девушки эти, налево, поэтому-то и мелькнули перед глазами моими ещё раз. И стояли они в тамбуре – ожидая, когда же откроются двери. И вышел я, в этот же тамбур, ожидая того же. И ждали они молча впереди, читая ту самую надпись. И знал я, что думали они, в тот момент, обо мне, о том человеке, что не должен был оказываться в этом месте, у станции Балезино. И открылись двери неожиданно, как бы долго их открытия не ждали. И вышли девушки первыми, в тёмное пространство спустившись по железным лесенкам.
– Приехали, мои путешественницы, – говорила какая-та женщина, что слышал я.
И прошёл я мимо, и пропали из виду силуэты в темноте, что скрывала предвокзальную суету. И не видел я ничего – только темноту и синие фонари. И не знал я – куда мне идти и что делать? И зашёл я на вокзал – желая купить билет дальше по пути.
– Здравствуйте, – опять поздоровался я, – а какая следующая электричка уезжает?
– Мы не продаём билеты на электричку, – сказала кассир.
– В электричке брать? – удивился я.
– Да, – неохотно отвечала кассир.
– А когда следующая электричка из Балезино уезжает? – всё спрашивал я.
– Молодой человек, – злилась кассир, – завтра утром придёте и всё узнаете.
– Спасибо, – ответил я чуть ли не плача.
И прогнала меня кассир, злобно рывкнув и объяснив, что не продают они билеты.
И видел я, на скамейках вокзальных, бомжа, что сладко спал. И никто его не хотел будить, даже полицейские. И заметил я путника, что был с сумкой большой, и видел я, что решил он расположиться на другой скамейке, свободной, поспать. И не хотелось мне так же ночь проводить, потому что без силы так можно остаться быстро. И боялся я полиции, что бродила вокруг вокзала. И вышел я с вокзала, сев на лавочку ближайшую. И ходил куда-то народ, во тьме ночной. И слышал я гудки и стук колёс об рельсы, где-то недалеко. И было мне непосебе, нехорошо – уставшим был я.




