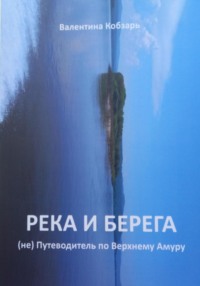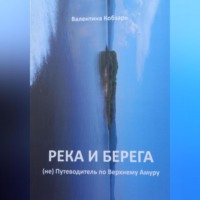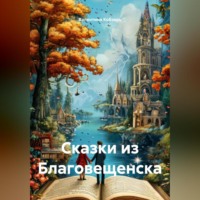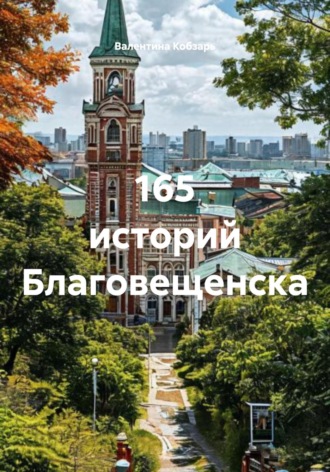
Полная версия
165 историй Благовещенска
«Пути сообщения в некоторых местах находятся в плачевном состоянии, – писала летом 1912 года газета «Эхо». – Мосты, ведущие к Зее, в полуразрушенном виде, по некоторым из них невозможно проехать без риска сломать экипаж, другие, как ведущие по Невельской к мельнице Кувшинова, утратили даже видимость мостов». О каких мостах, ведущих к Зее, идёт речь, установить не удалось, а рельеф местности с тех времён очень сильно изменился и не угадаешь, через ручьи или овраги были перекинуты те малопригодные для эксплуатации сооружения.
Ассенизация
Одной из важнейших городских проблем была ассенизация и, если о необходимости устроить водопровод благовещенские врачи говорили постоянно, то о необходимости канализации не заикались – это было слишком дорого. Ассенизация проводилась примитивным образом: нечистоты скапливались в выгребных ямах и специальных ящиках, установленных в ретирадах, а после вывозились на «свалочные места» за городской чертой.
До 1911 года, когда в Благовещенске был организован городской ассенизационный обоз, удалением нечистот занимались исключительно частники. Каждый такой возчик раз в год должен был (за определённую плату) получать в управе номер. Этот номер был разрешением на занятие ассенизационным извозом. Тот, кто работал сам на себя, выкупал один номер, тот, кто имел наёмных работников, выбирал по несколько номеров. Среди первых были в основном китайцы, среди вторых – в основном русские.
Будучи монополистами, золотари (не путать с золотопромышленниками) вели себя соответствующим образом. «Наши ассенизаторы, – писала «Амурская газета» в 1902 году, – вызывают постоянные нарекания за беспорядочную очистку, небрежное и грубое обращение, за невозможно высокие цены. Вот несколько фактов, характеризующих их отношение к обязанностям. Ассенизаторы вывозят нечистоты ночью, когда никого нет, разливают их по улицам, площадям, а за городом выливают куда вздумается: в кустах, под горкой, в канаву. Один китаец был замечен, когда выливал свою бочку в Бурхановку. Убежал. Ассенизатор Кочетов был уличён в том, что выливал бочку в кусты вблизи города. Мировой судья приговорил Кочетова на 10 суток ареста. А вскоре его вновь застали за тем, что он по полю разбрасывал нечистоты».
Чтобы контролировать ассенизаторов, городская управа нанимала специальных конных объездчиков. Работа у них была, прямо сказать, опасная: ассенизаторы буйно реагировали на проверяющих, ожесточенно сопротивлялись при задержании, а иногда и сами нападали, так что объездчики не выезжали на свои участки иначе как вдвоём-втроём.
Горожане очень часто жаловались на пренебрежительное отношение ассенизаторов к правилам гигиены: «Они не моют свои бочки и ящики, ставят их там же, где живут, они воняют!»; «Пусть бы назначили за городом особый пункт, где бы ассенизаторы оставляли на день орудия своего производства»; «На углу Вознесенской и Никольской постоянно целые обозы ассенизаторов, направляющиеся к местам свалки. Жители жалуются, что окон открыть невозможно. 3 мая обоз из десяти подвод тянулся на сто шагов по Никольской. Ароматы были так сильны, что встречная публика спасалась в боковых кварталах».
Безнаказанность золотарей доходила до того, что они шантажировали и буквально терроризировали тех, кого нанимались обслуживать. Взяв, к примеру, плату за год (!) вперёд (а на других условиях отказывались обслуживать вообще), через некоторое время требовали прибавки. Несогласных по-своему «наказывали». «У домовладельца Ш. выдвижной ящик клозета вынули и бросили посреди двора, – сообщала «Амурская газета» летом 1902 года и добавляла «красок». – В продолжение последних дней на Большой, между Бурхановской и Корсаковской, стоял выброшенный на улицу ящик из ретирада со всем его содержимым. Такие же ящики, распространявшие страшное зловоние, можно было наблюдать недавно на площади нового базара и в некоторых других местах города. Подобные вещи лучше всего доказывают, как поставлено у нас санитарное дело и вопрос об ассенизации. Следовало бы председателю городской санитарной комиссии самолично приняться за дело, а не откладывать его в долгий ящик. Ведь не для почету же одного он избран на пост руководителя санитарно-исполнительной комиссии! Как слышно, возникла мысль избрать из этой комиссии подкомиссию для изучения ассенизационного вопроса. Будем ждать, к какому результату приведут её исследования, а пока будем наслаждаться благоуханиями расставленных по улицам ретирадных ящиков. Многочисленные жалобы на золотарей в достаточной мере убеждают в необходимости организовать городской ассенизационный обоз, хотя бы только для того, чтобы конкуренцией заставить частных предпринимателей улучшить своё дело».
Вопрос о городском ассенизационном обозе поднимался и обсуждался не раз, но конкретные шаги были предприняты только летом 1902 года, в разгар эпидемии холеры. 28 июня 1902 на специальное заседание в городской управе были приглашены все подрядчики, занимающиеся очисткой клозетов, выгребных ям и прочих нечистот, чтобы «с помощью специалистов своего дела установить какую-нибудь норму для определения вознаграждения за очистку. Издаются же таксы для ломовых и легковых извозчиков, для мясников и проч. Почему же ассенизаторы поставлены в привилегированное положение и никого знать не хотят?»
«Валовой» показатель ассенизаторской службы был известен. За весь 1901 год было вывезено на свалочные места 1600 ящиков мусора, у частных лиц выгребли 4750 ящиков нечистот, из городских учреждений – 8250 ящиков того же. Ассенизаторы уплатили почти 13 000 рублей налогов (для сравнения – аренда амурского перевоза дала всего 10 000 рублей). А вопрос о какой-то фиксированной оплате очистных работ оказался непростым: члены управы никак не могли определиться, что взять за единицу отсчёта? Предлагали брать плату с каждого дома, но дома не одинаковы; с каждой ямы, но неизвестно, кто сколько чего в ту яму выбросил; по специальностям жителей: с купцов, к примеру, брать одну плату, с кожевенников – другую и т. д. Сколько ни толковали, прийти к соглашению не смогли.
Заседание 28 июня 1902 года было все же не бесполезным. На нём приняли решение уравнять расстояния от разных частей города до свалочных мест («С первого и второго участков будут вывозить в одно старое место, с третьего – на новое, левее завода Шадрина»); ассенизаторам предложили самим разделить город между собой «сообразно своей силе», то есть количеству бочек и лошадей. Кроме того, им пообещали выплатить единовременное пособие, если они будут производить вывозку нечистот на необременительных для жителей условиях; выделили ссуду на «устройство» новых ассенизационных телег; пригрозили (!) созданием городского обоза.
Но, собравшись в очередной раз для обсуждения ассенизационного вопроса, члены санитарно-исполнительной комиссии были вынуждены признать: «С чистильщиками невозможно сговориться, они не желают сдерживать цен и менять своих привычек». Тогда решили, во-первых, усилить состав комиссии, включив в неё двух врачей и всех полицейских приставов, во-вторых, собрать на совещание всех санитарных попечителей (представители общественности, призванные следить за санитарным состоянием закреплённых за каждым кварталов).
В 1902 году санитарным попечителям поручили собрать сведения, необходимые для создания городского санитарного обоза. Они обходили домовладения своих участков и в особые бланки, подготовленные городской управой, заносили число проживающих в каждом дворе, количество выгребных ям и ватерклозетов, стоимость очистки дворов и «кто её производит», согласны ли домовладельцы передать очистку дворов городскому ассенизационному обозу и по какой цене.
В сентябре того же года дума Благовещенска решила ходатайствовать перед правительством о разрешении организовать на городские средства ассенизационный обоз и предоставить ему монопольное право очистки для устранения конкуренции. По закону, для удовлетворения такого ходатайства было необходимо согласие большинства жителей. К тому времени жители 60-ти городских кварталов уже подтвердили, что готовы очищать свои дворы при помощи городского обоза с платой «по 30 копеек с души (не моложе 10 лет) в год».
Почему городской ассенизационный обоз, для организации которого было уже так много сделано, так и не заработал в 1902 году, установить не удалось. Не было этого обоза ни в 1909, ни в 1910 году, когда проблема вновь стала суперактуальной из-за страшной эпидемии чумы, которая свирепствовала в Маньчжурии.
Больше всего опасений в отношении санитарии вызывал китайский квартал Благовещенска. Он занимал небольшую площадь на западной окраине Благовещенска (между Загородной и Артиллерийской). В мае 1910 года члены городской санитарной комиссии провели проверку китайского квартала и обнаружили полное отсутствие отхожих мест, ужасающую грязь, всюду – органические отбросы: в одних дворах гнили кишки, в других стояли ассенизаторские ящики, тут же продавалось свежее свиное мясо.
Антисанитария была такой вопиющей, что члены санитарной комиссии решили привлечь к ответственности через суд разом всех здешних домовладельцев и составили протокол на всех обитателей китайского квартала!
Обычно зимой китайские ассенизаторы увозили нечистоты из благовещенских ретирад в Сахалян и продавали их там с аукциона: огородники из «заграничного сырья» делали удобрения. Извозчики получали по 4-6 копеек за пуд нечистот. Увозя за раз 40-50 пудов и съездив в Сахалян три-четыре раза, они зарабатывали шесть-семь рублей за день. Очень хороший доход.
В начале зимы 1910 года один из китайцев-ассенизаторов обратился к чжи-фу (городской голова) Сахаляна с просьбой разрешить и ему, как другим, вывозить в Сахалян содержимое благовещенских уборных. Чжи-фу не решился выдать официальную бумагу, но сказал, что можно «возить потихоньку, кому какое дело».
Подрядчик так и делал. А когда в феврале 1911 года из-за эпидемии чумы в Маньчжурии границу закрыли, начал хвастать, будто его запрет не коснётся, и он будет возить свои ящики по-прежнему. Сахалянские китайцы возмутились: «Нам через границу нельзя ни ходить, ни ездить, а ему можно?! Что, мы хуже русского г–на?» К чжи-фу поступил донос, он принял меры. В результате было задержано пять возов «контрабанды». Всё задержанное «добро»… продали с аукциона.
В феврале 1911 года, наконец, появился городской ассенизаторский обоз в 50 подвод – дума ассигновала на его организацию 15 000 рублей, а на содержание – ещё 8 600 рублей. Уже в апреле того же года городской обоз увеличили, чтобы он мог обслуживать не только «казённые» учреждения, но и частные дома.
Централизованная канализационная система появилась в Благовещенске с началом массового строительства многоквартирных домов в 60-е годы ХХ века.
Водопровод
Первый на Дальнем Востоке водопровод появился в 1907 году в Хабаровске. Примерно в то же время начали обсуждать его устройство и в Благовещенске.
«Благовещенск – город малокультурный в гигиеническом отношении, так как в нём нет водопровода и канализации», – вот такой «приговор» вынесли самому большому городу Дальнего Востока члены местного Общества изучения Сибири и улучшения её быта в отчете за 1909 год.
Журналист одной из городских газет дополнил неприятную и очень вредную для здоровья картину своей заметкой: «Городские жители, как и всегда весной, принуждены употреблять вместо воды какой-то навозный настой, так как весь берег Амура завален толстым слоем навоза. Особенно много его выше мола, у купальни». А водовозы «заправлялись» ниже по течению!
Когда Зея и Амур были достаточно полноводны, проблема качества воды обострялась только весной и осенью – во время ледохода и ледостава. Но в мелководье горожане страдали и от дефицита, и от невозможных «кондиций» воды. Конечно же, «навозный настой» становился источником заразных заболеваний, и тогда санитарная комиссия городской управы в очередной раз предлагала организовывать снабжение питьевой водой «не только посредством водовозов».
Летом 1910 года, например, обсуждалась идея устроить четыре «электромоторных водоразборных колодца» на Иркутской улице и десять помп в наиболее населённых местах, поставить бак на 2 000 вёдер с фильтром на Амуре, провести химический анализ воды в родниках на Набережной – около Графской улицы и около военного лазарета – для возможного их использования. Это были необходимые, но временные меры. Городу нужен был «правильный», как тогда выражались, водопровод.
По разъяснению Сената (высший государственный орган законодательной, исполнительной и судебной власти Российской империи), «постройка городского водопровода, как сооружения, неправильность которого может угрожать общественной безопасности», возможна была только после утверждения проекта губернским начальством.
Прежде чем приступить к проектированию, отцы города провели подготовительную работу. Гласный И.А. Койо, ознакомившись с устройством водопроводов в городах Западной Европы, подготовил специальный доклад и выступил с ним в думе. По поручению управы заведующий бактериологической станцией В.А. Смолич провёл анализ зейской воды в районе устья речки Чигири. «При исследовании оказалось, что в одном кубическом сантиметре содержится до 100 обыкновенных водных микробов, – докладывал Владимир Алексеевич. – Такая вода считается очень высокого качества». В итоге решили тянуть водопровод от Зеи.
Инженер В.И. Шимановский сделал предварительный расчёт стоимости сооружения и условий эксплуатации будущего благовещенского водопровода. Отцы города размахнулись: вся сеть должна была протянуться на 109 вёрст, основные чугунные трубы предполагалось уложить на 30 верстах (в Хабаровске только 20, в Рыбинске – одном из первых в России городов с правильным водопроводом – 15 вёрст). Минимальная стоимость сооружения составила 503 460 рубля.
Что ещё, кроме труб, включал проект? Десять будок для разбора воды: пять каменных и пять деревянных (в Рыбинске было только семь будок), водонапорную башню с фильтровальной станцией и баком ёмкостью около 35 000 вёдер (в Хабаровске – 22 000 вёдер). Башню планировали построить на Семинарской горе, так как она «на три сажени выше средней отметки города». 150 000 вёдер в сутки предполагалось продавать всем желающим по 30 копеек за 100 ведер (в Хабаровске – 35 копеек), а 50 000 вёдер в сутки отпускать бесплатно на общественные нужды – тушение пожаров, поливку улиц и т. д. Суточный валовой доход планировался в размере 450, а годовой – 164 250 рублей.
В пояснительной записке к проекту В.И. Шимановский писал: «Первые год-два количество вёдер платной воды будет меньше вследствие консервативности населения ко всем нововведениям, но, если судить по примеру других городов, население быстро усваивает полезность фильтрованной воды, и количество абонентов будет быстро расти».
Водная проблема много раз обсуждалась на заседаниях городской думы. Газета «Эхо» сохранила для нас подробный отчёт об одном из таких совещаний.
Гласный Коротаев: «Водопровод обойдётся не в 550 тысяч, как по проекту, а – минимум – в полтора миллиона рублей. Доходность его не покроет процентов займа, и городу грозят новые налоги».
Гласный Дулетов: «Если водопровод будет оздоравливать жителей, на этом нельзя экономить, мы должны застраховать своих детей и детей ближних».
Гласный Кондрашов: «У меня десять детей и все живы, хоть и без водопровода! Отцы наши пили воду с Амура, и нам не надо водопровода!»
Гласный Селезнёв: «Бедным электричество в городе даёт только убытки: они им не пользуются, а за охрану фонарей платят. То же будет и с водопроводом, ведь он пройдёт только по центральным улицам!».
Гласный Алексинский: «Предлагаю создать специальную комиссию по проработке вопроса водопровода, а ей на расходы выделись 5 000 рублей».
Дебаты были бурными, гласные разделились на два лагеря: одни были за сооружение водопровода, другие – против. Последних называли «антиводопроводчиками».
Председателем водопроводной комиссии стал Н.П. Алексинский (через год он сбежит из города с деньгами переселенческого управления, управления Красного Креста и Общества спасания на водах).
Летом 1910 года дело ограничилось анализами воды и предварительными расчётами. Летом 1911 года пришло время расширять электростанцию: желающих заменить керосиновые лампы на электрические становилось всё больше. Решили заодно провести и водопровод. Не полный, в 109 вёрст, а частичный, длиной в 1750 саженей: по улице Большой – от Офицерской до Станичной; установить на этом участке три водозаборные будки и 20 противопожарных кранов. Стоимость сооружения – 52 000 рублей – существенная, но не заоблачная.
Управа обратилась к инженерам-технологам Е.В. Степаненко и В.И. Шимановскому с предложением составить по общему водопроводу эскиз проекта с точными расценками, по временному – детальный проект со сметной частью. Инженеры заверили, что первый проект сделают за четыре месяца, второй – за два с половиной месяца, а ещё, где нужно, сами проведут нивелировку. За свою работу они назначили оплату в 6 000 рублей и выполнили её в срок, но…
«Правильный водопровод» появился в Благовещенске только в 1951 году. И тогда он не сразу добрался до Новых кварталов. Настало время рассказать о них.
Новые кварталы
Северные «кварталы» делились на Забурхановскую слободу (от Садовой на запад) и Горбылёвку (от Садовой до Зеи). Некоторые дореволюционные названия улиц в этом районе сохранились до нашего времени: Высокая, Свободная, Конная, Литейная, Рабочая.
Одна из улиц в Новых кварталах изначально называлась Горбылёвкой. Жителям название не нравилось. В 1908 году они обратились в городскую думу с прошением её переименовать. Думцы очень веселились, когда услышали название, которое придумали сами «горбылёвцы», но одобрили его и стала улица Коммерческой. Название слободы – Горбылёвка – осталось прежним.
Землю за Бурхановкой можно было выкупать (по 4 рубля за квадратную сажень), брать в аренду (в 1910 году на правах аренды было застроено 413 участков). Некоторые поселенцы занимали участки «без контракта», формальности утрясали позже. Одно время управа грозилась отбирать такие захваченные участки, а потом передумала.
За Бурхановкой селились рабочие, ремесленники, мелкие лавочники, те, кто нанимался в городе прислугой, здесь находили приют бездомные. Поэт и журналист Фёдор Чудаков, когда появился в городе в 1908 году, поначалу страшно бедствовал. Вот как описывает он своё пристанище того времени: «Я находился без работы и, не располагая достаточным запасом «свободной наличности», вынужден был поселиться в одной очень грязной, зато доступной по цене харчевне, какими изобилуют захолустные улицы Благовещенска. Я спал на грязном полу возле стойки, прикрываясь своими лохмотьями…».
Для таких бедолаг городское самоуправление содержало ночлежку. Когда она была организована и где находилась изначально, неизвестно. В 1909 году тюремное ведомство обратилось в думу с неожиданной просьбой: уступить ей ночлежный дом, чтобы разместить в нём заключенных (местная тюрьма была чрезвычайно переполнена). Поначалу думцы отказались: еженощно ночлежку посещало несколько сот человек, куда их девать? Потом решили отдать помещение в аренду тюремному ведомству за 2 500 рублей в год (в бывшей ночлежке организовали филиал тюрьмы), купили «у Чурина» за 10 000 рублей дом за Бурхановкой, отремонтировали и приспособили под ночлежку.
Новый ночлежный дом открылся осенью 1910 года на 4-й Забурхановской улице: каменное здание, внутри нары в два ряда и в два яруса, вентиляция, кухня с медным кубом для воды, помещение для надзирателя. Дума отменила плату за ночлег в новом пристанище! По данным городской управы, только за 15 сентября 1910 года (вскоре после открытия) приют принял 533 (!) ночлежника. Летом обычно их было не больше 300.
Население забурхановского предместья каждую ночь прирастало за счёт бездомных, но и само по себе росло стремительно. В 1909 году здесь проживало около 2 000 человек. По итогам переписи, которую в октябре 1910 года провёл 4-й полицейский участок, за Бурхановкой проживало уже 4 963 человека: русских – 1 386 мужчин и 1 317 женщин, 2 192 ребёнка, китайцев – 58.
Жили бурхановцы совсем рядом с городом, но добраться до него было проблематично из-за недостатка мостов и разливов речки. В апреле 1910 года в газете «Эхо» Фёдор Чудаков описывал, как мужик по имени Клим собирается в Общественное собрание на торжественный обед по случаю праздника основания Благовещенска, куда его, естественно, никто не звал, но помечтать-то можно. «…Сама его манера собираться в путь доказывала, что он коренной бурхановец: Клим стал раздеваться. Стянул с себя старые бродни, потом штаны, завязал это всё мочалкой, поднял подол рубахи до подбородка, сапоги со штанами взял под мышку и вышел. На дворе вода доходила только до колена, но на улице с первых же шагов пришлось погрузиться до пупа, а потом ещё выше».
Конечно, сатирик Чудаков (одно время он сам снимал угол в домике на берегу Бурхановки) утрирует, но совсем немного. Время от времени речка разливалась аж до Амурской улицы. Летом 1910 года случилось мощное наводнение. Зея подпёрла Бурхановку, речка вышла из берегов, прорвала дамбу, затопила площадь на углу Театральной и Иркутской, по Семинарской дошла до Амурской, затопила двор третьей пожарной части. Прорыв на дамбе заделывала команда пожарных и несколько вольнонаёмных рабочих. Работами руководили городской голова И.Д. Прищепенко и член управы Щёголев.
В 1908 году благовещенская дума приняла решение ввести в Благовещенске всеобщее начальное образование. Разработали программу, рассчитанную на десять лет, и очень рьяно взялись за её реализацию. В течение первого года за Бурхановкой открылись три школы! Их назвали именами Толстого, Тургенева и Ломоносова. В 1911 году Тургеневская школа сгорела. Надо отдать должное отцам города: в короткие сроки они нашли деньги на строительство нового здания. Реализация программы всеобщего начального образования шла довольно успешно. И всё же, как тогда выражались, «за бортом школы» оставались тысячи детей.
Кабаков за Бурхановкой было значительно больше, чем школ. Каждый год городская дума составляла «расписание числа мест раздробительной продажи крепких напитков», то есть разного рода питейных заведений. В 1909 году, например, торговля крепкими напитками воспрещалась вообще «на всём протяжении улиц Артиллерийской, Безымянной, набережной реки Зеи» и ещё на 33 городских участках! На Новые кварталы этот запрет не распространялся: здесь было множество кабаков. «Насколько велико потребление спиртных напитков в Забурхановке и Горбылёвке, показывают следующие официальные цифры, – писала газета «Эхо» в декабре 1912 года. – В 1911 году эти два предместья дали 30 000 рублей акцизного налога. В текущем году – 46 000 рублей».
Где пьянка, там и буйство. 12 сентября 1910 года в доме Г.М. Лысака (4-я Бурхановская) была вечеринка. «На неё явились бурхановцы, около 20 человек, – писал корреспондент газеты «Торгово-промышленный листок объявлений». – Пришли незваные и вытеснили званых. Хозяин попросил уйти, один из пришедших выстрелили в потолок. Лампа погасла. Стали стрелять и в доме, и во дворе. Двоих убили».
Стрельба и убийства были обычным делом для Благовещенска и особенно – для его окраин. А «бурхановец» было тогда синонимом слова «хулиган». В 1908 году на нескольких улицах Новых кварталов установили электрические фонари. Через пару месяцев их уже не было – местные жители перебили. В 1909 году они разобрали на дрова ограду участка, на котором планировалось построить техническое училище. Одно время бурхановские шалили на городском кладбище и в недостроенном соборе, который несколько лет стоял заброшенным. Много грехов водилось за ними.
Новые кварталы можно было назвать одной из промзон Благовещенска. На Коммерческой лице размещался огромный кожевенный завод торгового дома «И.Я. Чурин и Ко» – он занимал больше четырёх кварталов. От него до Зеи располагалось ещё несколько предприятий по выработке кож и кожаных изделий. Улица, естественно, называлась Кожевенной. Рядом с этим малоприятным производством размещались ещё менее приятные мыловаренные заводы. Дальше на север – кирпичные заводы, за ними – городские «свалочные места».
Здесь не было магазинов – только мелкие лавочки. Сколько ни ходатайствовали забурхановцы, дума так и не разрешила им устраивать на своей территории базарные дни (просили проводить раз в неделю), много лет «украшал» район недостроенный собор. Но были у жителей северной городской окраины и некоторые преимущества
Например, ипподром. Его содержало Амурское общество поощрения коннозаводства. Бега и скачки проводились регулярно и были любимым развлечением горожан. Обитателям центральной части Благовещенска добраться до ипподрома было целой проблемой, а для забурхановцев и горбылёвцев – нет. И скачки, и показательные полёты самолётов, которые устраивали гастролирующие пилоты, местные могли наблюдать бесплатно: с крыш домов, с деревьев, через дыры в заборе. Правда, иногда это было чревато. «Во время полётов авиатора Седова, – писала газета «Эхо» в 1911 году, – конная полиция, отгоняя тех, кто смотрел сквозь щели забора, пустила в ход без основательного повода нагайки. За избиваемых вступился проходивший мимо со взводом матросов офицер Амурской флотилии».