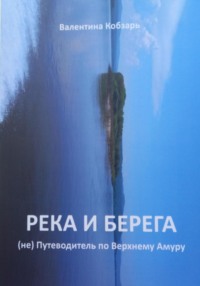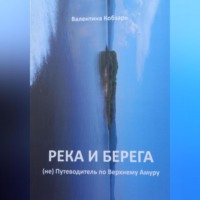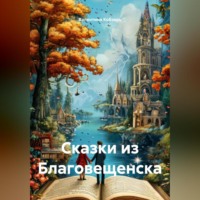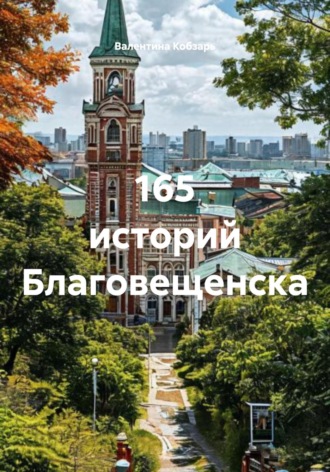
Полная версия
165 историй Благовещенска
В итоге решили повысить доходы, а для этого:
– стоимость промысловых свидетельств увеличить с 7 700 до 8 000 рублей;
– процент сбора с лиц, состоящих на службе в предприятиях, «обязанных публичной отчётности», повысить с 5 000 до 8000 рублей;
– сбор с патентов заведений по продаже «питей» увеличить с 7000 до 8 400 рублей;
– сбор с перевозного промысла через Зею и Амур определить в 17 214 рубля;
– сбор с велосипедов и автоматических экипажей увеличить до 5 000 рублей плюс собирать по 25 копеек с каждого велосипедиста, задержанного без номера;
– усилить надзор за деятельностью аукционного зала, так как дохода от него мало;
– за землю под крыльцом брать с домовладельца вместо 1 000 рублей – 1 300 рублей;
– плату с палаток у зейского перевоза поднять с 2 000 до 2 500 рублей, с хлебных столиков на Гостинодворском базаре – с 6 000 до 8 000 рублей, с киосков – с 4 000 до 4 500 рублей;
– стоимость бечевника (места для пароходных пристаней на Амуре в черте города) увеличить на 2 500 рублей;
– доход городской библиотеки запланировать в 700 рублей.
Расходы урезали, где могли:
– канцелярские и хозяйственные нужды управы (11 000 рублей) уменьшили на 800 рублей,
– содержание канцелярии думы и городской управы (32 710 рублей) – на 360 рублей,
– содержание торговых депутаций и полиции (5 610 рублей) – на 900 рублей,
– содержание помещения городского общественного управления (5 254 рубля) – на 1 255 рублей 28 копеек,
– содержание ночлежного дома (2 055 рублей) урезали на 455 рублей,
– содержание богадельни (6 000 рублей) уменьшили на 1 580 рублей с условием, чтобы тех, кто не принадлежит к составу местного населения, отправлять на родину;
– статистическое бюро упразднили вовсе.
Расходы на личный состав управы (15 600 рублей) пришлось увеличить на 2 400 рублей, так как к трём членам городской управы добавился ещё один сотрудник. Размер остальных статей расхода остался без изменений:
– содержание областного по городским делам присутствия – 960 рублей,
– содержание судебных учреждений – 900 рублей,
– содержание сиротского суда – 35 400 рублей,
– содержание почтово-телеграфной конторы в Призейском районе (восточная часть города, примыкающая к Зее) – 500 рублей,
– оплата городского архитектора, техников, десятников и др. – 12 000 рублей,
– оплата городового врача – 1 500 рублей,
– ассигнование Обществу попечения о подкинутых детях – 2 060 рублей,
– ассигнование Обществу трезвости – 1 150 рублей,
– ассигнование Обществу сестёр милосердия – 600 рублей,
– ассигнование городской больнице – 100 595 рублей 65 копеек плюс 1 000 рублей на выписку препарата «606» (этим новейшим препаратом лечили сифилис),
– ассигнование городским амбулаториям – 7 522 рубля,
– ассигнование родильному покою – 12 380 рублей,
– на пособие едущим в Пастеровскую станцию во Владивосток – 500 рублей (туда отправляли горожан, покусанных бешеными собаками),
– на содержание санитарного надзора – 8 160 рублей,
– на содержание ветеринарного надзора – 3 360 рублей,
– на восемь общественных ретирад (уборных) – 2 100 рублей,
– на микроскопическую станцию – 4 358 рублей,
– на городские свалки нечистот – 1 700 рублей,
– на расходы по прекращению эпидемических заболеваний – 1 310 рублей,
– на мероприятия по борьбе с чумой – 10 000 рублей,
– на расходы по борьбе с эпизоотиями – 11 000 рублей,
– на содержание скотского кладбища – 800 рублей.
Только в конце апреля была утверждена городская смета на 1911 год: доход 907 548 рублей 63 копейки, расход 1 368 462 рубля 37 копеек, дефицит 46 0913 рубля 74 копеек (дефицит 1911 года составил 40 303 рубля 80 копеек). Расходы увеличились из-за борьбы с чумой (1910) и долгов прошлых лет. Все признавали, что «текущий год окажется, вероятно, одним из самых тяжёлых». Интересно, что бюджет Благовещенска за предыдущие пять лет увеличился на 238 %, то есть почти в три с половиной раза. За это же время бюджет Владивостока вырос на 111 %, Хабаровска – на 121 %, Томска – на 85 %, Иркутска – на 65 %, Красноярска – на 147 %.
Главной статьёй доходов были городские сборы. Сведения о них тоже можно узнать из местных газет. В январе 1910 года газета «Амурский край» опубликовала аналитическую заметку о налогах. «Штат служащих управы увеличился и сбор налогов стал эффективнее. За клеймение весов сбор вырос почти в 20 раз – с 54 до 955 р. Ранее одни торговцы платили за клеймение мер и весов, другие не платили, теперь платить стали все. Содержатели трактиров и постоялых дворов постоянно жалуются на налоги и постоянно открываются новые трактиры и дворы. Сбор с них увеличился с 8 791 до 20 990 р. Заведений стало больше и собирать трактирный сбор стали лучше. Со скотобойни в четыре раза больше собирается, мясо при этом подешевело, а ведь раньше побойка производилась на стороне и совсем избегала налога.
Главный сбор недоимок – с недвижимого имущества. Общая сумма оценочного сбора в 1905 году – 11 658 р., в 1908 году – 140 194 р. Строят много. После японской войны население увеличилось: из Манчжурии наплыв населения был очень велик. Квартиры в цене так повысились, что управа оказалась вынуждена отвести под застройку несколько новых кварталов в Забурхановской слободе, а затем ещё целую новую слободу. Эти районы быстро застроились и увеличили общую сумму оценочного сбора. Изменилась система налогообложения. Раньше за строение по материальной стоимости платили, а оно, может, и не приносило дохода. Решили оценивать по количеству земли. Эта мера ввела некоторую уравнительность. Город разбит на районы. Земля оценена по-разному – от одного до 10 р. за квадратную сажень».
Некоторые сборы, которые платили в те времена благовещенцы, выглядят экзотично. Например, плата за устройство крыльца. Каждый раз, когда хозяева какого-нибудь строения желали соорудить «крылечный выступ на улицу», они обязаны были подавать прошение в думу. Размер платы за землю под крыльцом высчитывался индивидуально. В апреле 1909 года содержатель гостиницы «Гранд-отель» запросил разрешение на строительство двух боковых веранд перед домом. Дума отправила представителя, тот всё измерил и постройку разрешили на площади восемь квадратных саженей с платой по 10 рублей за квадратную сажень. Дополнительный вход в дом Алексеева по Благовещенской улице, между Зейской и Амурской, разрешили устроить по цене пять рублей за квадратную сажень.
11 декабря 1909 года городская дума постановила обложить сбором в пользу города вывески, перекинутые через улицы и тротуары. По Большой улице, от Офицерской до Станичной, и по улицам, обращенным к городским базарным площадям, следовало платить по три рубля за квадратный аршин вывески в год, по остальным улицам – один рубль с квадратного аршина в год.
Одной из существенных статей расходов были суммы на содержание канцелярии думы и городской управы. Но, надо сказать, что жалование (так тогда называли зарплату) городских служащих было вполне адекватным. В Государственном архиве Амурской области хранится «Книга выдачи жалования служащим городской управы за 1892 г.» Против каждой фамилии проставлена сумма и расписка в получении.
Январь 1892 года.
Городской голова Ефимов – 200 рублей.
Члены управы Павлов П.Я., Попов П.П., Осколов Н.Г. – по 100 рублей.
Секретарь и бухгалтер – по 125 рублей.
Служащие в канцелярии городской управы Каюков А.И. – 60 рублей, Файнберг В.Д., Абальзамов Н.И., чертёжник и эконом – по 50 рублей, Кудреватых – 40 рублей.
Базарный староста Кувшинов, городские объездчики Громылин и Панков – по 20 рублей.
Сторож при монументе (в честь подписания Айгунского договора) Николай Денисов – 8 рублей.
Сторожа и рассыльные городской управы: Козырев Степан – 35 рублей, Солохин Иван – 30 рублей, Решетников Александр – 25 рублей.
Учителя первой народной школы Карелкин Ил. Ив. и Никитин С.И. – по 25 рублей.
Сторож первой народной школы и сторож второй народной школы Мурзин – по 25 рублей.
Ветеринарный врач – 50 рублей, ветеринарный фельдшер – 45 рублей.
Смотритель бойни М. Швецов – 45 рублей, сторож при бойне – 15 рублей.
Береговой надзиратель Кровецкий – 35 рублей.
Городской врач – 125 рублей, городской фельдшер С. Авраменко – 25 рублей.
Брандмейстер Гесс – 60 рублей.
Библиотекарь – 30 рублей.
Члены сиротского суда Павлов П.Я. и Подмогаев В.М. – по 25 рублей, секретарь сиротского суда – 60 рублей.
Пенсия семейству умершего секретаря Лебедева – 10 рублей.
Содержание кладбищенской церкви: жалование трём смотрителям – 45 рублей, квартирные священнику – 25 рублей, квартирные дьякону – 15 рублей, двум псаломщикам – по 20 рублей.
Сторож при павильоне – 15 рублей (какой именно павильон имелся в виду, неизвестно).
В марте библиотекарю Калюжному А.А. увеличили оклад до 50 рублей, а пенсию семье Лебедева уже не платили. Вольнонаемным служащим городской управы к Пасхальным праздникам выдали наградные: Каюкову А.И. и бухгалтеру Голубеву И.О. – по 40 рублей, Файнбергу В.Д., эконому Прудаеву И.А., брандмейстеру Гессу С.К. – по 25 рублей, чертёжнику Антуфьеву К.А. и библиотекарю Калюжному А.А. – по 20 рублей.
Следующие наградные служащим канцелярии городской управы были выданы к празднику Рождества Христова: Каюкову и бухгалтеру – по 45 рублей, Файнбергу и Абальзамову – по 35 рублей, фельдшеру Авраменко, ветеринарному фельдшеру, чертёжнику Назарову И.И., эконому Будаеву, брандмейстеру Гессу, библиотекарю – по 25 рублей, береговому надзирателю – 60 рублей.
Странно, но городскому голове и членам управы наградных не платили. Во всяком случае, в «Книге выдачи жалования…» никаких записей об этом нет.
В октябре 1912 года всезнающая газета «Эхо» поместила заметку на тему жалования: «Товарищеские отношения служащих городской управы грозят испортиться. Дело в том, что пяти служащим управы сделана прибавка к жалованию, а остальные остались на прежних окладах. Счастливцами оказались А.А. Нилов, П.Н. Зарубин, Н.И. Пирожников. Им сделана прибавка по 25 рублей в месяц, Н.Н. Вьюнову и В.Г. Бондаренко – по 10 рублей. Остальные служащие таким предпочтением, конечно, остались крайне недовольны и подают коллективное заявление в думу с просьбой прибавки всем служащим, раз управа нашла возможность сделать прибавку некоторым, работающим не больше других».
В ходе думских заседаний обсуждались не только глобальные вопросы городской жизни, но и частные прошения о пособиях, выплатах разным лицам по разным поводам. Однажды кассир управы Ефремов просил отпуск по болезни на четыре месяца, с сохранением содержания.
Гласный Власов: «Ефремов служил продолжительный срок и служба его сложная».
Разные голоса гласных: «Он состоит в артели и получает жалование там»; «Управа – не богадельня»; «Пора отучить служащих от выдачи вспомоществования».
Гласный Коротаев: «Мои служащие получают меньше жалования и живут припеваючи, позволяя себе выпивки и гулянки. Служащие должны делать сбережения и рассчитывать на себя».
Отпуск кассиру Ефремову дали, но без содержания.
Просьбу фельдшера городской больницы Г.М. Калашникова о выдаче ему ссуды в размере 150 р. на воспитание детей дума «разрешила в благоприятном смысле».
Вдова рабочего Власова, умершего во время работы на электрической станции, просила выдать единовременное пособие в 2 000 рублей. В прошении было отказано, так как «страховое общество будет платить пособие вдове до смерти или до замужества, а детям – до 18 лет».
В.П. Соколов просил добавить по пять копеек за пуд сена, которое он поставляет для городского обоза. При рассмотрении просьбы выяснилось, что «Соколов был не совсем чистосердечен». Уверял, что из 16 000 пудов не доставил только 2 000, на самом деле – 9 000. В просьбе Соколову отказано.
Бывшему рассыльному городской управы Сюткину решено выдать 500 р. пособия за его 35-летнюю службу.
Сторожу городской управы Петру Кобзарёву дума разрешила двухмесячный отпуск с сохранением содержания и выдала ссуду в 100 рублей.
Более шести лет городским базарным старостой проработал И.М. Гостев. После его смерти вдове, которая осталась с двумя детьми, управа выдала на похороны пособие в 100 рублей.
Летом 1910 года в управу обратилась заведующая Ольгинской школой Ю.Ф. Мицеловская с прошением предоставить ей отпуск на год и выплатить пособие в 900 рублей. Ничего особенного в этом прошении не было: некоторые городские служащие получали отпуска с сохранением жалования сроком даже на два года. Управа постановила пособие Мицеловской выдать.
Решение пошло по инстанции – в Амурское областное по городским делам присутствие. Там вопрос рассмотрели довольно оперативно, но обратили внимание на особое мнение гласного благовещенской думы Г.К. Новосёлова. Что это было за мнение, установить не удалось, но именно из-за него в присутствии пришли к заключению, что выдача пособия Мицеловской является замаскированным пособием политическому ссыльному!
Дело в том, что муж просительницы – С.Ф. Мицеловский, служащий Благовещенской почтово-телеграфной конторы, был председателем стачечного комитета почтово-телеграфных служащих в дни революции 1905 года. Его осудили на шесть лет каторжных работ, потом сослали в Якутию. Юлия Францевна последовала за мужем в добровольную ссылку. Для этого она и просила отпуск и пособие.
В Амурском областном по городским делам присутствии постановление Благовещенской думы признали не соответствующим «общим городским пользам» и решили передать прошение дальше, в министерство внутренних дел империи.
Какое решение стало окончательным, неизвестно. С.Ф. Мицеловский, отбыв ссылку, вернулся в Благовещенск и служил в местном отделении Сибирского банка. Юлия Францевна служила начальницей Ольгинского училища и в 1912 году.
…В дореволюционной России было множество праздников. В календарях они отмечались как неприсутственные дни: Новый год, Крещение Господне, Дни страстной седмицы и другие православные праздники; даты, знаменательные для Царствующего дома, – дни рождения, коронование, тезоименитства; кавалерские праздники – общие праздники кавалеров того или иного ордена. Кроме официальных всероссийских были и местные праздники. В Благовещенске это день Албазинской иконы Божией Матери (9 марта), день преподобного Алексия, человека Божьего – войсковой праздник Амурского казачьего войска (17 марта), день избавления от осады Благовещенска в 1900 году (20 июля) и другие.
День города. Из местных праздников до нас «дожили» только два – день Албазинской иконы Божией Матери и день рождения Благовещенска. В 1908 году город отмечал полувековой юбилей (со дня подписания императорского Указа). 15 мая гласные думы обсуждали устройство праздника.
Первым делом вспомнили, что уже несколько лет город ходатайствовал о перенесении останков графа Н.Н. Муравьёва-Амурского в Благовещенск с тем, чтобы поместить их в часовне, которую специально для этого планировалось выстроить на Никольской улице или на Чуринской площади. Ходатайство не было удовлетворено, так что часовню сооружать не было необходимости. Другие предложения по поводу празднования полувекового юбилея города были не очень оригинальными.
Гласный В.А. Бородин: «Молебствие провести и привлечь войска» (чтобы прошли парадом).
Гласный С.П. Попов: «Устроить бесплатный обед для бедных».
Гласный Ю.Г. Свидерский: «Провести торжественное заседание думы, прочитать лекцию об истории Приамурья, послать приветственные телеграммы сподвижникам Николая Николаевича Муравьёва-Амурского Якову Парфентьевичу Шишмарёву и Петру Алексеевичу Кропоткину».
Решили: 21 мая провести заупокойную панихиду и молебен в Никольской церкви, торжественное заседание думы – в Общественном собрании, там же устроить торжественный обед с почётными гостями; отправить телеграммы сподвижникам Н.Н. Муравьёва-Амурского; учредить стипендию в 3000 рублей «путём ежегодного взноса 500 рублей сложения недоимок»; организовать катание учащихся на пароходах.
Празднование прошло, как и задумали. После заупокойной панихиды и торжественного богослужения в Никольской церкви в её ограде заложили часовню (возможно, речь идёт о часовне, которую предлагалось построить на Чуринской площади, уточнить пока не удалось). Затем – торжественное заседание, во время которого вся дума заседала на сцене театра Общественного собрания, украшенной флагами и портретами Н.Н. Муравьёва-Амурского. Обед для приглашенных лиц накрыли в саду Общественного собрания. Во время обеда провозглашали тосты и говорили речи.
Присяжный поверенный А.А. Баев в своём выступлении указал на отсутствие на обеде военных и духовенства (странно, что их не было в числе почётных гостей): «Край завоёван не мечом и не религией, так что отсутствие этих начал здесь не особенно заметно».
Владелец гостиницы и пивоваренного завода «Россия» К.И. Августовский поднял вопрос об учащейся молодёжи и во время обеда собрал 400 рублей в пользу Амурско-Приморского землячества студентов.
Доверенный торгового дома «Кунст и Альберс» К.И. Клосс поднял бокал за тех лиц, которые в 1900 году грудью встали на защиту родины.
По окончании обеда участники снялись на фото в общей группе.
По случаю праздника в саду Общественного собрания было довольно много публики. Играл оркестр казачьей музыки. Над городом летал на воздушном шаре воздухоплаватель Густав Глеклер.
В тот же день в Париже, на кладбище Монмартр явились два делегата от Благовещенской городской думы. Одним из них был золотопромышленник П.И. Пахолков. Он лично знал графа Н.Н. Муравьёва-Амурского, путешествовал вместе с ним в конце 1850-х годов по Приамурью, совсем дикому тогда краю. Другой делегат – компаньон-распорядитель торгового дома «И.Я. Чурин и Ко» А.В. Касьянов. К могиле графа Н.Н. Муравьёва-Амурского делегатов сопровождали несколько членов русской колонии, представители некоторых русских газет, притч русской церкви с хором. Отслужили панихиду. Великолепное пение хора собрало вокруг немало французских посетителей кладбища.
П.И. Пахолков и А.В. Касьянов возложили на роскошно украшенную цветами могилу графа два венка: серебряный на бархатной доске с надписью на ленте «Основателю Благовещенска – благодарные граждане», бронзовый венок на бронзовой доске – от жителей Хабаровска, Владивостока и Никольска-Уссурийского. А.В. Касьянов выразил пожелание, чтобы «прах покойного был перевезён с чужбины в тот край, который обязан ему своим существованием».
Со стороны кажется, что празднование прошло достойно, а редактору-издателю газеты «Амурские отголоски» И.О. Мокину что-то не понравилось. Что именно, узнать не получается – «Амурские отголоски» не сохранились, а вот о последствиях выступления Мокина известно. «Торгово-промышленный листок объявлений» рассказал об этом 6 июня 1908 года: «Постановлением Приамурского генерал-губернатора за статью «50-летний юбилей Благовещенска» и за фельетон «Напевы» редактор-издатель газеты «Амурские отголоски» И.О. Мокин оштрафован на 500 рублей с заменой в случае несостоятельности арестом на три месяца». Иван Осипович был богат и, наверное, не пошел в тюрьму, а заплатил штраф.
В дни празднования благовещенского юбилея в Хабаровске кто-то облил памятник графу Н.Н. Муравьёву-Амурскому разъедающей жидкостью. Злоумышленника не нашли, причин его поступка не выяснили, а камень пришлось отмывать и полировать. Реставрацию выполнили итальянские мастера и взяли за работу 500 рублей.
50 лет освобождения крестьян. В 1911 году по всей стране широко праздновали 50-летие освобождения крестьян от крепостной зависимости. Благовещенская городская дума утвердила план торжеств в таком виде: открыть школу имени Царя-освободителя; ассигновать ежегодно 400 рублей на стипендию для продолжения образования лучших учеников начальных училищ из беднейших крестьян и мещан; открыть подписку на образование второй такой же стипендии; отпустить бесплатно электроэнергию иллюзионам для специальных сеансов для учеников.
100-летие Отечественной войны 1812 года. Накануне празднования знаменательной даты было принято предложение управы назвать в память войны одно из районных городских училищ; заложить в день Бородинской битвы, 26 августа, новое здание районного училища по Иркутской, между Безымянной и Артиллерийской (его потом и назовут в честь победы в Отечественной войне 1812 года); иллюминировать и украсить город флагами. Предложение управы об учреждении двух стипендий отклонено большинством гласных: 20 против 14.
300-летие царствования Дома Романовых. На бывшей Корсаковской улице Благовещенска стоит красивое здание бывшего городского училища «В память 300-летия царствования Дома Романовых». За три года до юбилея Фёдор Чудаков напечатал в газете «Эхо» заметку «Лучший памятник», а в ней изложил свои соображения.
«По поручению городской думы городская управа должна была заняться разработкой вопроса «О чествовании 300-летнего юбилея воцарения Дома Романовых». Само собой разумеется, что вопрос о чествовании уже решенный вопрос и нас главным образом интересует способ чествования, который выберут управа, а затем и дума. Вне всякого сомнения, конечно, что на это чествование будет ассигнована соответствующая сумма. Заранее можно сказать и то, что сумма эта будет порядочная.
На какие же цели уйдёт эта сумма? Что сделает дума, чтобы отпраздновать юбилей Царственного Дома?
Будет ли это пышный трескучий фейерверк, мимолётный, красивый, но бесполезный?
Будет ли это именинный обед с шампанским и прочими возлияниями, сытный, весёлый, торжественный, но бесплодный?
Или же дума сделает что-то другое – прочное, долговечное, полезное?
Мы этого не знаем.
Но мы знаем, что у нас есть право, чтобы городские деньги служили нуждам города.
У нас есть право требовать, чтобы во всяком национальном торжестве, празднуемом на наши деньги, участвовали все плательщики.
И так как это наши права, в частности, моё право, то, да позволено мне будет предложить вниманию городского самоуправления следующий способ чествования названного юбилея: на ассигнованные для торжества деньги должна быть выстроена хорошая школа!
Это будет лучшим памятником, лучшим употреблением юбилейных денег.
Для увековечения случая, послужившего поводом и основанием такой школы, можно было бы назвать её в честь Царственного Дома – «Романовскою».
Это будет если не вечный, то долговечный памятник, достойный нации, вступившей на путь культурного развития».
Очень хочется думать, что именно благодаря этой заметке появился «лучший памятник». 17 июля 1911 года прошла церемония закладки училища «В память 300-летия царствования Дома Романовых». При этом торжестве присутствовали генерал-губернатор Приамурья шталмейстер Н.Л. Гондатти, военный губернатор Амурской области А.М. Валуев, вице-губернатор А.Г. Чаплинский, городской голова П.П. Попов и много членов военного и гражданских ведомств. Первых учеников в новое училище стали записывать 28 августа 1912 года, а 1 сентября начались занятия.
Школы, пожалуй, лучшие из памятников: никому в голову не придёт их сносить, как в лихие годы по всему миру сносят скульптуры, монументы, снимают мемориальные доски.
Прибытие цесаревича. Одним из местных городских праздников был день посещения Благовещенска цесаревичем Николаем Александровичем в 1891 году.
4 июня 1891 года к почтовой пристани причалил пароход «Граф Н.Н. Муравьёв-Амурский». С него сошел цесаревич Николай Александрович, поднялся по лестнице и прошел под Триумфальной аркой. Через три года он станет императором России. В 26 лет!
Здесь необходимо пояснение. В 1890 году наследник российского престола Николай Александрович окончил обучение по программам двух университетских факультетов – юридического и экономического, и по программе Академии генерального штаба. По традиции цесаревичи, начиная с Павла I, завершив курс наук, отправлялись в путешествие по России и Европе. Император Александр III отправил сына Николая на Восток. Это была не прогулка, а важнейшая государственная миссия. Таким образом Россия заявляла о своих интересах в Юго-Восточной Азии и демонстрировала военную мощь: цесаревич путешествовал на одном из самых современных кораблей того времени – крейсере «Память «Азова». Путешествие началось 23 октября 1890 года. Цесаревич посетил Египет, Индию, Таиланд, Китай, Японию. 11 мая 1891 года он прибыл во Владивосток. Началось трёхмесячное путешествие на запад, до Петербурга.
Всего на пути цесаревича по России было около пятидесяти остановок. Всё необходимое для путешественника на местах подготовили за пять месяцев. Расходы оплачивало министерство императорского двора. Авансом.
Что требовалось от местных властей, в том числе от благовещенских? Обеспечить безопасность, нанять пароходы для передвижения по рекам и озеру Байкал, нанять рессорные коляски для передвижения по суше, организовать ночлег в местах остановок, наладить снабжение продуктами. Оговаривалось, кстати, что для завтраков цесаревича и его свиты (в свите князья Э.Э. Ухтомский, В.С. Кочубей, Н.Д. Оболенский, В.А. Барятинский, адмирал В.Г. Басаргин) достаточно иметь чёрный хлеб, яйца, молоко и квас.