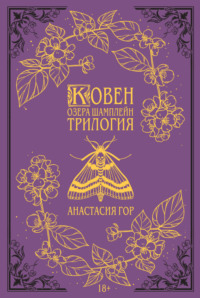Полная версия
Сказания о мононоке
Однако что и почему бы ни случилось с Кусанаги-но цуруги, с мононоке нечто случилось тоже. Небесная сталь из яшмы и облаков обжигала всех, кто не имел права её касаться, что уж говорить о тех, против кого она была обращена? Мононоке отскочил от лезвия ещё в момент удара, взревел неистово и съёжился, как моток шерсти в кипятке. Перепуганные гости тут же бросились искать и зажигать масляные лампы, чтобы не оказаться в кромешной темноте, и несколько минут в храме происходила какая-то неразбериха.
– О нет, – вздохнула Кёко, когда зажглась первая лампа, и она поняла, что мононоке нигде не видно.
– Где эта тварь?! – запаниковали сами гости.
– Может быть, оно ушло?..
– Сзади, сзади!
Когда мононоке слаб, он прячется, но отнюдь не всегда в вещах или в тени.
– Ах, нужно поскорее раздобыть ему невесту! Чтобы никогда не вскрылся тот позор!
Первой, кого настиг мононоке, стала госпожа Якумото. Она вскричала одновременно своим и чужим голосом, встала с кучи сваленных дзабутонов и неестественно дёрнулась всем телом в разные стороны: руки – влево, ноги – вправо, голова вообще вперёд. Вернув контроль хотя бы над пальцами, она вцепилась ими себе в рот, зажала его, пытаясь насильно закрыть. Но, как бы ни сопротивлялась госпожа Якумото, мононоке ворочал её языком и двигал её же губами, заставляя повторять слово в слово все свои ехидные и ядовитые речи из прошлого:
– И конюха дочка уже сгодится, лишь бы эту тварь от него отвадить! Что?.. Кого-кого предлагают накодо? Девчонку-оммёдзи? Ох, девчонка-оммёдзи! Прекрасно! Её мононоке вряд ли осмелится трогать, значит, больше шансов дожить до свадьбы. Пошли к ним хикяку с гостинцами! Передай, что мы согласны!
Юроичи расхохотался. Кёко метнула на него растерянный взгляд, решив, что мононоке выбрал его своей следующей оболочкой, но нет, веселился он, похоже, искренне. А чего бы не смеяться, когда деспотичную мать превратили в куклу? Мононоке играл с ней, дёргая туда-сюда, и, похоже, тем самым сломал несколько хрупких старушечьих суставов. Хрусть! Госпожа Якумото застонала и упала навзничь.
– Кагуя-химе, не надо!
Кёко не узнала собственный крик, а только вскрикнуть она и успела, рассыпав осколки меча, которые сгребала руками. Кагуя-химе отпустила свой живот, неуклюже подползла к обмякшей госпоже Якумото, которую муж никак не мог привести в чувства, и тоже попыталась ей помочь: схватилась за оби, чтобы развязать, дать больше простора для дыхания. Мононоке этим тотчас же воспользовался: покинул плоть старую и изношенную, испив всю её ки, и выбрал себе плоть здоровую и молодую. Прямо через беременный живот вошёл, вонзился в неё ножом, и Кёко вздрогнула, будто это она собственноручно его воткнула. Оттого живот Кагуя-химе вздулся ещё сильнее, как если бы ребёнка что-то потеснило, и Кагуя-химе ахнула, согнулась пополам, снова в него вцепившись. Плечи её, покрытые рассыпавшимися кудрями, как огнём, задрожали мелко…
А затем вдруг расслабились.
Кёко, вскочив и перепрыгнув разбросанную мебель, бросилась к ней через весь зал.
– Кагуя! Кагуя!
«Ах, Кёко! Если бы красота была ключом, то она бы смогла открыть лишь те двери, за которыми ничего нет», – сказала ей Кагуя-химе однажды, и тогда Кёко не поверила ей.
Осознание пришло позже, когда Акио ушёл в очередной поход, тот самый, что впоследствии стал для него последним. Кагуя-химе была красавицей. Она была хозяйкой клана Хакуро и заботливой матерью… Но никогда – любимой женой. Ибо не уходят от любимой жены в далёкие странствия, оставаясь подле неё лишь несколько дней в полугодие, чтобы зачать детей; а эти самые дети не находят её на кухне в слезах, врущую, что она резала лук, хотя перед ней лежит репа. Любимые жёны не танцуют, когда по заветам больше не имеют прав танцевать, и не рискуют навлечь на себя гнев древних богов просто потому, что только танец до сих пор и приносит им в жизни хоть какую-то радость. Словом, Кёко могла только догадываться, насколько Кагуя-химе на самом деле несчастна, ибо она не смела жаловаться вслух. До этого момента.
Кагуя-химе вдруг встала и повернулась к Кёко лицом, подсвеченным по бокам масляными лампами, а оттого страшным и искривлённым в тенях и одержимости.
– Куда ты уходишь? – спросила Кагуя-химе трескуче. – Почему опять меня оставляешь? Я что, делаю недостаточно?
– Кагуя…
– «У женщины нет надлежащего повелителя. Супруг её властелин».
Кёко попятилась, наступив на попадавшие с её головы хризантемы. Красные лепестки, лишь на тон темнее бегущей отовсюду и по самой Кёко крови, раскрошились под платформой её гэта. Кагуя-химе тоже их раздавила, приблизившись к Кёко вплотную, и за её светлым лицом, прямо под тонкой розовой кожей, проплыла чёрная слизь. Руки Кагуя-химе безвольно висели вдоль тела, оставив живот неприкрытым и уязвимым, потому Кёко сразу поняла, что это не она. Мононоке распоряжался её слабым телом свободно, как собственным. Снова наизнанку душу выворачивал, а вместе с ним – прошлое и всю боль, от которых больно стало и Кёко.
– «Нет у женщины иной души, кроме очага в её доме. Очаг и есть её душа, – Кагуя-химе цитировала наставления из «Великого свода для женщин», который Кёко перед свадьбой тоже полагалось читать, вот только она ещё в детстве растопила этой книгой очаг в главной комнате. – Нет у женщины других обязанностей, кроме как следовать во всём желаниям супруга, вставать раньше его, а ложиться – позже и работать во благо его дома и счастья. Супруг и есть и её дом, и счастье». Ты моё счастье, Акио. Я подарила тебе двух дочерей, я забочусь о Кёко, как о третьей, я повинуюсь твоему отцу, как тебе бы повиновалась, оставайся ты рядом… Скажи же, что я делаю не так?!
Кёко жадно схватила ртом воздух, снова наступила вслепую на что-то: под её ногой раздался хруст – наверное, то была рама разбитого алтаря. Юроичи на них двоих смотрел, все гости смотрели, Странник… И никто ничего не делал, даже сама Кёко.
А мононоке тем временем продолжал веселиться, заставляя Кагуя-химе плакать.
– Ты знаешь, что не так, – ответил в ней дух голосом Акио, прямо у неё изо рта. Кёко передёрнулась, покрылась вся мурашками на спине и руках, ведь даже не думала, что услышит его ещё хоть раз. Прямо настоящий, тоже постоянно уставший – эту усталость Кёко в детстве принимала за равнодушие. – Живая она. Живая, моя Химико! И рано или поздно я её отыщу.
– Это я твоя, Акио! – вскричала уже сама Кагуя-химе. Слёзы бежали по красным щекам таким обильным ручьём, словно она вновь находилась там, в этой спальне, где ссора с мужем накануне его отъезда снова разбила ей сердце, и так склеенное по кусочкам дюжину раз, пока Кёко и остальные дети спали в соседнем крыле под мерный стрекот цикад. – Я твоя, а не та женщина! Она бросила тебя с младенцем на руках, а я никогда не бросала! Ты женился на мне, ты выбрал меня, ты меня полюбил… Полюбил же? Полюбил, правда?
Голос Акио ей не ответил, и тогда Кагуя-химе зарыдала в голос, как безутешное дитя, закрыв лицо длинными рукавами.
– Ненавижу! – завопила она сразу пятью голосами. – Ненавижу, ненавижу, ненавижу! И тебя, и эту женщину, и её дочь! Ненавижу свою жизнь!
– Достаточно, мононоке. Оставь её.
Офуда прошелестел у Кёко перед лицом. Оно тоже было мокрым – мокрым и сопливым. Кёко утёрлась от слёз, которых даже не замечала до этого момента, и сделала ещё шаг назад, пропуская мимо себя фигуру в пурпурных одеяниях. Офуда на ладони Странника, который он невесомым жестом наклеил Кагуя-химе на лоб, запечатав и её уста, и веки, и сердце для овладевшего ею мононоке, был совсем не таким, какие Кёко с мачехой продавали на чайной террасе. Иероглифы те же – «защита», «благословение», – но, наложенные друг на друга, они образовали ещё один, нечитаемый знак, похожий на остроконечный цветок. Ещё и чернила алые, как кровь. Кёко была готова поклясться, что цветок тот колыхнулся и закрылся. У Кагуя-химе же подогнулись ноги, и она приземлилась на дзабутон, не упала, а легла мягко, точно заснула.
«Химико…»
– Идзанами-но микото! Идзанами-но микото, спаси нас!
Снова визги и молитвы. Снова кровь, но уже не из-под половиц, а из ран: мононоке, напитавшись ки и разбухнув, как морская капуста, опять увеличился в размерах, округлился и принялся всё крушить, перемещаясь в тени. Летающие зеркала и мебель, обваливающаяся крыша и расколотый алтарь. Гости кинулись врассыпную, кого-то завалило мебелью в углу; побились масляные лампы и лишь чудом не начался пожар. В храме снова потемнело… А затем стало светло-светло, как и должно быть майским утром: короб на спине торговца вдруг приоткрылся и выпустил дюжину сияющих стеклянных мотыльков. Вспорхнув под потолок со звоном, они зависли там, и мононоке завис тоже. Закончились его буйство и погром, а зернистый сгусток, скрывающий истинную форму и оттого похожий на огромное яйцо, потянулся вверх… И принялся скакать за мотыльками, пытаясь их поймать. Отвлекающий манёвр – кажется, то был он, – сработал.
– Это не юрэй, – сказал Странник, когда Кёко облегчённо осела возле Кагуя-химе на пол. – Ты ошиблась.
«Я и сама это уже поняла!» – почти огрызнулась она, но вовремя себя одёрнула. Не достойны её слова сейчас быть острыми. Таким должен был быть её меч, а не язык, но она и его сломала. Потому опустила голову повинно и перед стоящим рядом Странником, которого, наверное, только утомила, и перед мононоке, которого не смогла изгнать, и перед людьми, которых подвергла опасности. Перед судьбой, с которой не поспоришь, Кёко склонилась тоже.
Дедушка был прав. Она отвратительный оммёдзи. Нет, она даже вообще не он.
«И всё-таки кто или что тогда мононоке? Может, сирё?» – принялась невольно гадать Кёко, пока торговец подбирал с пола, разглаживал и перечитывал её записки, те бесполезные клочки, которые она считала доказательствами, но которые даже не смогла связать воедино. Кёко не раскрыла истину – она её выдумала. Но где же тогда истина настоящая?
«Нет, не сирё. Сирё приходят лишь к родственникам, пытаются затащить их в могилу за собой. Может, тогда фуна? Говорили, на дне того обрыва, куда упала Хаями, камни, но что, если на самом деле там болото? Может, она не умерла сразу, выжила, а потом утонула? Утопленница… Их невозможно изгнать, но они не заходят в города, она должна была остаться на своём месте. Значит, снова не то. Кто же тогда?..»
Кёко все варианты перебрала, пока сидела там возле Кагуя-химе, уложив её голову к себе на колени, и баюкала, гладя по спутавшимся волосам. Дедушка учил, что, коль не знаешь форму духа, то просто опиши его при жизни – в конце концов, все виды духов не упомнишь, а некоторые и опытным оммёдзи доселе неизвестны. Да, так и нужно было сделать! Зачем Кёко стала умничать? Зачем вообще полезла вперёд Странника? Зачем затеяла всё это?!
«Глупая, глупая, глупая!»
– Смотри, юная госпожа. Поругаешь себя потом.
Кёко на секунду испугалась, что Странник и мысли читать умеет, но нет, всё просто было написано на её жалком, перепачканном сажей, слезами и кровью лице. Она послушно подняла голову и обнаружила, что Юроичи смотрит на неё, но больше не улыбается и не смеётся. Сидит там же, где положено сидеть примерному жениху, будто ждёт продолжения свадьбы. И ничего не делает, ничего из того, что делал бы настоящий жених, сын, мужчина на его месте. Госпожа Якумото лежала за порванной шёлковой ширмой, и господин Якумото до сих пор не мог её разбудить; гости попрятались за раскуроченную мебель и друг за друга, а существо, что отняло у него трёх невест и пыталось отнять четвёртую, увлечённо перепрыгивало со стены на стену, как кузнечик, охотясь на летающих мотыльков из стекла. Было ли Юроичи всё равно? Или так выглядела усталость, та самая, с которой Акио продолжал покидать родной дом и возвращаться? Какую начинают испытывать все люди, если слишком долго страдают. Юроичи принадлежал этому мононоке – и, в отличие от его родителей, уже давно не пытался с этим спорить.
– Так и не решился сам рассказать? – спросил у него Странник, вернув ему все бумажки; написанные и его рукой, и не его. Пышный жёлтый бант пояса оказался у Кёко перед лицом и закрыл ей весь обзор на храм. Зато она видела короб, висящий у торговца на спине, и маленькую тёмную щель под его крышкой, из которой продолжали выскальзывать мотыльки, отвлекая и занимая мононоке.
– Какая разница, расскажу я или ты? – отозвался Юроичи глухо. – Ты ведь всё равно духа изгонишь. За этим ты и пришёл в Камиуру, не так ли?
– Это моя работа, – кивнул Странник.
– Так выполняй её. Надеюсь, у тебя получится лучше, чем у этой девчонки.
– Разумеется. Но сначала вот что я тебе скажу: лучше принять наказание в пятьдесят лет тюрьмы, чем обещать девушке умереть вместе с ней и нарушить обет. За это несчастья будут преследовать тебя ещё семь следующих жизней.
Стеклянные мотыльки под потолком вторили мелодичным звоном. Мононоке всё-таки поймал одного, и тот канул в бездну, растворившись в безликой тьме. Свечи вокруг не горели, но капали и шипели. Могильный холод, пробиравший до озноба, сменился потрескивающим жаром и прокатился по храму волной. Даже пульсирующая боль в изрезанных ладонях Кёко притупилась. Так ощущалась истина – то же самое, что колдовство.
– Что… что он сейчас сказал? – зашептались гости вокруг.
– Девчонка-оммёдзи сказала, Хаями столкнули, но это…
– Так это было двойное самоубийство?
«Мы уйдём вместе», – вспомнила Кёко слова одной из записок.
«Мы умрём вместе», – наконец-то поняла Кёко её значение.
Не то чтобы это было нечто, что никогда до них двоих никто не делал, но в Камиуре раньше не жило таких глупцов или до одурения влюблённых. Прыгнуть в пропасть, держась за руки, или выпив одновременно яд, или сделав ещё что-нибудь, что убило бы двоих одновременно, имело смысл лишь в том случае, если других способов быть вместе, как и шансов, не осталось. Только вот у Юроичи было достаточно денег, чтобы и без наследства бежать с возлюбленной из города вприпрыжку.
«Денег-то много, – тут же поправила себя Кёко, глядя на него, спрятавшего глаза за бликующими очками, покрывшимися мелкой паутиной сколов. – А вот желания – никакого. Хоть в чём-то я была права. Подлец».
– Хаями Аманай была доброй и красивой, но безграмотной, – произнёс Странник, и Кёко осторожно дотянулась через Кагуя-химе до разбросанных по полу записок, подтянула к себе одну, ту, что предлагала «закрасить в алый цвет слова любви на языке». Такой корявый почерк, что о необразованности совсем несложно было догадаться. Но… – Читала плохо, а писала и того хуже. Из семьи прислуги, прислугой рождена, прислугой и повстречала смерть. Мать умерла в родах, росла с отцом. Должно быть, из-за этого она порой и не знала совсем простых вещей. Например, почему у женщин каждый месяц кровь идёт, и по какой причине она вдруг идти перестаёт, а живот начинает расти, сколько ни худей…
Кагуя-химе на коленях у Кёко дёрнулась и приобняла одной рукой свой живот, будто тоже поверить не могла в услышанное. Тогда мононоке вдруг потерял интерес к блестящим игрушкам. Странник, однако, даже не покачнулся и не вздрогнул, когда тот рухнул с потолка, проломив собой пол в паре кэнов перед ним. Зато Юроичи от неожиданности со вскриком завалился на бок и отполз. В окружении вжавшихся в стены гостей, Странник и мононоке оказались один на один посреди разгромленного храмового зала, и отчего-то Кёко вспомнился театр кабуки. Странник всё это время был здесь и постановщиком и актёром.
– Ты, Юроичи, потомственный врач, твои деды и прадеды тоже врачами были, – продолжил он медленно, почти лениво спуская ремешки короба с плеч, а сам короб ставя на землю перед своими ногами. – Ты сразу понял, в чём дело, но ей сказал иное. Советовал оби затягивать туже, чтобы выходили газы, и поил микстурой из зверобоя и полыни. Но, как ни старался, ничего не получалось. Удивительно, как сильно ещё нерождённое дитя может хотеть жить.
«На один флакон: 1/2 зверобоя, 1/2 шалфея, ложка полыни, 1/4 рисового уксуса…»
«Так это был не рецепт успокоительной микстуры. – Кёко содрогнулась от отвращения. – Эти же травы провоцируют выкидыши».
– Отравить её было нельзя, все в городе знают ведь, как в травах ты хорошо разбираешься. А убить по-другому, собственноручно, смелость нужна, даже мужество. Поэтому ты в ней долго мысль о неравной любви и неминуемой гибели взращивал, а потом, когда ждать было уже некуда, того и гляди кто-нибудь поймёт, спрятал столовое серебро от матери, чтобы она во всём Хаями обвинила. Лишённая всего, ты всему и начинаешь верить, особенно возлюбленному. После ты назначил ей встречу у вашего моста, и там всё свершилось. Отпустить её руку в последний момент – это ведь не совсем убийство, правда?
Повисла звенящая тишина… А затем поднялся гул. Возмущение оказалось даже сильнее страха.
– Эта служанка что же, так и не узнала, что была беременна? – ахнул кто-то из гостей.
– Так ведь этот подонок сказал ей, что совершить двойное самоубийство – единственный способ быть вместе, раз родители против! Они умеют в уши лить, я-то уж знаю, – запричитала выбравшаяся из-под стола женщина-накодо.
– Обрюхатил бедную девочку и сам же убил!
– Кошмар какой… Она прыгнула, а он – нет… Просто стоял и смотрел? Неудивительно, что эта Хаями обратилась мононоке и пришла за ним!
– Не она мононоке, – прошептала Кёко.
Четыре звука плача, лишь три из которых женские. Топот неуклюжих ног. Округлый силуэт, как фасоль или яйцо.
– Форма, – произнёс Странник, распахивая крышку своего короба. – Конаки-дзидзи.
«Дух умертвлённого ребёнка».
И это действительно был он, теперь Кёко видела воочию. Вот они, тянутся из темноты пухлые ручки, которые должны быть маленькими и милыми, но уродливые и раздутые, сплошь мышцы, не обтянутые кожей. Вот он, топот ног, которые ещё должны уметь ходить, но уже вынуждены бегать; поэтому и форма долго не держится, поэтому мононоке и перемещается так хаотично, прячется в тенях, учиняет беспорядок и хватает, тянет, толкает. Из паланкина, из окна… Вот и четвёртый плач – детский, заходящийся, как кашель, – и даже запах. Это пахло скисшим молоком.
Действительно самый настоящий конаки-дзидзи. Этому ребёнку, который никогда и не жил, было суждено отправиться в Страну Жёлтых вод, чтобы после переродиться, но он решил остаться. Если подумать, у него и Кёко было много общего: оба умерли до того, как покинули материнскую утробу, и оба отказались это принимать. Кёко словно смотрелась в разбитое зеркало – оттуда на неё взирал ребёнок, у которого, в отличие от Кёко, не было никого, кто мог бы за него бороться. Ребёнок, которому по-настоящему не повезло.
– Первопричина – дитя, нерождённое вследствие убийства, – громко произнёс Странник. – Желание… Защитить свою мать.
Он запустил руку по забинтованный локоть в короб… И вытащил оттуда рыбку – совсем не меч, как ожидала Кёко и, судя по возгласам, все присутствующие. Рыбка та занимала не больше трети его ладони, из обожжённой глины, расписанная так искусно, точно и вправду парчовый карп. Пятна на хвосте, полосчатый узор на плавниках, а в пузе что-то громыхает, звякает, словно рыбка проглотила бубенцы вместо червяка. У Кёко была такая. А потом и у маленькой Цумики. После – у Сиори… У всех младенцев, начиная с первых недель жизни, потому что только так и можно унять их плач, когда сделать это не удаётся даже матери.
Дзинь-дзинь!
Каким разным бывает этот звук. Даже Кёко нашла его успокаивающим в этот раз, когда Странник слегка потряс рыбкой, держа её за хвост, и опустился на одно колено.
Больше он ничего не говорил, а мононоке не рычал и не плакал ни одним из четырёх голосов. Тьма и уродство отслоились от него, как кожура, и снова раздался топот, а затем – истеричный всхлип, с которым Юроичи Якумото завалился на спину, когда мимо него просеменил голый, сплошь покрытый волосами, как мехом, карапуз. Лицо точь-в-точь как у ребёнка, да и тело тоже; разве что он круглее и высотой с собаку, но как собака и лохматый. А ещё мёртвый. Пухлыми синими ручонками он потянулся к погремушке, зажатой меж острых графитовых ногтей, и схватил её за хвост.
Дзинь-дзинь!
Конаки-дзидзи потряс рыбку. Вправо-влево. Вверх и вниз. Бусины перекатывались в полой глине и звенели. Свечи, их потёкшие огарки, снова зажигались там, куда указывала пятнистым плавником рыбка, а когда конаки-дзидзи захихикал, ни одной потухшей не осталось вовсе. Заливистый детский смех и широко раскрытые белёсые глаза, как у Кёко, но сразу оба, навеки стали одним из самых горьких её воспоминаний.
После этого малыш ушёл: развернулся с глиняной рыбкой в руках и шагнул во тьму, которая спустя секунду развеялась от света, впущенного отворившимися сёдзи. Гости тут же посыпались через них наружу. Сквозь мелькающие перед глазами перепачканные кимоно Кёко разглядела спину Странника и то, как он подбирает с пола рыбку, которая исчезла вместе с конаки-дзидзи сутью, но оболочкой осталась в мире людей. Он не вернул её в короб, а сунул в рукав, прежде стерев им что-то с лица. Затем Странник обернулся, улыбнулся во весь ряд заточенных клыков и сказал:
– Церемония окончена.
V
К тому моменту, как все покинули храм Четырёх рек на вершине гор Камиуры, стали ясны две вещи. Во-первых, Юроичи Якумото умрёт всеми презираемым, одиноким и бездетным, а во‐вторых, в ближайшие полгода свадьбы в Камиуре играть точно не будут, а сам храм, возможно, закроют или снесут. Ведь пусть в этот раз и обошлось без летальных исходов, сбежавшиеся из соседних храмов настоятели ещё долго выковыривали из щелей в полу отрубленные пальцы и успокаивали оставшегося без них чиновника. Вся ответственность несправедливо легла на плечи самого храма, ибо тот не смог сдержать «нашествие злых сил», и уже куда более справедливо – на семью Якумото, которая «по небрежности своей допустила их покушение на высокопоставленное лицо». Странник же, передав одной из мико завязанную в мешочек глиняную рыбку и поклонившись, вышел из храма, и никто не стал его останавливать.
Кроме Кёко.
– Прошу, возьми меня в ученицы!
Она представляла себе это не так. Не подол свадебного кимоно, рваный до бёдер, кирпично-красного цвета от грязи и пыли; не тропу из красных цветов и крови, что тянулась за ней; не опадающие глицинии, среди которых силуэт Странника почти терялся, фиолетово-золотой, подсвеченный солнечными лучами, что выглянули из-за пелены облаков в тот самый момент, когда закончилась церемония изгнания. Кёко обещала себе держаться достойно и показать фамильную стать Хакуро, но жалко ударилась коленями о землю, припала перед Странником к земле лбом в догэдза и принялась умолять:
– Прошу, возьми меня в ученицы! Позволь учиться у тебя!
– Не возьму и не позволю, – ответил он ей, даже не оглянувшись. – Не годишься ты для этого, юная госпожа.
И продолжил идти, унося на спине лакированный короб.
В минуту отчаяния древо ломается поперёк. Ива же гнётся. Кёко стиснула зубы, но лица от земли не оторвала, не выпрямилась, даже слыша мучительный шелест лепестков глициний и зная, что расстояние между ней и Странником увеличивается, разверзается пропастью такой же, в какую упала Хаями Аманай.
– Я Кёко Хакуро из пятого дома оммёдзи, и этот дом умирает. Мой дедушка, Ёримаса Хакуро, в шаге от своей кончины, а вместе с тем под угрозой все его надежды, все чаяния, которые я имела наглость сама на себя возложить. Он с детства рассказывал мне о Страннике. Загадочном торговце, который путешествует по всему Идзанами и помогает изгонять мононоке совсем безвозмездно, ни одного мона взамен не берёт. Духи страшатся его, едва завидев, а другие экзорцисты ненавидят, ибо пытаться сравниться с ним в оммёдо сродни тому, чтобы пытаться превзойти самих ками… У меня нет ни брата, ни отца. Других мужчин в семье нет тоже. Мне не у кого учиться, да и не хочу я учиться у других. Только у Странника. Чтобы дому славу вернуть, чтобы не вымерло ремесло оммёдо. Всё готова делать! И ношу любую сносить, и любые задания, и любые опасности. Молчаливой буду, покорной буду, ни слова поперёк не скажу, пока…
– Безвозмездно помогает, говоришь?
Кёко всё тараторила и тараторила, давясь отчаянием, слезами и поднятым с тропы песком. Из-за этого она не сразу расслышала, что шуршание лепестков под зубцами гэта прекратилось, а Странник стоит и смотрит на неё издалека, но будто бы вблизи. Иначе не объяснить, почему Кёко, осмелившись приподнять голову и выглянуть из-под своей чёлки, смогла разглядеть перед собой лишь два горящих нефритовых глаза и острую улыбку. Весь мир её на них сомкнулся и стал ничем, когда она услышала:
– Вообще-то не совсем. От чая, ночлега и сытного ужина я бы не отказался.
И так они оказались в имении Хакуро.
Его священная земля, казалось, вибрировала у Кёко под ногами, когда она ступила на неё, слегка покачиваясь от изнеможения и потрясений этого дня. Тот на самом деле только начинался, время едва перевалило за полдень. Но для Кёко он уже был закончен. Измазанная в скверне, видимой и невидимой – кровь, воск храмовых свечей, позор, – она чувствовала, как земля отвергает её, сопротивляется ей, вот и гудит. А потому первым делом отправилась принимать ванну.