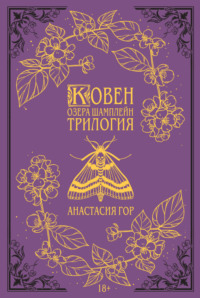Полная версия
Сказания о мононоке
– Спасибо, Аояги.
– Ива. Ива.
Травяная мазь, жирная и вязкая из сока алоэ, приятно остудила воспалённые порезы, а мятно-можжевеловая вода обеззаразила. Цумики лекарства всегда изготавливала добротные и без всяких врачей, и Кёко невольно подумалось, что им повезло: в аптекарские лавки для Хакуро теперь путь точно заказан. Она бы не отказалась воспользоваться семейными горячими источниками и как следует попариться, чтобы вытравить воспоминания о Юроичи Якумото из себя вместе с пóтом, но источники находились там же, в горах, где и камиурские храмы, от которых впредь тоже хотелось держаться подальше. Поэтому Кёко довольствовалась ванной, похожей на глубокую бочку, и втирала мазь в ладони, которые напоминали изрезанную бумагу. Мелкие и крупные, длинные и короткие, глубокие и не очень порезы от осколков меча испещряли её руки до самых кончиков пальцев. И поделом. И пускай так. Кровь капала в ванну, когда Кёко давила на них. Ей нужна была эта боль, чтобы как следует объяснить себе, что именно она натворила.
– Как, говоришь, зовётся этот меч?
Она вернулась к Страннику сразу же, как отдала грязное и изодранное свадебное кимоно Аояги с повелением сжечь, а сама обрядилась в чистую хлопковую юкату и вышла из спальни. Тогда-то и обнаружилось, что Странник действительно всё ещё здесь, в имении Хакуро, сидит под розовой ивой на чайной веранде в окружении заготовок для талисманов и до сих пор пьёт чай, который Кёко заварила ему, прежде чем отправиться в купальню. Пока Кагуя-химе отдыхала – Странник любезно посоветовал не срывать с её лба офуда ещё несколько часов, чтобы она как следует выспалась, – они могли забыть о приличиях и поговорить наедине. Правда, стоило Кёко остаться со Странником наедине, как её руки, израненные, снова начали дрожать.
– Кусанаги-но цуруги, – ответила она, уже сидя на дзабутоне напротив. Солнце плескалось в остывшем чае, упавший с ивы розовый листок плавал у Кёко в чашке на самой поверхности, но не тонул. – «Меч, скашивающий тысячу трав». Это фамильная реликвия. По легенде, в нём заключено десять тысяч мононоке… Не знаю, правда, там ли они всё ещё.
Все эти годы Кёко думала, что если однажды ей доведётся беседовать с самим Странником лицом к лицу, то она глаз от него оторвать не сможет. Но нет. Тяжесть стыда приковала её взгляд к надколотой пиале, и даже когда Странник закатал длинный пурпурный рукав кимоно и потянулся к ней через стол за осколками, она не подняла головы. Все части меча лежали в том же порядке, в каком были соединены ещё этим утром – грань к грани, остриё к острию, – но больше не смыкались. Кёко несколько раз собирала их вместе, сжимала так крепко, что получала новые порезы, но Кусанаги-но цуруги разваливался обратно. Сломанное, как и положено, оставалось сломанным. От этого Кёко чувствовала себя даже хуже, чем выглядел этот меч.
– Могу я взглянуть?
Странник спросил об этом, уже когда взял осколок в руки через свой спущенный бинт, чтобы не притрагиваться к нему голыми пальцами. Тогда Кёко всё-таки подняла взор и зацепилась им за ослабшие повязки на его запястьях, пропитанные мазью так же, как льняные повязки на ладонях Кёко. Только от них пахло не травами, а костровым дымом и тёплым деревом, и от этого запаха клонило в сон, как если бы там ещё был примешан обезболивающий млечный сок. Кёко бы тоже такой не повредил – ладони пульсировали, от боли хотелось выть, – но она его не заслуживала. Поэтому, кусая губы, терпела и смотрела молча, как Странник вертит один осколок перед носом. В том отразилось задумчивое, юное несоразмерно славе и опыту лицо. Быть с таким лицом оммёдзи, а не актёром театра или поэтом – настоящее кощунство.
Ни одной ссадины на нём, ни одного пятнышка на кимоно после изгнания. Волосы лежали, едва касаясь его плеч, ровно так же, как в первую их встречу, будто застыли во времени, собранные под левым ухом большой бронзовой бусиной, а под правым – свободно рассыпанные. Только красный узор на щеках, кажется, чуть поменялся. Было ли там, под глазами, семь точек, а не шесть?
Большое лисье ухо с жемчужными серёжками дёрнулось, когда Странник вдруг почти прижался им к плоской стороне осколка, будто к морской ракушке. Пока он молчал, изучая меч, у Кёко было немного времени подумать. Удивительно, какой умиротворяющей ощущалась теперь тишина в имении Хакуро. Никто в него на странность не ломился – ни жрецы, ни чиновники, ни Якумото. И то было хорошо.
«Может, снова чары? – подумала Кёко, покосившись на Странника. – Что за колдовство он использует?»
А там, в храме, это и впрямь больше напоминало колдовство; что угодно, но только не известное ей доселе оммёдо.
– Та погремушка, которую ты достал из короба и отдал мононоке… Ты потом оставил её мико соседнего храма, да? – спросила Кёко осторожно.
– Да, – кивнул Странник, не отрываясь от осколка.
– И что она должна с ней делать?
– Закопать её возле обрыва, где Хаями Аманай погибла. Ей там самое место.
– Это разве безопасно?
– А что в этом небезопасного?
– Ну, вдруг раскопают волки или бродячие псы. Или даже человек… Тогда конаки-дзидзи может вернуться.
– С чего бы это?
Кёко поморщилась мысленно. Очевидно, то была одна из вредных привычек Странника – отвечать вопросом на вопрос.
– Он ведь заточён в эту рыбку. Всех мононоке, когда изгоняют, заключают в изгоняющее орудие.
– Разве было похоже там, в храме, что я делаю нечто подобное? – Вот опять. – Я не изгоняю мононоке, юная госпожа. Я помогаю им обрести покой.
«Если душа уже переступила черту, поддалась злому умыслу и обратилась мононоке, то ничего, кроме самого злодеяния, её больше и не упокоит».
Все пять домов оммёдо издревле делали так, как она говорила – пленили, вовсе не «даровали покой». Разве что его иллюзию. Кёко даже не представляла, о чём именно Странник говорит, но да, именно на это увиденное ею и походило больше всего. Успокоение, какого даже она никогда в жизни не знала. Умей Кёко даровать его так же, как делал он, возвысило бы это её дом над остальными четырьмя?
«Вот оно!» – поняла она. То, чему Кёко хочет научиться. Нет, просто обязана!
– Если это правда возможно… то почему же другие оммёдзи не делают так?
– Потому что это несколько сложнее, чем размахивать мечом, и в разы опаснее для людей, – отозвался Странник, и Кёко незаметно навострилась, когда он это произнёс. «Для людей». – Теперь конаки-дзидзи свободен и скоро переродится в новой семье, которая в этот раз уж точно будет его любить. А что касается твоего меча… – Странник медленно вернул осколок на место, поиграв с ним в когтях и завязав спущенный бинт обратно. – Я не слышу здесь никаких моно-ноке.
Там, на полу разгромленного храма, в пыли, грязи и горе, перед скопом священных осколков и с едва дышащей мачехой на коленях, Кёко думала, что хуже быть уже не может. Но, как всегда, она ошибалась.
– Это что же получается… – Кёко побледнела так, как не бледнела ещё ни разу в жизни, даже когда умерла. – Я выпустила на свободу десять тысяч злых душ?!
Странник пожал плечами:
– Я только сказал, что не слышу их в Кусанаги-но цуруги. Выпусти ты и впрямь на свободу такое несметное количество мононоке, думаю, мы бы уже об этом знали.
– Тогда что с ними? А что будет со мной? Что мне делать?
Странник пожал плечами ещё раз.
– Рукоять не от этого меча, – сообщил он, снова подкатив её к себе, безобразно дешёвую и вдобавок покрытую коричнево-зелёным налётом, которого, Кёко была готова поклясться, ещё вчера не было. – Может быть, дело в этом. Ты ведь вытянула золотой эфес из моего короба на площади, верно? Думаю, не зря. Если в мече и вправду десять тысяч мононоке, ему нужно что-то, что поможет их сдержать. Гарда. – Он обвёл ногтем дракона, прорывающегося сквозь вихрь из травы и листьев. – И крепкая рукоять. А ещё мастерство оммёдо… Ты неверно определила Форму, Первопричину и Желание. То, что сломался только меч, а не ты, – скорее удача, чем неудача.
Кёко даже отрицать или оправдываться не стала, с готовностью встречала все летящие в её огород камни прямо лбом. Да и, возможно, Странник прав был. Она ведь жива, не так ли? А с её везением это уже победа. Ну и что, что теперь замуж её точно никто не возьмёт, сёгун таки обратит на Хакуро свой взор, а Кагуя-химе и дедушка будут в ярости? Звучит, конечно, плачевно, но это лишь отрезает для Кёко все пути к отступлению. Нет у неё больше этих путей. Только одна маленькая и заросшая плющом дорожка.
– Клан Хакуро – один из… – начала Кёко, наконец, свою заготовленную речь, которая должна была или изменить всё, или уничтожить, но Странник вдруг снова её перебил:
– Что бы ты делала, если бы я не пришёл?
– А? – осеклась она, закрыв рот обратно.
– Ты ведь меня ждала. – Странник откинулся назад и смерил Кёко взглядом уверенным, но не высокомерным, каким смотрел бы на неё сейчас любой другой человек на его месте. – Поэтому мононоке так долго в Камиуре пробыл под носом у одной из великих семей. Да и других причин выходить замуж за мужчину, к которому он привязан, я не вижу. Так что было бы, если бы я не пришёл?
Кёко сглотнула нервно.
– Сама бы духа изгнала…
– Как? Ты пыталась и сломала Кусанаги-но цуруги.
– Мой друг, Мичи Хосокава, всё это время ждал снаружи храма, присматривал за сёстрами, как выяснилось. Он тоже изучал оммёдо, он бы помог мне… Вместе мы бы справились…
– Было не войти в храм, не выйти из него. Мононоке наложил печать, – парировал Странник. Чай в его пиале закончился, но у Кёко слишком дрожали руки, чтобы она взялась за чайничек и налила ему ещё. – Тебе бы один на один пришлось разбираться с ним. Именно об этом я и спрашиваю. Что случилось бы, если бы ты не справилась?
«Все бы погибли», – ответила Кёко мысленно, но не вслух. Вслух такое и говорить не имело смысла, настолько то очевидно. Но и другого ответа у Кёко не было, только виновато уроненный к коленям взгляд и опущенные плечи.
– То, что жениха своего ты бы оплакивала не дольше, чем велят приличия, я уже понял, – продолжил Странник, грея пальцы о чайную чашку. Он сам подлил себе ещё чая. – Но что насчёт тебя самой? Совсем смерти не страшишься, значит?
– Страшусь, конечно, человек я или кто? Однако страх – не повод отступать. Так отец учил.
– И во сколько лет умер твой отец? – Поняв по выражению лица Кёко, что лет ему было не так уж много по этой причине, Странник усмехнулся. Беззлобно так, скорее печально. – То-то же. А вот бы умел бояться и отступать, то, может быть, прожил дольше. Страх – это хорошо. Особенно в наших делах. Бесстрашный экзорцист – мёртвый экзорцист.
– Почему же ты тогда сразу не вмешался? Когда у меня не получилось. Ты ускользнуть мононоке дал, вселиться в госпожу Якумото и Кагуя-химе…
– Мне нужно было его выслушать, – ответил Странник просто. – Мононоке не умеют говорить, поэтому они говорят через боль чужого прошлого. Конаки-дзидзи же совсем бесхитростные, как настоящие дети… И слабые. Ты просто ещё не видела действительно опасных мононоке, юная госпожа.
– Но…
– Конаки-дзидзи представлял реальную угрозу только для невест Юроичи Якумото. Вот ответ на мой вопрос, что случилось бы, если бы я не пришёл – ты бы умерла, и всё.
Кёко вскинула голову, чёлка разметалась по лбу, и удивлённый вздох застыл на её приоткрытых губах, так и не облачившись в слова. Странник же улыбнулся широко, почти как тогда в храме, словно хотел дать ей полюбоваться на его острые зубы. В этой улыбке хищного было даже больше, чем в его странных ушах.
Вот какой он, значит, этот таинственный Странник… Сам себе на уме, но вовсе не такой подлец, каким его считает большинство оммёдзи. Каннуси и мико в храме действительно пришли в себя почти сразу же, как всё закончилось, разве что языки себе пооткусывали и напились собственной крови. А отрезанные пальцы… Ну, это меньшее, с чем можно расстаться, повстречав мононоке.
– Можно задать вопрос? – спросила Кёко.
– Слушаю.
– Как ты узнал, что Хаями Аманай была беременна, если даже она сама была не в курсе?
– Когда я ходил в гости к Якумото, обсуждал с ними сделку и спросил, почему не видно их прислуги, госпожа пошутила, что «их прошлая служанка не только серебро воровала, но и, должно быть, еду, потому что толстела не по дням, а по часам, поэтому больше слугам они не доверяют», – ответил Странник без утайки и, заметив недоумение на лице Кёко, пояснил: – Госпожа Якумото до сегодняшнего дня тоже не знала о ребёнке.
Зато он как будто знал всё и обо всех. Спросил, как зовётся меч, но держался за осколки через бинт, пальцами их не касался, словно был в курсе, что тот чужака, в коем не течёт ивовая кровь, обожжёт. Зашёл на чайную террасу и сел, даже не усомнившись, для чего она предназначена, хотя мало что осталось от её былого блеска и уюта. И про то, что Кёко выжидала его, догадался. И ни про семью, ни про дедушку больше не спросил, зато про отца покойного откуда-то знал, хотя Кёко не помнила – может, от усталости, – заговаривала ли о нём.
Да уж. Если и завёлся в Камиуре по-настоящему хитрый демон, то это точно не конаки-дзидзи.
– Теперь твой черёд отвечать на вопросы, юная госпожа. – Она кивнула, отодвинула чашку, приготовилась… – Твой глаз. Что с ним? – …и оказалась застигнутой врасплох, ибо ждала вопросов сложных и заковыристых, испытывающих нравы, принципы и саму душу, ведь именно это должно было быть у оммёдзи безупречным. Конечно, здоровье тоже, но…
– Незрячий, – ответила Кёко неохотно.
– Почему?
– Уродилась такой.
– А когда уродилась? В какой день и который час?
«Соври, соври, соври!»
– В девятый день девятого месяца. – Нет, врать не стала, и скулы от этого так свело, точно она вышла с мокрым лицом в мороз. – В час Быка, между двумя и тремя ночи…
Уголок рта, выкрашенного в светло-лиловый по верхней губе с маленькой чёрточкой поперёк нижней, дёрнулся странно.
– Какие-нибудь ещё родовые травмы были?
«Соври, соври! Хотя бы сейчас, хотя бы раз! Ты ведь знаешь, что он никогда тебя не возьмёт, если узнает. Никто бы не взял…»
– Нет, – ответила Кёко. – Я полностью здорова.
Её внутренний голос выдохнул с облегчением, и даже совесть в ней почти не всколыхнулась. Смерть в утробе ведь не травма, рассудили они с её совестью вместе. И пусть это означало, что, окажись она в толпе людей, средь которых смерть выбирает себе компанию, когти её уцепятся за Кёко в первую очередь, та не считала это проблемой. Умереть рано – не самое худшее сейчас.
– Что будешь делать со своей жизнью, юная госпожа, если я откажу тебе? Если я всё ещё считаю, что не годишься ты для оммёдо?
– Ничего.
– Что?
– Ничего, – повторила Кёко чуть громче. Ивовый листок всё-таки затонул на дне её чашки. – Ничего я не смогу сделать. Я бы хотела сказать, что всё равно последую за тобой, буду скитаться по Идзанами, пока опять не отыщу, или же отправлюсь в другой дом оммёдо, попытаю удачу там, или вообще схвачу один из обломков и вспорю себе живот, но… У меня есть, ради чего оставаться в Камиуре, причём то же самое, ради чего и не оставаться. Просто с тобой, великим Странником, второе перевешивает первое. Но коль не сложится… Я выйду замуж. Снова, уже по-настоящему. Может быть, даже за Хосокаву. Буду и дальше деревянным мечом махать, по крышам бегать и ждать, когда поблизости заведётся новый мононоке. К нашей следующей встрече я подготовлюсь лучше.
Кёко сделала глоток чая и проглотила его вместе с листком. По языку прокатилась остывшая горечь, и на душе стало чуточку легче. Быть может, от чая, в котором отчётливо ощущался бергамот с ромашкой, а может, от смирения, тоже горько-сладкого. Кёко закрыла глаза, чтобы переварить и первое, и второе и чтобы не видеть ни лица Странника, ни обломков меча между ними.
Скрипнули половицы террасы.
– Я не могу взять тебя в ученицы, – повторил Странник, поднимаясь с дзабутона, – пока не обсужу это с лидером твоего клана. Без разрешения старейшины в ученики не берут.
Он привстал на носочки, потягиваясь и разминая затёкшие ноги в подвязанных до икр хакама, а затем поднял короб, продел руки в его ремешки и водрузил на спину. Кёко показалось, что крышка его слегка отъехала в сторону, приоткрылась и оттуда выглянуло стеклянное витражное крылышко с трещиной поперёк.
Минутку. Неужели…
Странник берёт её в ученицы?
Вот только…
– Мой дедушка парализован, – выдавила Кёко растерянно. – Ему шестьдесят, но он уже растратил все ки и совсем не говорит последние несколько месяцев, даже губами не шевелит.
– Ох. Ну, если так… – Странник задумался, и не успела Кёко обрадоваться, что он даже готов обойтись без этого и что у неё получилось – получилось! – как Странник добавил: – Коль твой дедушка хочет, чтобы ты у меня училась, ему придётся заговорить. А в ином случае… Нет, значит, нет.
И ухмыльнулся её вытянувшемуся лицу.
Казалось, Странника нет уже целую вечность. На несгибающихся ногах Кёко проводила его в дом, а затем к комнате дедушки, по соловьиным полам прямиком через расписанные журавлями и золотом сёдзи. Он шагал за ней безмолвно, и – до чего странно! – те самые полы даже не пропели под его весом, хотя он был выше её на полголовы. Сделав шаг за черту спальни, выложенную тёмно-зелёными татами, Странник поклонился низко-низко, и его лакированный короб не дал Кёко увидеть промятую дедушкину постель. Спустя секунду сёдзи сдвинулись обратно. Странник и парализованный Ёримаса Хакуро остались наедине.
Сквозь пропитанную маслом бумагу не просачивалось ни силуэтов, ни голосов. Кёко осталась стоять в проходе, гадая, что же там происходит. Самым большим её страхом было, что ничего. В конце концов, Ёримаса и вправду не разговаривал больше, а всю накопленную ки истратил на ту тайную беседу с Хосокавой. Едва ли ему хватит её теперь, даже чтобы просто кивнуть головой, а значит, радоваться Кёко рано. Ей снова остаётся только ждать.
– Мичи?
Он показался там, в начале коридора, очевидно, только возвратившись домой после того, как сходил к храму и проверил, всё ли улеглось. На его поясе висел старый дедушкин меч – подарок из оружейной, ныне распроданной и опустевшей, – а повседневное чёрное кимоно с серебристым узором осталось чистым. Ещё никогда Кёко так сильно не радовалась, что Хосокава оказался бесполезен. Она даже улыбнулась, преклонила голову и выпалила сразу, чтобы облегчить сердце:
– Спасибо, что присмотрел за Цумики и Сиори! Они рассказали, что это Кагуя-химе повелела тебе остаться с ними снаружи храма. Я рада, что вы оказались в безопасности и никто из моей семьи по-настоящему не пострадал.
Хосокава подошёл – соловьиные полы опять запели, – но ничего ей не ответил. Кёко не стала сразу выпрямляться, желая должным образом выразить своё почтение, но затем всё-таки вскинула подбородок. То, что произошло между ними тогда на рынке, теперь казалось сном, как и вся жизнь до этого. Поцеловать без спроса – такой пустяк! Уж по сравнению с тем, что она натворила… Кёко не смогла бы разозлиться на него после такого, даже если бы хотела.
А Хосокава, как оказалось, изнутри пылал.
– Зачем ты сделала это?
– Что именно?
– Ты знаешь.
– Ты тоже. Странник ведь…
– Зачем забрала Кусанаги-но цуруги из имения? Идиотка! Как ты могла его сломать?!
На тренировках Хосокава всегда двигался быстро, но никогда настолько, как сейчас. Будто и впрямь хотел нанести удар. Рукав чёрного кимоно коснулся её рукава. Хосокава потянулся было… и бессильно сжал пальцы в кулак возле её шеи, так и не осмелившись схватить. Только тогда Кёко позволила себе вздрогнуть.
– Неужели воля дедушки для тебя ничего не значит?! – вскричал он, уронив обратно руку. – Тебе совершенно безразличны его желания?
– Нет, вовсе нет! – заблеяла она. – Я…
– Тогда почему ты не вышла за меня?
– Что? При чём здесь это?
– Ты ведь знала, чего он желает! Знала и не послушалась!
– Погоди… Откуда ты… Ах!
И тут же блеять перестала. Вообще замолкла, широко распахнув глаза.
«Я возложу на тебя заботы о Кёко, если ты питаешь те же желания… Женись на ней и стань ивовой кровью. После этого ты сможешь…»
Кёко не могла сказать точно, когда именно Хосокава изменился. В детстве он был гораздо злее, а оттого честнее. Потому у Кёко никогда и не было с ним никаких проблем. Если сердится – швыряется в неё обидными прозвищами, если радуется – охотится вместе с ней за цикадами в траве. Раньше – вяжущий во рту каштан, теперь – орех, о скорлупу которого можно ненароком сломать зубы. Кёко никогда не считала Хосокаву лучшим другом, но тем не менее он им был. Потому что других друзей у неё не было вовсе. Потому что Хосокава, как он и говорил, видел её всякой и по-всякому. Съедал рисовую кашу, если её не хотела съедать Кёко, и шёл за речку добывать хурму в августе, хотя она созревала только в ноябре. Словом, Хосокава всегда был при ней, простой и понятный.
Оттого этот вопрос и ощущался так чужеродно, как и его поступок.
– Что дедушка сказал тебе на самом деле, Мичи?
Всё это время Кёко считала, будто то совпадение, что дедушка нашёл в себе силы заговорить с ним ровно в тот день, когда её нет рядом, и ровно о тех вещах. С не менее наивной уверенностью она считала, что о её управлении Аояги – об этом маленьком, этом несовершенном, этом простом и единственном таланте, в котором Кёко открыла для себя столь много, словно в одном цветке обнаружила тысячу других соцветий, – никому не известно. Она ведь ни с кем этим не делилась, но притом совершенно забыла, что с годами её уровень владения сикигами стал заметен и так. Своего собственного и постоянного сикигами Хосокава не имел – геомантам они ни к чему были, – но о том, на что они способны, был хорошо осведомлён.
Как и о том, что нужно сделать, чтобы изменить свой голос и говорить чужим, а потом вновь своим, чтобы запутать чересчур восприимчивого сикигами. Передать его разговор с самим собой и притвориться, что того не было, будто Хосокава бережёт чувства Кёко и заботится о ней. Двойная, а то и тройная ложь.
– Что сказал дедушка?! – повторила Кёко громче, но Хосокава её будто не слышал. Запустил пятерню себе в волосы, накрутил кудри на пальцы и потянул, ходя туда-сюда по соловьиным полам, заставляя их уже вопить под ним, не петь.
– Ты просто должна была прислушаться к его словам! Ты ведь всегда прислушивалась… Что в этот раз пошло не так? Даже Кагуя-химе хотела, чтобы мы поженились! Если мы бы правда это сделали…
– Отвечай мне! – Кёко вцепилась в него так, как ещё минуту тому назад он хотел вцепиться в неё. Сжала воротник кимоно, отчего наружу полезла белая рубаха, а сам Хосокава, хоть и был выше ростом, с кряхтением навалился на неё. – Какими были настоящие слова Ёримасы, Хосокава?!
– Да чего ты заладила?! Никакими! Никакими, понятно? Не было слов! – Он ударил её по рукам, чтоб отцепилась, и порезы на ладонях Кёко вспыхнули, забелили болью всё в глазах. Чистые бинты потемнели от крови. – Ты ведь видела его! Он даже двигаться не может. Как вообще можно было поверить, что он говорил? Ох, Кёко, Кёко… А хочешь скажу, почему ты поверила? Потому что ты помешалась на своём оммёдо! Ничего, кроме него, уже не видишь. Даже о том, как Ёримаса любит тебя, забыла. Страсть делает тебя уязвимой и тупой, Кёко. И вот ещё что…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В японском языке иероглиф «девять» при чтении созвучен слову «страдание».
2
О́ни – человекоподобные демоны, изображающиеся с клыками и красной кожей.
3
В Старой Японии рожать было принято на корточках, чтобы кровь, считающаяся грязной по синтоистским верованиям, не пачкала роженицу.
4
Сёдзи – раздвижная дверь, окно или перегородка, разделяющая внутреннее пространство жилища.
5
Ёкаи – сверхъестественные существа, обычно под ними понимаются демоны.
6
Хомонги – кимоно для официальных визитов, обычно неброского цвета и без вычурных деталей.
7
См. «Сказы» в конце книги.
8
В Японии испокон веков существует разделение власти: император в основном выполнял религиозную функцию, а сёгун – военную и политическую. Однако в Идзанами сёгун на момент событий книги является единоличным правителем.