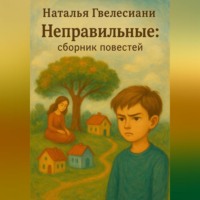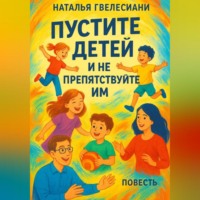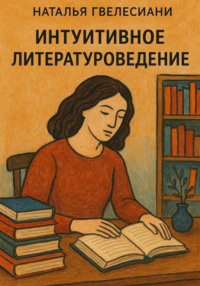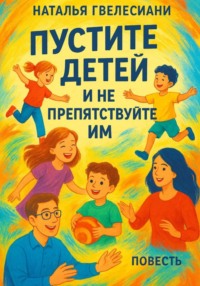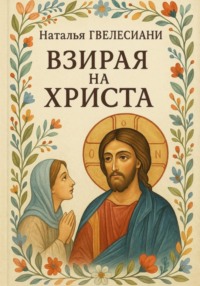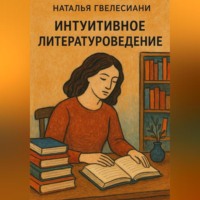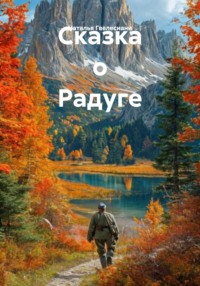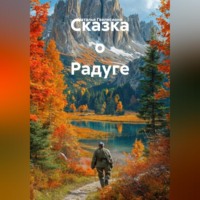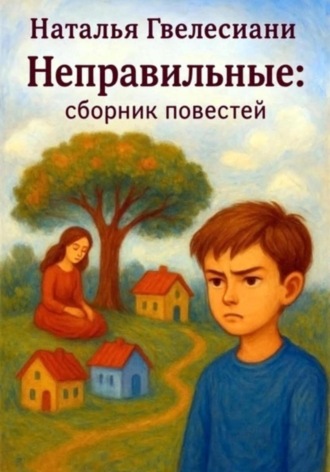
Полная версия
Неправильные: cборник повестей
– Мне?! Педагогом?!
– Ну да. У тебя и диплом соответствующий. Подумай, чем занимался Иисус на Земле. Именно педагогикой! Он перевоспитывал грешников. А праведников – просто воспитывал.
– Да… Но!.. Хотя впрочем…
– И я бы посоветовал тебе начать воспитательный процесс с министерств и ведомств, ответственных за принятие законов. Взять под педагогическое крыло – журналистов, депутатов. Ты можешь запечатлеть свои мытарства на бумаге. А я – дополню их своими соображениями по реформе законодательства и мы попробуем заинтересовать общественность. Смотри что тут можно сделать – депутаты могут инициировать закон, по которому материальная ответственность за ошибки в документации ложится на юридические службы. И расходы гражданина по их исправлению – включая заверение и перевод у нотариусов разнообразной документации, а также ее возможное доказательство в суде – тоже должны оплачивать соответствующие юридические структуры. Частично компенсируя их из зарплаты допустивших их служащих. Если же ошибка была совершенна в далеком прошлом – придется компенсировать за счет госбюджета. Предусмотреть в бюджете специальную статью расходов под это дело. И даже выдавать гражданам, нуждающимся в исправлении документации, беспроцентный кредит, который потом погасит само государство, когда клиент предоставит подтвержденную платежными документами смету своих расходов. Поверь, после этого ошибки в таких документах станут нонсенсом. – Как мудро, Ника. Вот только где у государства деньги на еще одну статью расходов. Если люди не смогли довольствоваться разумной плановой экономикой и опять скатились к частной собственности, опять предпочти серфинг на волнах экономических кризисов. И похоже что государство только радо пополнять прорехи в казне за счет пошлины с моей беготни по бумажным коридорам.
– Но достижения-то есть и у капиталистического общества. Мы можем вооружиться его способностью к самоорганизации. – А как ты думаешь, Ника, Маркс совсем был не прав? – Ну, как тебе сказать. Перевернутый, поставленный с ног на голову мир, который сама Библия называет падшим, действительно руководствуется самыми низменными, чисто экономическими интересами. Потому как вожделеющее и страстное начала душ большинства людей – берут вверх над их разумной частью. Это если прибегнуть к объяснению процесса исходя из трехчастного деления души по Платону. И вот этот практически обезбоженный мир, прикрывающий наготу фиговым листком внешних религий, Маркс описал превосходно. Он ошибся только в сроках падения капитализма, не учел его великой способности к мимикрии. Эта мимикрия в виде мелкобуржуазной психологии успешно встроилась даже в советского человека, буквально въелась в него. Да иначе и быть не могло. Раз Маркс, увидев перевернутый мир в его истинном свете, не догадался поставить его на место. А место мира – только под Богом. Сама подумай, за что сейчас борются, дойдя почти до прямого ядерного столкновения, такие акулы капитализма как США и Западная Европа с одной стороны, и вновь пытающаяся стать акулой Российская Федерация? За постсоветское пространство как за колонии. Они могут достаться или одной стороне, или – другой. Россия пытается не упустить своего. Понять ее можно. Но не простить. Потому что хватит уже оставаться христианской страной чисто номинально. Хватит гнаться за новомодными технологиями эксплуатации человека, которые становятся все более хитрыми, тонкими.
8
Долго они шли, опять взявшись за руки, по новой Земле. Шли, как ее хозяева, лаская взорами синь неба в хлопающей листве платанов. Проницая лучистыми взорами хлопающих глазами людей. Обнимая взорами – все без изъяна. Чувствуя себя педагогами, призванными раскрыть в человеке – человека. И сделать Землю гуманной, святой.
И опять возник перед внутренним взором Эрики – Храм. Он, прозрачный, покачивался прямо в воздухе. А может быть он и состоял из воздуха и тонкого прозрачного пламени – то белого, то золотого, то – зеленого. Они с Николозом незаметно оказались внутри него как под сенью раскидистых платанов и пошли, не прерывая беседы, как по проспекту. По прежнему с одной стороны струилась дорога с проплывающими по ней синими автобумами, а с другой – уносились за спины величественные здания. И шли навстречу, как бы на ощупь, какие-то очень неуверенные, потерявшиеся в себе люди. Слепо озирались по сторонам. Маялись внутри самих себя, робко высматривая просвет наружу. Хотя снаружи казались – просто замкнутыми, усталыми. Искали выход там, где выхода нет – не внутри, а снаружи. Вдруг взглянув искоса на Николоза, Эрика увидела, что тот тоже был сейчас человеком и – одновременно храмом. Захотелось прислониться, прильнуть к нему.
Похоже, что те же чувства испытывал и Николоз. Приостановившись, он тоже пристально взглянул на Эрику. И, озадаченный, отступив на шаг, неуверенно улыбнулся.
Эрика же процитировала начало бараташвилевского «Мерани»:
Без дорог и троп звездный твой галоп, мой Мерани, Ворон каркать стал, но от нас отстал за горами.
В этот момент они проходили возле знаменитой первой мужской тифлисской гимназии – ныне это была просто школа под номером один, – в стенах которой и учился некогда поэт. Прах которого покоился в пантеоне писателей и общественных деятелей на Мтацминде. Но сейчас перед школой, которая располагалась у подножия Горы, на которой Бараташвили любил уединяться, дабы отрешиться от суетности, стояли лицами к проспекту на каменном постаменте два других великим грузинских поэта и общественных деятеля – Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели.
Николоз задумчиво промолвил:
– Кажется, это стараниями праведного Ильи и были впервые напечатаны стихи Бараташвили? Ведь это ему передала бережно хранимую ею тетрадь женщина, ставшая бараташвилевской музой?.. Что скажешь, филолог? – Да, Бараташвили не печатался при жизни. Да и успел он написать всего тридцать шесть стихотворений и поэму «Судьбы Грузии». Кстати, поэма интересна тем, что в ней честно излагаются все главные неприятности, которые постигли или могут постигнуть Грузию под крылом России. Но вывод – тоже честно – делается иной: другого выхода нет. Что за странный рок, что за судьба предначертана народам, которые стали для этого вечно мятущегося океана – России – ее невольными берегами? Это уже вопрос к тебе, философ. – Праведный Илья тоже размышлял о том, как нашим двум народам разорвать свою дружбу-вражду. И ты знаешь, вся глубина его мысли не понята до сих. Многие думают, что Илья вел борьбу за политическую независимость Грузии. Тогда как на самом деле – он боролся за ее духовное пробуждение. Для пробуждения же – нужно было сбросить все оковы. В том числе внешние. А из внешних оков – наисильнейшим был гнет тогдашней царской России, который распространялся и на русский народ. Опять-таки, гнет исходил из ветхой, самодержавной, крепостнической России. А добро могло прийти на святую Грузинскую землю только из святой Руси. Точнее, все добро, конечно же – от Бога. Но подлинную братскую руку помощи в борьбе с иноплеменниками-мусульманами мог протянуть погибающему грузинскому народу только святой русский народ. Вот только до себя самого, таящегося глубоко внутри, русскому народу еще предстояло дорасти. Так же как и грузинскому. Так, и только так обретается дружба народов! Только так она перестает быть жалкой пародией! Перестает быть – несносной комедией. Это возможное будущее торжество святости, торжество божьего Света в жизни грузинского народа Илья изобразил в поэме «Видение». Наверное, все это можно отнести и к возможному будущему русского народа, ведь все святые народы идут в одном направлении. И нет народа не святого, когда он действительно зрел.
Эрика же вспомнила, как поразили ее когда-то поэмы другого классика грузинской литературы – горца Важа Пшавелы. Она даже раздобыла книгу о его жизни и с упоением погрузилась в настоящее рыцарство. Им был проникнут каждый поступок этого ни на кого непохожего творца. Каждая его строка – тоже была поступком. И за каждый из них – горные рыцари, населяющие волшебную страну, которая сквозила, извлеченная точным воображением поэта, из глубины тогдашней Пшавии, готовы были платить кровью. Вначале Эрику даже слегка оттолкнуло это обилие чистой алой крови, которую обильно проливали мифические пшавские рыцари за родину, честь, царицу Тамар и свою величайшую святыню – Лашарский крест. Потом, погрузившись в чтение кристально чистой по тональности прозы Важа Пшавела, где жизнь человека тоже была неотделима от природы и буквально трепетала в эфире Вселенной, проникая в незримые простым глазом пространства, паря там горным орлом – Эрика поняла все по-другому. Гимн крови был для поэта – символическим гимном жертвенной жизни. Поскольку за счастье и свободу в этом мире надо было платить.
Одного тогда так и не смогла понять Эрика… Но у нее теперь был человек, который, как ей казалось, мог объяснить буквально все.
Она немедленно обратилась к нему, словно перед ней стоял сам некоронованный царь и отец грузинского народа, получивший такие прозвание потому, что буквально возродил и выпестовал его во второй половине 19 века, реформировав даже язык – сам Илья.
– Ника, объясни мне, пожалуйста, как мог Илья Чавчавадзе, которого православная церковь даже канонизировала как святого, назвав его праведным… Как мог праведный Илья, руководя банком, созданным им ради ссуд на поддержание лучших проектов отечества, не помочь Важе Пшавела, который так нуждался. Важа Пшавела не был князем, он жил в своем селении крестьянским трудом и охотой, был многодетен. Платили же ему за стихи не так щедро, как равным ему по таланту и популярности поэтам-князям. Он даже не смог доучиться, когда Общество по распространению грамотности среди грузин отправило его учиться в Санкт-Петербург. Потому что этих средств хватило только на один год. Более того, это Общество спустя несколько лет потребовало от поэта, и без того жившего впроголодь, занятого непосильным трудом, чтобы тот вернул некогда предоставленный ему кредит. Поскольку поэт так и не выучился. Из-за чего Важа Пшавела испытал немало горьких минут. Его даже травили в тогдашних журналах, так как сумму этот мужественный человек возвращать отказался. Гордо умолчав о том, что она была попросту неподъемна. Более того, когда он уже в зрелых летах еще раз обратился в Общество, чтобы оно помогло ему доучиться, чтобы отправило еще раз в Россию – потому что нуждался в дальнейшем развитии, нуждался в новых людях и впечатлениях – ему в очередной раз отказали. А ведь этим Обществом руководил ни кто иной, как Илья. Во всяком случае, его сотрудники. Все это совсем подрезало крылья горному орлу. Недолгую он прожил жизнь.
Конечно, вопрос был не шуточный.
Ника призадумался. И даже развел было руками. Но вдруг лицо его озарилось какой-то мыслью, стало радостным.– Эврика!.. Я вдруг понял, что, наверное, праведный Илья молился, прежде чем принять то или иное решение. И скорее всего Бог не положил ему на сердце оставить Важа Пшавела за границей на весь срок учебы. По неизвестным нам причинам тот мог бы там даже погибнуть. Скорее всего, из-за своей вспыльчивости. Ведь он был еще вспыльчивее Пушкина. Чуть что – и пытался решить проблему в кулачном бою. Точно-точно!.. Не миновать ему было дуэли! А так как он был метким стрелком, то противник из самозащиты, стреляя первым, вынужден бы был убить того наповал. Или сам Важа стал бы убийцей и сгинул на каторге. Праведный Илья знал про все такое не понаслышке, сам он тоже был вспыльчив. И тоже дело доходило до дуэлей.
– Что-то в этом есть. Ты знаешь, был даже случай, когда Обществу распространения грамотности среди грузин, которое и устроило молодого Важа Пшавела учителем в народную школу, вынуждено было согласиться с его увольнением. Потому что тот избил какого-то начальника. – Потому что пылкий просветитель, вероятно, тоже путал реальное с идеальным и не умел ждать. Он не умел жить будущим и приближать его через терпеливое постепенное взращивание однажды посеянных всходов. Поэт увяз в рыцарстве, которое грезилась ему раем из прошлого. Потому что и в самом деле стоял на некой святой земле. Но он не понял, что этот рай – в будущем. А до него большинству – еще далеко… Он – то идеализировал общину горцев, которые не знали крепостного права, то горько разочаровывался, когда видел в современности отступничество от мифических заветов предков. И, честно говоря, хоть отец его был священником, и притом хорошим, мало он думал о силе Крови Христа. И о его великой гуманной педагогике. Вот почему Важа Пшавела был так неуживчив с разного рода чиновниками, а с прямыми подлецами немедленно схватывался в рукопашную. Мог он, наверное, ввязаться в драку и с теми, чье внешнее поведение не соответствовало каким-то его представлениям.
– Ты хочешь сказать, что Бог не зря наложил на Важа Пшавела оковы бедности, дабы научить того смирению?
– Нет, милая Эрика, настоящий Бог так не поступает. Такое манипулирование обстоятельствами и слабостями людей – плод ума падшего Денницы. Наш Господь всего лишь хотел уберечь Важа Пшавела от гибели на чужбине. И поэтому не положил на сердце Ильи оказывать тому более существенную денежную поддержку. Ведь будь у Важа Пшавелы средства, тот бы немедленно рванул за бугор. И заболел бы там к тому же ностальгией. Когда кто-то предложил в присутствии Ильи послать Важа Пшавела учиться в Германию, Илья воскликнул: «…знаете ли вы, что из этого получится? Оставьте его в покое. – в Германии, в лучшем случае, увлечется философией и тогда повесит пандури высоко к потолку. А что, если и философа из него не выйдет?.. Назначьте ему гонорар, пусть лучше уйдет он в горы и пишет».
– Знаешь Ника, будь я на месте Важа Пшавела, я бы все равно отправилась учиться. А там будь что будет! Гипотеза твоя, конечно, правдоподобна. Но ответ на вопрос, почему Важа Пшавелу целых два года травили в журналах, когда он не смог вернуть ссуду за учебу в Санкт-Петербурге, прерванную вопреки его желанию, я все-таки не получила. Скорее всего, Илья Чавчавадзе из-за своей занятости просто пропустил эту журнальную возню.
Их разговор перекинулся к теме о послушании. Оба они с жаром поддержали ту мысль, что во всем послушными могут быть своим наставникам только малые дети. И то до определенного возраста, пока не научатся здравому суждению и не выработают в характере первоначальный стержень. А далее слепое послушание может причинить только вред. Особенно добровольно-принудительное послушание духовному учителю, которое при полном устранении собственной воли становится гипнотическим подчинением. Тогда как надобно не устранение данной нам Творцом собственной воли, а ее преображение, устремление к горнему. Глагол «слушаться» происходит от корня «слух». Поэтому развитие внутреннего слуха, чуткости к руководству просвещенной Святым Духом Христа совести – и есть подлинное слушание. Оно не имеет ничего общего с казарменным послушанием. Выбор, решение почти всегда остается за слушающим. Будь это иначе, мы бы были машинами. Или марионетками. И в этом неживом качестве могли бы быть спасены одной волей Бога. Но к счастью, люди не марионетки. Они живые. Из чего следует и высокая ответственность – делать свой выбор, принимать решения. И да – отвечать. Как за судьбы всего мира, так и за собственную судьбу, за собственное спасение.
Тут же полезли в интернет и выяснили, что слово «послушание» встречается в синодальном переводе Библии всего четыре раза. Очень обрадовались этому открытию. Твердо решили, что новому переводу Библии на язык современных понятий – быть! И даже придумали ему название – «Рыцарский».
Съели опять по мороженому и разошлись.
На прощание Николоз крепко обнял ее, прижал к груди.
«Милая Эрика», – не раз повторяла она мысленно, удаляясь от проспекта. И чему-то
улыбалась.
9
Удивительные потекли дни.
Николоз пригласил ее в свою бригаду.
А там ее вскоре – приняли в отряд.
Это была бригада ремонтников во главе с бригадиром– самим Николозом. Эрика никогда не представляла себя в такой роли. Обычно она зарабатывала тем, что помогала с уроками детям из русскоязычных семей. Но теперь было лето, а ей были необходимы деньги на документы. Вот Николоз и предложил ей заняться малярными работами вместо исчезнувшего после отъезда Людмилы Петра.
Никто не знал, куда занес Петра никому непонятный вздор его души, которой он так никому и не открыл. Действительно ли он рванул в Польшу? Или впрямь – как сказал напоследок – ушел в местный монастырь? Адреса он не оставил, зато бросил, прощаясь, все свои вещи, велев кому-нибудь отдать. Однако тетя Лили все еще хранила их, надеясь, что тот даст о себе знать. Порой же у нее мелькала мысль, не наложил ли Петр на себя руки – слишком уж поспешным было его бегство.
В общем, сложилось так, что Эрика заняла в их бригаде место Петра. Николоз сам обучил ее основам малярного дела, казавшегося Эрики таким не хитрым, но оказавшегося на деле целой наукой, которая, к тому же, как и все на свете, часто расходилась с практикой. Потому что жильцы, которым был необходим ремонт, а иногда и предыдущие жильцы, делали все не правилам, на авось. И теперь приходилось либо полностью все переделывать, либо фантазировать, пытаясь сделать что-то – из ничего. Да и средства на ремонт по всем правилам требовались не шуточные, а хозяевам их обычно недоставало. Особенно если учесть, что они были очень странной бригадой. Некоторые клиенты, узнав про такую их особенность, иногда сразу закрывали перед ними дверь. Не все могли сразу поверить, что им предлагают ремонт за цену в два или три раза меньшую, чем на рынке. А некоторым малоимущим – и вовсе бесплатно. Некоторым же, кто зарабатывал неплохо – по полной цене. Николоз умело перераспределял средства так, чтобы компенсировать недобор от малоимущих и совсем неимущих клиентов за счет тех, кто готов был щедро оплатить качественную и добросовестную работу.
Эрика и познакомилась с Николозом на сайте, где тбилисцы искали и предлагали работу или жилье. Ей нужно было снять комнату. И Николоз, поинтересовавшись в сообщении ее обстоятельствами, неожиданно предложил пожить у пожилой женщины совершенно бесплатно. Правда на тот момент там проживал Петр, но Николоз пообещал переманить того в собственную холостяцкую комнату. Он тоже жил в итальянском дворике, на одной из улиц по соседству с тетей Лили. Его старший брат, эмигрировав в Чехию, со временем перевез туда и родителей. Те звали его с собой, но Николоз, по его словам, не видел необходимости менять место жительства, ведь Земля всюду одна.
Не прошло и двух дней, как задуманное предприятие состоялось. И Эрике даже в голову не пришло призадуматься над тем, за что ей такое благо. Большинство людей рядом с Николозом каким-то образом сразу переставали озадачиваться такими вопросами, настолько все становилось самим собой разумеющимся.
Бригада их состояла из трех-четырех человек. Ника был электриком и по совместительству мастером на все руки. Эрику все почтительно именовали – маляром-штукатуром (на практике это означало, что Эрика занималась шпаклевкой и поклейкой обоев, покраской рам и дверей, а все остальное – таскание мешков и красок, цементную штукатурку, покраску стен и потолков брал на себя Николоз). И был еще уже не молодой сантехник по имени Георгий. Тоже, как и Николоз, – русскоязычный грузин с какими-то славянскими корнями в роду. По-юношески любознательный, с живым, распахнутым, ласковым взором, в котором нежность перетекала в печаль, а печаль, накаляясь, могла вдруг упруго излиться в виде короткой вспышки гнева – чаще всего безадресного. Тот закончил художественное училище имени Тоидзе и тоже умел работать кистью. Умел в нужный момент грациозно подправить то, что Эрике пока не удавалось. Частенько присоединялся к ним худющий белобрысый Алексей – неловкий паренек, который занимался когда-то вместе с матерью возле церквей попрошайничеством. Николоз отбил его от влияния семьи, и тот теперь, зарекшись быть вечно нищим, успешно постигал азы духовной нищеты, временно поселившись в его жилье. Благо что раскладушка после Петра еще не успела быть сложенной. Отец выставил Алексея за дверь за общение со странным старшим другом, под влиянием которого тот стал ему перечить. Надеясь на то, что сын, который только что окончил школу, не справится с самообслуживанием, и вскоре, отрекшись от дружбы с Николозом, вернется в его объятья. Хотя вроде бы и сам безуспешно гонял жену и сына за иждивенчество за церковный счет. Теперь же успех незваного незнакомца взбесил его. Но Алексей, называя Николоза братом, буквально ходил за тем по пятам и жадно впитывал каждый его жест, хотя тот и отмахивался от всяких попыток подражать себе, и даже иногда сердился. (Кажется, это был единственный пункт, из-за которого Ника мог сердиться, поскольку считал, что у каждой подлинной личности – своя индивидуальность, своя колея). Он то и дело делал Алексею в полушутливой форме внушения за попытки брать напрокат его, как он выражался, личину.
Алексей даже решил никуда в этом году не поступать, чтобы сначала выучиться у Николоза. Когда же его спрашивали, чему он желает выучиться, тот скромно ронял: «Всему». Над чем окружающие, да и они сами, немало повеселились, пытаясь найти и перечислить то, что входило в это понятие. В их бригаде он быстро освоил все профессии и названный старший брат уже доверял ему некоторые участки работы.
Состоятельных клиентов они находили через интернет. А все остальные узнавали об их благотворительной бригаде изустно. Отбоя от клиентов не было, поскольку они уже понемногу становились местной легендой. Тем более, что редко можно было встретить ремонтников, которые готовы бы были, помогая друг другу, быстро справляться со всеми видами работ. Николозу даже приходилось проверять, в самом ли деле люди нуждаются, и отбирать среди них действительно нуждающихся. А еще у них были официальные сертификаты о том, что они – индивидуальные предприниматели, занятые в сфере мелкого бизнеса. Бригадир хотел, чтобы все было законно и все члены бригады зарегистрировались в налоговой службе. Хотя вообще-то налоги с мелких предпринимателей в Грузии не брали. Но могли начать брать в будущем. И Николоз счел бы своим долгом платить их.
Работа была хоть и тяжелой, но под шутки и разговоры, нередко переходившие в философичные диспуты, а иногда и в жаркие споры, она спорилась, и время пролетало быстро. К тому же благодушно улыбающиеся чему-то хозяева тоже иногда вставляли свои реплики. А некоторые из них начинали с ними приятельствовать, и потом иногда все вместе гуляли. Иные даже подключались и к другим идеям Николоза, у которого они никогда не переводились и успешно воплощались в делах.
Все это уже было до появления Эрики и ей ничего не оставалось, как радостно влиться в это великолепное сообщество.
Работали они по общему решению всего по шесть часов в день, с десяти до четырех. С обязательными выходными днями в субботу и воскресенье. И с возможностью кому-то опаздывать или уходить раньше или брать однодневный отпуск, в связи с уважительными причинами. А иногда кто-то мог взять короткий отпуск вовсе без уважительных причин. Им позволял это принцип взаимозаменяемости. Николоз и быстро набирающийся профессионализма Алексей как игрок в запасе всегда были, как говорится, готовы.
В обязательный же отпуск решили уходить всей бригадой в сентябре. И даже предвкушали, что проведут его в этом году в палатках, путешествуя по горам. Николоз знал много удивительных маршрутов, где пышная красота природы соседствовала с древними храмами и монастырями. Обычно он, как только выдавались праздники, – уходил в такие места один. Часто он проводил выходные в палатке близ какого-нибудь монастыря, посещал богослужения, беседовал с паломниками и, если повезет, монахами.
Свободного времени им хватало. И если Эрика не всегда понимала куда его деть, то Николоз посвящал его «Богу, людям и себе». Так говорил он сам, немного растерянно поглядывая на Виктора. Все-таки раз тот уж был склонен к подражательству, то надо было иногда озвучивать, чему именно стоит подражать, как-то объяснять свои мотивы. Поэтому Николоз также разъяснял, что под словом «себе» имеется ввиду саморазвитие.
Встав в шесть утра, Николоз проводил не меньше получаса за молитвой. Потом гулял с час в парке, имея с собой блокнот и порой записывая в него какие-то приходящие мысли. Иногда – уносился на велосипеде в Парк Рике. Прихватывал он на прогулку и томик какого-нибудь поэта. Он считал, что истинная поэзия – родом из той самой глубины, где коренится настоящая личность. И каждый глубокий поэт был для него другом, с которым он и общался на этой глубине.
В последнее время Николоз ходил с томиком стихов А. К. Толстого. Он часто говорил, что весь строй дум этого на редкость прекрасного человека коренился в Красоте, которая неотделима от Добра. И ссылался на отзыв о А. К. Толстом философа Владимира Соловьева. Книга же Владимира Соловьева «Оправдание Добра» была у него настольной, наряду с Новым Заветом, Псалтырью и сборником произведений Ильи Чавчавадзе. А еще в комнате у Николоза имелась икона праведного Ильи.