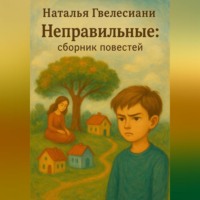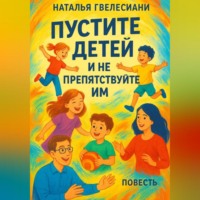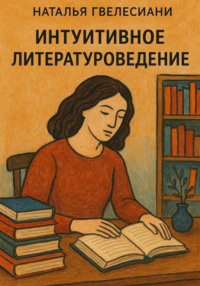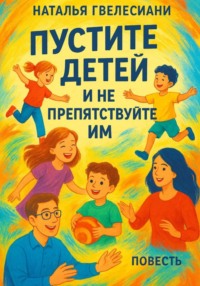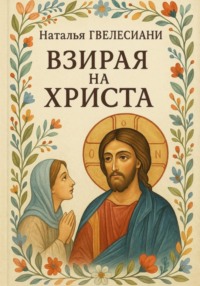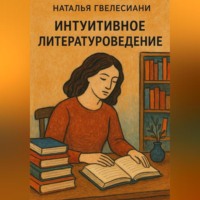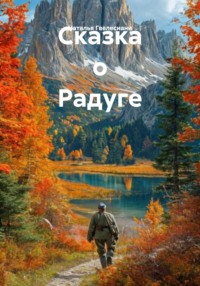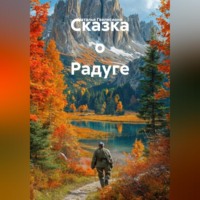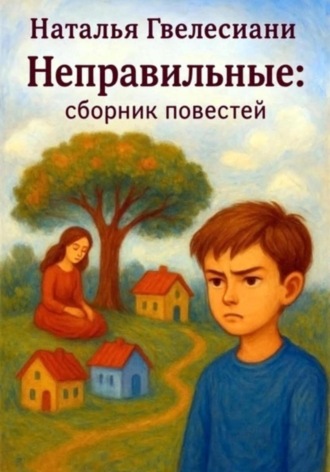
Полная версия
Неправильные: cборник повестей
Спустя несколько месяцев в том же 1909 году отец семейства скончался от опухоли почки, которая развилась от удара. Пани же всю оставшуюся жизнь потом сердито твердила: – Ну зачем же, зачем же надо было быть таким ротозеем! Какой он был подлец – оставил меня в такой стране одну!
Оно и понятно, ей пришлось поднимать семью в одиночку. Она даже платила за съемную квартиру, поскольку приезжий инженер не успел обзавестись своей.
Поэтому когда в дом явился высокий светловолосый красавец-юнкер и, представившись женихом ее старшей дочери Марии, попросил ее руки, пани резко сказала, что свадьбы не бывать. Поскольку нет приданого. На что юнкер возразил, что отсутствие приданного для него не помеха, что родители его, имевшие в Витебской губернии большое имение, благословение которых он уже получил, напротив, обещали сами прислать довольно внушительную сумму к свадьбе. Он только что окончил университет и должен теперь дополнить свое образование – военным. А поскольку с детства он как дворянин был приписан к Цициановскому полку, а тот дислацировался на Кавказе, то решено было продолжить учебу в Тифлисе.
Юноша искренне поведал и о том, что родители были даже рады, что он оказался в Тифлисской губернии, они надеялись, что он тут, обретая самостоятельность, подзагорит и наберется витаминов на всю будущую жизнь в туманной столице. Поскольку он надеялся со временем обосноваться в Петербурге.
Тогда пани выдвинула условие – свадьбе быть только после того, как юнкер через три года наденет офицерские погоны. А до той поры пусть изволит помогать их семье денежно, пусть выплачивает нечто вроде ежемесячного пособия. Чем и докажет – собственную серьезность и дельность. Встречаться же с дочерью можно будет у них дома. Тем более, что на тот момент будущей супруге было всего пятнадцать лет. Жених же был старше той лет на восемь.
Хитрая была пани.
Но юнкер, не раздумывая, принял это предложение. И, видимо, как-то сумел обосновать сию прихоть перед родней.
Три года пролетели как в сказке. Выкуп был выплачен, свадьба сыграна и в 1913 году тетя Мария покинула материнский кров.
Поначалу юная чета отправилась в городок Сарыкамыш Карской области Российской империи, где и стоял на тот момент 156-й пехотный Елисаветпольский полк имени генерала князя Цицианова. Там Александра Григорьевича Ипатова – так звали молодого офицера – поначалу назначили заведовать лошадьми. И он так истово исполнял служебные обязанности, что когда однажды тетя, приносившая обед в конюшню, разглядев в углу кусок отменной веревки, шепнула мужу, что неплохо бы было приобщить ее к личному хозяйству, муж с возмущением воскликнул: «Неужели ты могла подумать, что я, русский офицер, могу стать вором?!. Сходи в москательную лавку!»
Позже он принял в декабре 1914 – январе 1915 годах участие в героической обороне этого населенного пункта от турецких войск. Это закончившееся русской победой сражение по стойкости и героизму, а также тяжелым потерям с обеих сторон историки называют одним из решающих в ходе Первой мировой войны. Не удержи они тогда Сарыкамыш, Турция могла овладеть Карсом, дойти до Тифлиса и захватить весь Кавказ. Тетя же, окончившая с началом войны курсы сестер милосердия, помогала раненым. Среди них был и муж. Его потом переправили в тифлисский госпиталь, и ей довелось повидаться с родней.
Вскоре блестящего офицера и специалиста, повысив в звании, назначили помощником военного атташе при Русской Миссии в Тегеране. Ведь Александр Григорьевич знал несколько европейских языков и самостоятельно выучил фарси.
Но и эта чета была разлучена.
Случилась революция – сначала февральская, потом октябрьская – и глава семьи был убит.
Причем, тоже совершенно невинно, тоже, казалось бы, из-за пустяка.
И поначалу тетя долго верила, что так не бывает. Что этого просто не может быть, ведь тут просто ошибка.
Просто когда они возвращались через несколько лет после Октябрьского переворота в Россию, потому что Русская миссия, оказавшись в невольной эмиграции, фактически, бездействовала, а Александр Григорьевич рвался в Петроград, в гущу событий, так как сочувствовал большевикам, – он даже пытался помочь, когда русские дипломаты из-за политической чехарды на одно время перебазировались в Красноводск, организовать побег двадцати шести бакинским комиссарам, заготавливая для них лодки – ей вздумалось сначала заехать в Тифлис. Душа была не на месте, так хотелось опять проведать родных, ведь теперь от них не доходили вести. По словам тети, сам шах уговаривал их не возвращаться. Они могли бы остаться жить в Персии, могли бы уехать в Париж. Но Александр Григорьевич твердо отвечал: «Я – русский! И мое место сейчас – в России!».
Добравшись по Каспию до Баку, неся среди поклажи кадку с мандариновым деревом, подаренным напоследок самим персидским шахом, с придворными которого Александр Григорьевич, бывало, обедал, а после все они иногда устраивали поездку к морю и плавали на фелюгах, они сошли с парохода.
Мандариновое дерево пришлось выкинуть прямо в прибрежные волны. В Баку свирепствовал тиф и кадку с ним дальше берега не пропустили из-за карантина.
Приняли решение пробираться в Тифлис через Гянджу. Добрались туда с какими-то попутчиками на подводе.
А там, на вокзале, первый же красноармейский патруль, увидев офицера, взял его под арест. Погоны они тут же сорвали, а даму при этом небрежно отстранили локтями, хотя та тоже рвалась за супругом. Да еще и скрутили ему руки за спину, когда тот попытался ими размахивать. Сейчас это кажется странным, но по свойственному ему чистосердечию он въехал во владения большевиков в форме царского офицера. Быть в форме, в которой присягал на верность Отечеству, казалось ему естественным.
Александра Григорьевича отправили обратно в Баку и заключили в острог на острове Наргин.
Разве могли они знать, что незадолго до этого в Гяндже был подавлен мятеж, организованный кадровыми военными, в основном офицерами-азербайджанцами. Среди них были и русские. Поэтому пойманный офицер сразу попал под подозрение.
Это был переоборудованный чекистами в тюрьму бывший лагерь для турецких военнопленных. Сбежать оттуда было невозможно. Крошечный – всего в три километра – остров омывался со всех сторон Каспийским морем. Причем, территорию с тюремными постройками отделяла от воды только узкая прибрежная полоса. И на ней почти по всему периметру острога сидели родственники заключенных.
Тетя Мария тоже вернулась в Баку.
И потекли долгие дни неизвестности.
Каждый день тетя писала письма: одно – мужу, а другое – следователю, перечисляя одно и то же: простые бесхитростные события, дни безмятежного счастья, всю жизнь любимого, бесконечно благородного существа, которая проходила – вся – на ее глазах. Объясняла, что… ну не мог он быть членом антисоветского заговора. Попросту потому что они после революции не разлучались ни на минуту. И потом – ведь муж революцию любил.
День за днем в сторону острова Наргин – он располагался в десяти километрах южнее столицы – шли подводы, а затем и баржи с родственниками заключенных.
Каждый день тетя Мария, переночевав где придется, тоже проделывала этот путь, подходила к зданию тюрьмы и вставала в серую очередь к окошку, куда передавала письма и скудную передачу.
Иногда получала письмо от мужа и тут же жадно впивалась взглядом в строки.
Потом выходила во двор и вступала в круг сидящих прямо на усыпанной гравием земле других женщин – чьих-то жен, матерей, дочерей. Все эти женщины, каждая из которых была погружена в себя, в какую-то глубоко свою, отчаянную думу, казались монументом. Да и весь мир – он внезапно окаменел. И как бы – уже покрылся бронзовой пылью истории. Можно было биться об него головой, можно было сиро глядеть себе под ноги, где под исчезнувшей опорой дымилась собственная потухающая жизнь. Суть дела от этого не менялась. Через равные, а иногда и неравные промежутки времени – где-то там, во дворе тюрьмы – сухо расписывались выстрелами на телах их родных творцы нового мира. Каждая из них, как ни сдерживали они, окаменев, слезы, все равно вздрагивала при этих звуках, выйдя на секунду из оцепенения. Каждая думала – уже без слов – сокрыв свою думу глубоко в сердце даже от собственных, не говоря уже о посторонних – глаз: «Не мой ли это?..».
Но некоторые из женщин молились. Для них молитва была действительно опиумом. Плюс некое подобие опоры в виде надежды на загробную жизнь удерживало их от помешательства.
Как-то тетя Мария услышала краем уха, что тела расстрелянных и умерших от тифа, пыток и недоедания свозят на самую верхнюю часть острова, где вырыт гигантский котлован. Там их сбрасывают, присыпают известью, тонким слоем земли и ждут новую партию.
Потом все повторяется заново.
Порой земля шевелится. Кое-где слышны стоны. Это мечутся в предсмертном бреду случайно недобитые.
А для еще более масштабных расстрелов была припасен другой котлован – он находился на соседнем острове Песчаный. Заключенных переправляли туда на баржах. И туда уже никого не пускали.
В один из таких тягучих, однообразных дней чья-то рука опять механично протянула ей из окошка сложенный лист бумаги. Письмо!.. От Александра Григорьевича!..
А вдруг он уже лежит, оприходованный, в общей яме?..
Она еще не знала, что это письмо окажется последним.
То письмо тетя Мария, которая больше никогда не вышла замуж, хранила
всю жизнь.
Все они видели этот пожелтевший лист бумаги, исписанные неровным мелким почерком, некоторые слова на котором стали от времени неразборчивы, много раз. Тетя Лили каждый раз доставала его из особого ящика в столе, разворачивала прямо в воздухе и принималась читать. Голос ее становился совсем молодым, потому что в нем никогда не высыхали слезы. В нем рокотал протест, лилось недоумение. Жалость с умилением – была тому опорой. Все это так и кипело, грозясь перешагнуть даже через край жизни.
Александр Григорьевич, казалось, писал по воздуху прямо сейчас:
«Милая и дорогая Маруся!
Я живу пока благополучно, очень тебе благодарен за все то, что ты делаешь для меня в такой длинный период времени. Мне одно хотелось бы – хотя бы еще раз увидеться с тобой – но это так трудно, что я не советую тебе обращаться за пропуском для свидания. (Далее неразборчиво)…. несколькими словами как этим письмом.
Ввиду разных осложнений или я, возможно, буду осужден на срок, а то в худшем случае и навсегда со свету, ты особенно не беспокойся и береги лишь себя, а моя судьба вся от Бога! Двум смертям не бывать. Тебе же советую уехать по возможности скорее домой – устроиться дома и жить спокойно. При такой дороговизне уже при наших средствах очень трудно и невозможны никакие помощи. Пока я живу, и думаю, что хотя я и в тюрьме, все же меня кормят с грехом пополам, а как-то тебе, я и представить себе не могу.
Мне очень грустно, что ты так скучаешь, беспокоишься. Милая моя деточка, старайся лучше жить дома.
Если тебя интересует моя судьба, ты тогда все же… (Неразборчиво)… лишь бы я не был перед тобой виноват… (Неразборчиво)… нигде нельзя сверить точного времен…(Неразборчиво)… может быть, просижу долго, что для меня лучше, чем смерть.
Обязательно напиши мне, когда ты уедешь. Можешь принести мне кусок… (Неразборчиво)… около одиннадцати часов и дать мне с письмом?
(Неразборчиво) … будешь знать – нахожусь в тюрьме. Если можешь, то привези мне 2 пары белья, больше ничего не нужно, и то не передавай, пока не узнаешь, что я жив и в тюрьме, а то пропадет. Хорошо было бы, если бы хотя бы меня осудили, а то так – на нервах отражается.
Маруся, деточка, ты очень много расходуешь на посылки, я тебе всегда об этом писал, ведь ты каждый раз, когда свободна… (Неразборчиво)… можешь в любое время принести и дать мне знать о своем отъезде. Желаю тебе всего хорошего, большого счастья. Кланяйся всем моим. Не беспокойся, береги главное свое здоровье. Никто тебе в жизни не поможет, если сама не будешь себя беречь.
Целую тебя крепко-крепко и прости меня за все. Будь здорова и счастлива.
Целую крепко.
Твой Саша».
Закончив чтение, тетя Лили, у которой глаза, которые часто наливались слезами, были сейчас совсем распахнутыми, беспомощно сказала:
– Ну, вот и еще одна жизнь в нашем роду была жестоко оборвана революцией. Хоть дядя Саша и не был моим кровным родственником, но для меня он – все равно наш!
Она развела руками, как крыльями, словно большая неведомая птица, запутавшаяся в каких-то силках, забрала из воздуха лист и бережно отправила обратно в ящик.
Оттуда же она извлекла старинную шкатулку. А из нее – какое-то сияние тихо перешло в ладонь.
– Людмилочка! – сказала тетя Лили как можно торжественней. Стараясь твердостью в голосе отогнать только что пережитое. – Эти сережки подарил моей тете Марии в день свадьбы ее Александр Григорьевич. Ты знаешь, она тоже потом жила как монахиня. Она больше не вышла никогда замуж. И, знаешь, старалась каждое воскресенье подниматься в церковь Давида на Мтацминде. Оставаться в Баку дольше она тогда действительно не могла и, видимо, передав для мужа все, что он просил, последовала его совету. Вернувшись в Тифлис, где у нее был на Авлабаре дом, купленный для нее мужем, где и жила на тот момент ее родня, тетя целиком посвятила себя уходу за матерью, сестрой, братом. Она даже усыновила внебрачного сына моего отца, родившегося от гулящей женщины, когда тому было семнадцать лет. А заодно – тетя забрала из детдома, куда отдали детей после смерти матери, и его младшего брата, отец которого был неизвестен. А там, когда брат женился на моей маме – простой селянке из Манглиси, – и мои родители, перебравшись в отдельную квартиру, едва концы сводили с концами, упросила их, чтобы они отдали ей на воспитание меня, старшую дочь. Потому что у тех только что родилась еще одна девочка. Тетя меня и воспитала. И знаешь, деточка, воспитала очень хорошо. Я не хвалюсь. Но тетя сама говорила, что я не доставляла ей никаких хлопот… А теперь, знаешь ли, мне скоро умирать и не хочется, чтобы эта семейная реликвия сгнила вместе со мной в земле или попала в чьи-то равнодушные руки. Я хочу подарить эти серьги тебе. – Мне?!. Что вы, тетя Лили, нам этого нельзя! Мы даем обет бедности. – Это, деточка, не богатство, а – свет.
Вытерев глаза, тетя Лили подытожила, стараясь говорить суше, чтобы совсем не расстроиться.
– Позже, когда тетя написала в Кремль письмо с просьбой сообщить ей о местонахождении мужа, из местного ВЧК пришел ответ, что Ипатов Александр Григорьевич был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре. Приговор был приведен в исполнение в 1921 году. На письме же Ипатова к супруге значилась указанная его рукой дата – 26 августа 1920 года. В этот день – тоже 26 августа, но год спустя – тоже за участие в заговоре – он известен теперь всем историкам и знатокам русской литературы как «Дело Таганцева» – в Петрограде был расстрелян поэт Николай Гумилев. Считается, что это было одно из первых дел, с которого начались массовые расстрелы в отношении дворянской интеллигенции. Хотя на том же Наргине такие расстрелы были уже давно поставлены на поток. Примечательно, что в этот же месяц и год Россия похоронила Блока.
5
Бумаги. Бумаги. Бумаги.
Поворот налево, поворот направо. Окошко под одним номером. Окошко – под другим. За каждым из них сидят похожие на изваяния люди. Они глядят в компьютеры, стараясь не глядеть на посетителей. Понять их можно – посетители проходят здесь валом и, если, встретившись раз с ними глазами, не отвести мгновенно взгляда, каждый из них станет как бы братом. И совестно будет не разбиться ради его дела в лепешку. Сердца же на всех не хватает, ох не хватает. Раз дело поставлено на поток. Вот и мелькают взад – вперед тела. И человек в окошке тоже старательно ведет себя как тело. Да он и действительно сейчас – только тело. Человеком он становится только перед лицом другого человека. Только когда обнимет его изнутри как друга.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте.
– Как там наше дело?
– Какое дело?
– Дело о приватизации квартиры на имя моей матери. Вот справка. – Покажите доверенность.
– Пожалуйста.
– Хорошо. Подождите немного. Я узнаю пришел ли ответ… Да, ответ есть. Распишитесь.
– А не могли бы вы его мне прочитать?
– Минутку… Знаете, тут написано, что вам пока что отказано в оформлении и приватизации квартиры. Но вы можете в течение десяти дней обжаловать это решение.
– А где обжаловать?
– Не знаю. В суде, наверное
– Этого еще только нам не хватало!
– Там написано, что вам все равно придется обратиться в суд. Потому что имя вашего покойного отца «Сандро» не соответствует имени «Александр» в Протоколе заседания Совета народных депутатов Орджоникидзевского района Грузинской ССР от такого-то числа такого-то года. Имеются и другие несоответствия. Кто такая Валентина Майсурадзе? – Моя мать.
– В Свидетельстве о наследовании Валентины Майсурадзе, согласно которому ей передаются права на все движимое и недвижимое имущество супруга, указан в качестве наследодателя Александр Майсурадзе. А в Свидетельстве о смерти и Свидетельстве о браке данного господина – указано имя «Сандро».
– Да мы вообще не поймем, зачем понадобилась процедура наследования. Ведь у отца не было никакого движимого и недвижимого имущества. Что мы наследуем? Причем нотариус оценил сумму не существующего наследства аж в 25 000 лари. Из-за чего наша семья теперь считается хорошо обеспеченной. И ей не положены некоторые социальные льготы. – На кого был выписан ордер? Только на отца? – В утерянном ордере было указано, что на отца и членов его семьи – мать и дочь. Имя отца было указано, а наши с матерью имена – нет. – Тогда надо наследовать.
– Но что?!
– Право на наследство от отца. Поскольку государственные квартиры были подарены советским режимом при его распаде в собственность всем бывшим гражданам советского Союза. Но только тем, на чье имя был выписан ордер. Всем остальным это право – передается по наследству. – То есть мы должны сначала унаследовать недвижимость и только потом обратиться с просьбой передать ее нам в собственность? Какой-то абсурд. – Без этого передача собственности была бы невозможной. – По-моему, все это можно было сделать проще. Но тогда бы пострадала казна. Сколько выписывается в год таких свидетельств!.. Целая статья дохода.
– Кроме того, в документах Эрики Майсурадзе… кто такая Эрика Майсурадзе?.. тоже имеется несоответствие. В архивной Справке по Форме 16-17, где отражаются выписки из Домовой книги, указано, что ее отчество – Александровна. Тогда как ее настоящее отчество – Сандровна. – Но ведь это сам Дом Юстиции рекомендовал нам привести имя покойного отца в соответствие с его актовой записью о рождении! И привел его согласно нашему заявлению! Там же имеются справки о изменении имен и отчеств в наших личных документах.
– Этих справок недостаточно. Протокол на получение квартиры, заменяющий утерянный ордер и справки по Форме 16-17 на всех проживающих в данной квартире лиц должны быть теперь подтверждены в суде. Поскольку это правоустанавливающие документы. А несоответствие имен, отчеств и дат рождения в правоустанавливающих документах подтверждается только в суде.
– Час от часу не легче! Какие же это правоустанавливающие документы, если собственности еще нет? Точнее, собственность-то, наверное, все-таки имеется. Но только в виде потенции… А как же тогда… – Девушка, может быть хватит? Мы думаете, вы у меня одна? До свидания!
– Добрый день!
– Здравствуйте.
– Недавно мне пришлось еще раз пробежаться взглядом по Справке об изменении имени моего отца в моем Свидетельстве о рождении. И я заметила опечатку. Вместо дня моего рождения 5 июля, на одной из страниц указано «015». Это что – телефон экстренной службы? Исправьте, пожалуйста. Жаль, что девушка за стеклом при получении мною сего многостраничного документа сначала попросила расписаться за его получение, а выдала – уже потом.
– Это ничего. За исправление ошибок, допущенных Домом юстиции, вам платить не придется.
– Хоть одна хорошая новость. Тогда исправьте, пожалуйста, опечатку прямо сейчас. И распечатайте документ в трех экземплярах. – Увы, вторая новость плохая. Сначала я напишу с ваших слов заявление, а потом оно поднимется наверх – вы же знаете, мы только операторы, только посредники между заявителями и юристами, которые занимаются каждым конкретным вопросом персонально. Причем, мы даже не знаем их имен. А они сами – не знают, чей документ попадет им сегодня на стол. Все распределяет компьютер через систему номеров. Эти господа юристы находятся на втором этаже. Наш этаж может сообщаться с ними только по телефону. И то – только с сотрудниками-консультантами. – И когда же я получу cверху исправленную справку? – Увы, никогда. Именно в данную справку исправление уже внести задним числом не получится. Но вам выдадут еще одну справку. Где будет указано, что в прежней – имеется ошибка.
– Так получается, у меня теперь будет две справки, которые я должна буду всюду носить вместе со свидетельством о рождении? – Это небольшая одностраничная справка.
– Но за ее перевод на иные языки тоже придется платить! Тоже придется заверять перевод у нотариуса. Я вижу, что у вас тут свой маленький бизнес. – Я понимаю, вы устали. Поэтому не знаете что говорите. – Хорошо, а как мне быть с ошибкой в отчестве покойного отца? Кто мне ее подтвердит? Неужели только мой папа?
– Я переправлю вас в сектор «17». Там служба ЗАГСА. – Добрый день! Я хочу справку!.. О том, что в Свидетельстве о смерти и Свидетельстве о браке моего отца с моей матерью изменилось не только его имя, но и отчество. А также – что такая же метаморфоза с отчеством отца произошла и в моем Свидетельстве о рождения. Потому что отчество в актовой записи о рождении отца и в его паспортах отличалось одной начальной буквой. В актовой записи было указано «Бикторович», а в паспорте – «Викторович». Почему-то в справке об изменениях в данных отца ничего про это не сказано.
– Покажите справку…Ну что ж… Все понятно… В данной справке невозможно было отразить изменение в отчестве вашего покойного отца. Потому что отчества у в Грузии отменены.
– Но отчество-то все равно есть. И в советских документах оно тоже имелось. Как мне теперь подтверждать за границей тот факт, что мой отец Александр Викторович стал господином «Сандро, имя отца которого – Биктор». Как дословно впечатано в справку. Или вы считаете, что тамошние юристы не так хорошо видят?
– Я считаю, что у нас нет полномочий подтверждать ошибку в отчестве, раз в новых документах его нет.
– Где же ее можно подтвердить?
– Не знаю, наверное, в суде.
– Тогда дайте справку о том, что вы мне отказали. Чтобы я имела возможность обосновать свое обращение в суд. – А для чего вы собираетесь обратиться в суд за данной справкой? – Просто для того, чтобы у меня были правильные документы. – Это не основание для обращения в суд. Он может отклонить ваше заявление.
– Но почему?! А вдруг я захочу уехать?
– Вот когда захотите, тогда и появится юридически верное основание. Если вам дадут в Консульстве другого государства отказ на рассмотрение ваших документах из-за разночтений в отчестве отца. Советую вам заблаговременно разыскать актовую запись о рождении деда – она обязательно понадобится. – Уже разыскала. Точнее, узнала о невозможности ее разыскать. Так как архив 19 века села Схлити, в котором родился мой дед, проживший, кстати, по документам, 99 лет, был утерян. Но дедушку действительно звали Биктором. Имеется Свидетельство о смерти. Правда, есть одна маленькая неприятность. Раньше было принято указывать в актовых записях о рождении возраст родителей малыша. А дед был старше бабушки почти на 30 лет. Постеснялась бабушка разницы в возрасте и, видимо, упросила супруга соврать, будто ему на десяток меньше. Хочу предупредить об этом казусе заранее, а то мало ли что… Эту историю сохранило семейное предание. Впрочем, теперь уже я не ручаюсь за ее точность. Может дедушка соврал при получении паспорта, прибавив себе лишний десяток. Может, он не хотел идти на войну в составе советских оккупационных войск. – Какие-то вы все сказочники. – Простите, а как можно подтвердить то, что в одном документе в нашей фамилии «Майсурадзе» имелась опечатка. Русская буква «Й» была напечатана дважды. Точнее, ошибку уже исправили, о чем имеется соответствующая справка. Но в грузинском языке буква «Й» отсутствует. И переводчик, когда мне понадобилось перевести справку об этом исправлении, вынужден был перевести «Й» – краткое» как простое «И». Но в русском-то документе русский человек из какой-нибудь русскоязычной организации – все равно разглядит букву, которой нет. – Даже не знаю, что вам посоветовать. Может быть, вам стоит обратиться в Московский институт русского языка? В моей практике были прецеденты такого обращения за письменным подтверждением фонетических казусов.