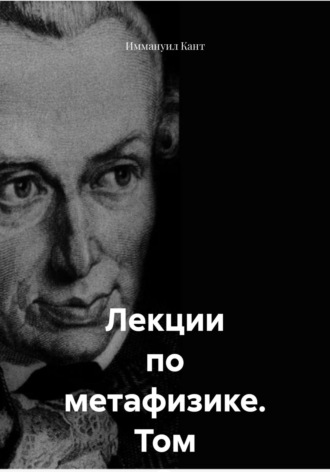
Полная версия
Лекции по метафизике. Том 2
Безразлично, сказать ли мне: понятие противоречит вещи или его противоположность тождественна ему – и: понятие тождественно вещи или его противоположность противоречит ему. Principium contradictionis есть, таким образом, принцип всех аналитических суждений. – Не можем ли мы также сказать, [что он есть принцип] всего человеческого познания? Ответ: Да, но тогда это не principium, из которого могут быть выведены все суждения, но критерий истины, которому не должно противоречить никакое истинное познание, потому что тогда мысль противоречива сама в себе, но то, что не противоречит principium contradictionis, не есть поэтому истинно, оно есть, следовательно, негативный критерий истины. Мысль об этом может быть возможна, но вещь не возможна поэтому: например, мы можем помыслить силу души, посредством которой мы мыслим мысли других, здесь нет ничего противоречивого, вещь, однако, оттого ещё не возможна. Здесь principium contradictionis не может быть критерием истины. Но ложно по principium contradictionis, что я одновременно мыслю и не мыслю – или нахожусь в непосредственной связи с отдалённым предметом. Principium contradictionis есть всеобщий принцип всего человеческого познания, но лишь для выведения из него ложности. Он, конечно, всеобщ, но не достаточен. Противоречия может не быть, а вещь может быть всё же ложной. Principium contradictionis есть всеобщий негативный критерий всякой истины, что ему противоречит, то ложно (impossible [невозможное] у этого автора не может быть ничем иным, как модальностью – оно должно лишь указывать на аподиктичность положения – которую, как и здесь, не всегда необходимо выражать, поскольку это само собой разумеется). Наш автор выражает это так: Impossible est aliquid simul esse et non esse [Невозможно, чтобы нечто одновременно было и не было]. Как мы можем использовать это, если мы ещё не говорили о времени, и так многие проницательные авторы ошибались (Мы должны сначала, или, вернее, можем спросить, since [since] возможно время?). Автор полагает, что это одновременно есть определение невозможного. Impossible quod est et non est [Невозможное, которое есть и не есть] или то, что противоречит само себе. (Как мы выразили: nulli subjecto competit praedicatum ipsi oppositum [никакому субъекту не присущ предикат, ему противоположный], здесь отпадает simul [одновременно] и [принцип] имеет силу всеобще – ибо субъекту никогда не может быть присущ противопоставленный ему предикат – но субъекту может быть присущ предикат, который противопоставлен иному предикату того же субъекта, только не в то же самое время, например, движущееся тело, которое просто, есть противоречие, но тело, которое в покое и в движении, не есть противоречие, а именно successively [последовательно]; если одному субъекту может быть присущ предикат, противопоставленный иному предикату того же субъекта, должно и можно распознать лишь через опыт, или возможность того, что вещь может быть изменена, учит опыт.)
(Principium contradictionis есть критика возможности и можно также сказать истины, только не достаточный [критерий], но conditio sine qua non [непременное условие].) Если это так, я могу обратить: то, что не противоречит себе, не невозможно (cui competit definitio competit definitum [чему присуще определение, тому присуще и определяемое]). Это ложно, ибо иначе все фантазии, которые не противоречат себе, были бы возможностями. – Principium contradictionis должен предшествовать всякому познанию, не может, следовательно, зависеть от понятия времени. Некоторые выражали это так: ut aliquid sit et non sit [чтобы нечто было и не было], это также ложно, ибо возможно, что вещь есть и не есть, но successively [последовательно]. Все вещи могут, как мы знаем, изменяться, и изменение есть как раз successio praedicatorum contradictorie oppositorum [последовательность противоречиво противоположных предикатов]. Закон тождества он выразил так: quicquid est illud est [что бы ни было, то есть] (закон тождества высказывает позитивное, что закон противоречия высказывает негативно; ибо если бы субъекту были присущи тождественные предикаты, то ему должна была бы быть присуща противоположность, это был бы praedicatum oppositum [противопоставленный предикат], но это противоречит praedicatum contradictum [противоречащему предикату]. – Этот закон противоречия есть высший логический негативный принцип, а тождества – высший логический позитивный принцип) (из соединения обоих принципов возникает третий, а именно principium exclusi medii inter duo contradictoria [принцип исключённого третьего между двумя противоречащими], т.е. субъекту должно всегда быть присуще одно из двух предикатов, которые противопоставлены, ибо если я приписываю ему оба одновременно, то одно снимает другое, и я не мыслю ничего; если я отрицаю оба, то я также не мыслю ничего (логически), это значит, где одно есть А, другое есть не-А. При principium exclusi medii мы сравниваем не два противоречиво противопоставленных суждения, но вещь со всеми возможными предикатами вещей вообще. Рассудок стремится снабдить данное понятие предикатами из всех возможностей.) Это есть пустое положение, все пустые положения не суть средства достигнуть ясности, потому что idem per idem [то же через то же] объясняется, так не возникает ясного понятия, например, тело есть, – есть истинное положение, но пустое, и равно положение quicquid est aliud est [что бы ни было, есть иное]. Если я объясняю понятие через само себя, то я не помыслил ничего иного. При нашем объяснении мы не сказали: praedicatum subjecto per tale identicum [предикат субъекту через такое тождественное]. Это было бы также пусто, например, тело есть тело, но ex parte identicum [тождественное отчасти]. Предикат есть criterium falsitatis [критерий ложности] всего человеческого познания, но позитивное действительное predicatum [предицирование] всех аналитических суждений, которые могут быть выведены и доказаны из него. (Аналитическое суждение есть такое, где субъект и предикат тождественны; если я приписываю субъекту тождественный предикат, то я приписываю ему противоположность и противоречу поэтому сам себе – но при синтетическом [этого] нет, потому что там субъект и предикат не тождественны.) Теперь истинность аналитических суждений не может быть познана иначе, как тем, что-либо предикат тождествен субъекту, либо его противоположность противоречит субъекту. Но в синтетических суждениях нет противоречия, потому я не могу судить о них по principium contradictionis, например, что нечто происходит без того, чтобы нечто предшествовало, не противоречит себе, однако же это ложно. Противоречие возникает лишь тогда, когда отрицается то, что положено в понятии субъекта. Истинность синтетических суждений основывается не на законе тождества. Ибо синтетическое суждение состоит в том, что я полагаю нечто иное, нежели то, что тождественно вещи, например, всё, что происходит, имеет свою причину. Причина не тождественна с тем, что происходит, но есть нечто совершенно иное.
Автор говорит, nihil negativum [негативное ничто] есть то же, что и impossible [невозможное], это общепринято и вполне правильно. Оно отличается от nihil privativum [лишённостного ничто], которое означает недостаток, например, свет есть нечто позитивное, мрак есть нечто негативное. Светлый мрак есть nihil negativum. Nihil negativum есть то, о чём вовсе невозможна никакая мысль. Я могу помыслить нечто утверждающее и отрицающее, но я не мыслю вовсе ничего, если я мыслю утверждающее и отрицающее одновременно, например, светлый мрак. Здесь я не могу мыслить мрак, потому что я мыслю свет, и не могу мыслить свет, потому что я мыслю мрак – следовательно, вовсе ничего. Если я мыслю противоположные вещи, то я имею две мысли, если я их соединяю, то я не мыслю вовсе ничего. При продвижении познания должно остерегаться pairing [спаривания] реальных мыслей так, чтобы в конце не мыслилось вовсе ничего.
Противоречие подразделяется на veram et apparentem [истинное и кажущееся], например, pia fraus [благочестивый обман] кажется не быть таковым, но есть действительное противоречие, ибо тот, кто набожен, не может обманывать, и т.д. То, что Земля непосредственно притягивает Луну, не касаясь её, есть кажущееся противоречие. Далее, они бывают latentia [скрытые], где противоречие может быть распознано лишь через анализ, например, позволительная ложь во спасение есть скрытое противоречие; нужно сначала показать понятие, ибо нужда не может дать позволения лгать – patentia [явные], где не нужно расчленения. Не должно сразу обвинять кого-либо в очевидном противоречии, ибо если бы оно было ему известно, он бы не противоречил себе. Явные противоречия суть, таким образом, лишь относительно явные. Если хотят обвинить кого-либо в absurditas [абсурдности], т.е. в очевидном противоречии, то нужно превратить скрытое в явное, и если противник всё же при этом persists [упорствует], то он принимает absurditas [абсурдность].
Кроме того, мы можем также привести принцип исключенного третьего (principium exclusi medii) между двумя противоречащими [суждениями]. Два противоположных предиката, А и не-А, нельзя полагать одновременно – это было бы противоречием. Также невозможно одновременно снять два противоположных предиката; напротив, один из них должен принадлежать вещи – это и утверждает принцип исключенного третьего и т.д. Например, «круглое» или «не круглое» – оба не могут принадлежать субъекту согласно принципу противоречия (principium contradictionis), но и оба не могут быть отрицаемы в отношении субъекта согласно принципу исключенного третьего и т.д. Этот последний принцип не может быть выведен из принципа противоречия: ибо если два противоположных предиката не могут одновременно принадлежать одной вещи, а один должен отрицаться, то одновременно другой полагается. Следовательно, принцип противоречия все же является первичным.
Согласно этому принципу, мы можем образовывать множество аналитических суждений a priori: мы вправе расчленять понятие и усматривать, что в нем содержится, и затем либо утверждать одно из этого, либо отрицать его противоположность. Например, [возьмем] тело – здесь я мыслю себе нечто протяженное. Стало быть, я говорю: «Тело протяженно» или «Ни одно тело не является непротяженным». – Это есть аналитическое суждение a priori. Из всех понятий, которые поддаются расчленению, можно образовывать аналитические суждения a priori; если же они просты, то их нельзя расчленить, например, бытие, нечто. —
Опыт есть нечто иное, нежели цепь синтетических суждений a posteriori. Однако мы не станем спрашивать: «Как возможны синтетические суждения a posteriori?» – это очевидно. Например, я имею [понятие] золота; я желаю узнать о нем больше, нежели заключено в моем понятии о золоте, – тогда я прибегаю к помощи опыта, помещаю его в различные обстоятельства, благодаря чему все более и более его постигаю и замечаю, например, [что оно] ковко, огнеупорно и т.д.; тем самым я получаю синтетическое суждение a posteriori. Весь опыт есть не что иное, как синтез восприятий. Сознание ощущения есть восприятие. Из чистых ощущений нельзя образовать себе понятий и сообщать их другим, ибо [ощущение] есть способ, каким нечто дано нам в состоянии; другой же пребывает в ином состоянии. Но из синтеза восприятий можно образовывать себе понятия. Поскольку мы здесь не пассивны, то нам может быть сознано все то, что мы совершаем.Мы подходим теперь к синтетическим суждениям. – Опыт дает синтетические суждения a posteriori. Но не можем ли мы иметь и синтетические суждения a priori? На ответе на этот вопрос зиждется возможность всей метафизики. (Многие отрицают синтетические суждения a priori и тем самым – всю метафизику вообще. Если метафизика возможна, то возможны и такие синтетические суждения a priori, и вопрос о том, возможны ли они, является кардинальнейшим вопросом метафизики.)
Здесь мы сразу наталкиваемся на grandes difficultates (большие трудности). – Мы приписываем субъекту предикат, который не был заключен в его понятии, например: «Все субстанции постоянны», «Все акциденции изменчивы» – это есть синтетическое положение. В понятии субстанции не заключено ничего, кроме того, что она не есть свойство другой вещи, но есть некоторая вещь сама по себе. – Является ли это [положение] a priori или a posteriori? Чтобы различить это, надлежит увидеть, содержит ли положение необходимость или нет. Ибо опыт учит лишь тому, что вещи суть, но не тому, что они должны быть. – Здесь, в этом положении, присутствует необходимость, стало быть, оно a priori. Если нечто возникает, чего прежде не было, то мы говорим: оно должно иметь причину. – Это есть синтетическое положение, ибо событие есть нечто иное, нежели «иметь причину». – Стало быть, это синтетическое положение, и притом a priori.)
Сначала мы спросим: не являются ли некоторые синтетические суждения a priori необходимыми для возможности опыта или синтетического познания a posteriori? Не должно ли существовать неких синтетических суждений a priori, благодаря которым становятся возможны синтетические суждения a posteriori? И эти [суждения a priori] были бы несомненно истинны, поскольку они лежат в основании опыта, а он истинен. – Итак, мы сначала посмотрим: возможен ли опыт без подведения под него синтетических суждений a priori?
Опыт имеет материю, т.е. данные (data), и форму, т.е. связь данных (datorum). Материю составляют восприятия. Опыт есть единство многообразных восприятий. Единство есть форма восприятий. Здесь, однако, должна быть некое правило связи восприятий, благодаря которому всякий опыт возможен. Это правило, в свою очередь, не может быть a posteriori, ибо оно должно предшествовать всякому опыту, следовательно, оно a priori. Стало быть, должно существовать правило a priori единства восприятий, которое делает опыт возможным. Это будут синтетические положения a priori, содержащие принципы возможности опыта, – при условии, что опыт есть не агрегат восприятий, но упорядоченное по определенным правилам единство восприятий, что мы в дальнейшем еще проиллюстрируем.
Теперь мы продвинулись до того, чтобы увидеть издали, словно в сумерках, что синтетические суждения a priori каким-то образом должны быть возможны; поскольку даже они сами должны лежать в основании опыта. Теперь мы должны исследовать, какие именно синтетические положения могут a priori предшествовать всякому опыту.
В своем опыте я замечаю нечто двоякого рода: созерцание, которое основывается на чувствах и именуется эмпирическим созерцанием, и понятие, которое основывается не на чувствах, но возникает посредством категорий, стало быть, основывается на рассудке. Таким образом, я имею созерцание, которое относится к чувствам, и понятия, которые относятся к рассудку. Теперь возникает вопрос: существуют ли созерцания и понятия a priori, или же все есть a posteriori? Эмпирические созерцания суть представления объекта, поскольку наши чувства им аффицируются. Эмпирическое созерцание имеет две части: материю и форму, и эмпирические понятия – также. – Материей всего эмпирического – эмпирического созерцания – является ощущение, формой – образ (Gestalt). Понятие имеет материю, т.е. содержание, представления, данные (data), которые даны, – формой же является рефлексия рассудка, посредством которой он brings ощущения так together, что мыслит посредством них нечто всеобщее. Понятие есть обработанная рассудком сумма ощущений. Эмпирическое составляет материю в восприятиях, созерцаниях и понятиях. – Эмпирическое основывается на ощущениях, которые суть a posteriori. Материя всех представлений есть ощущение и дана нам a posteriori. —
Если я отвлекусь ото всего в созерцании, то я все же сохраню форму, т.е. образ (Gestalt). До всякого эмпирического созерцания имеется нечто эмпирическое, т.е. ощущение, и нечто, что может быть представлено a priori. В каждом эмпирическом понятии есть материя, т.е. ощущение, и форма, которая относится к рассудку, ибо она логична. Теперь я могу сохранить интеллектуальное, форму, если отвлекусь ото всего эмпирического, например, в случае мела: я отвлекаюсь от созерцания, и тогда остается лишь форма – величина, образ, что есть a priori. Познания a priori о форме созерцания и форме понятий суть основа синтетических суждений a priori.
Итак, мы должны иметь понятия, которые возможны до всякого опыта, лежат в его основании и являются синтетическими. Ощущение составляет материю всякого опыта. Если мы отвлечемся ото всего этого, то все же остается образ. В пустом пространстве я могу вообразить себе сколь угодно многообразные образы. В геометрии мыслимы реальные образы a priori, например, конус и т.д.: Стало быть, то, что остается от протяженных существ, когда я отвлекаюсь ото всей материи восприятия, я буду называть формой созерцания. В теле я мыслю себе ничто иное, кроме пространства и образа, т.е. форму созерцания. Представление о пространстве каждый имеет a priori: что оно протяженно в длину, ширину и высоту, что между двумя точками возможна прямая линия – поэтому они безусловно необходимы. Итак, мы имеем созерцание пространства. – Если я отвлекусь ото всего эмпирического, как-то: тяжесть, плотность и цвет, – то я сохраню форму и образ. Теперь я спрашиваю: могу ли я отвлечься и от этого? Да, но тогда у меня не остается никакого тела. Через тело я мыслю себе субстанцию, стало быть, понятие у меня еще остается. Через субстанцию я мыслю субъект, который не есть предикат чего-то другого. Здесь я уже выхожу на понятия. Это есть понятие, которое остается, когда я отвлекаюсь ото всего прочего от объекта. Всякое тело имеет в себе силу, т.е. основание действия, – это опять-таки понятие. Оно имеет форму, множество частей – или оно есть целое; здесь мне даже не нужно мыслить пространство. В конечном счете остается еще понятие о вещи, которая есть субстанция, имеет силу, части, есть целое и которая не предполагает никакого образа и фигуры. В итоге, таким образом, остается чистое созерцание, а если и оно отбрасывается, то остается чистое понятие: оно чисто, поскольку не содержит ничего эмпирического, и также не имеет созерцания, стало быть, оно трансцендентально.
Все чистые понятия принадлежат рассудку. В их основании лежат созерцания, они поставляют объект – наш рассудок рефлектирует, но не созерцает. Что такое созерцания? Они суть не что иное, как способы, каким наши чувства аффицируются объектом. Мы не имеем архетипического интеллекта (intellectus archetypus), который был бы производящей причиной вещей, так что объект возникал бы одновременно с представлением. Поскольку это не так – как можем мы представлять себе objects, которые рассудок не производит? Всякое представление должно согласовываться с объектом, иначе это не есть познание. Согласование возможно двояко: либо когда мое представление производит объект, либо когда объект производит мое представление. Поскольку наше познание не таково, чтобы оно само производило objects, то остается лишь то, что вещи сами производят познание; стало быть, это есть познания, которые основываются на способе, каким мы аффицируемся objects. На этом зиждется все наше познание. Допустим, мы не были бы аффицируемы ни одной вещью, тогда мы не могли бы иметь понятия ни об одной вещи. Свойство способности представления, которое указывает нам, каким образом мы аффицируемся вещами, есть чувственность.
Чувственность, таким образом, есть рецептивность, восприимчивость, согласно которой мы испытываем воздействие со стороны вещей. Следовательно, все созерцания суть чувственные. Ибо если бы ничто на нас не воздействовало, у нас не было бы и никакого представления, поскольку для познания объектов, которые нам даны, мы не могли бы иметь ни малейшего представления о них, если бы они на нас не воздействовали. Так, эмпирические созерцания принадлежат к чувственности, и даже чистые созерцания будут к ней относиться. Например, эмпирическое созерцание тела содержит в себе тепло, холод; но если мы возьмем лишь пространство, то есть протяженность тела, то оно как чистое созерцание будет не чем иным, как формой нашей чувственности – способности подвергаться воздействию вещей через внешние обстоятельства.
Пространство, следовательно, есть не что иное, как форма внешнего созерцания. То же самое и со временем. Мы обнаруживаем в нашей душе изменения и склонности воли; если мы все это соберем вместе, то всегда обнаружится некая связь, где нечто либо существует одновременно, либо одно следует за другим. Время, таким образом, есть это «одновременно» и «последовательно»; оно, следовательно, есть не что иное, как форма внутреннего созерцания, или внутреннего чувства.
Итак, до всякого опыта предшествует чистая форма чувственности; a priori мы не можем знать ничего о ощущениях – например, кто может по виду алоэ определить, что оно горькое? Но то, каким образом мы будем подвергаться воздействию со стороны вещей, которые суть голые формы (например, от куба: если я отвлекусь от всего эмпирического, у меня все же останется форма; если я посмотрю на него с угла, я увижу три квадрата), – это мы можем знать a priori, ибо это есть чистое созерцание. Стало быть, существуют априорные познания, которые возможны в отношении чистого созерцания.
Таким образом, мы обнаруживаем в нашей чувственности правило, благодаря которому мы способны к априорным созерцаниям, но, конечно, не более чем к форме созерцаний. С другой стороны, у нас есть также чистые рассудочные понятия. Всякий объект опыта должен быть субъектом, то есть субстанцией. Следовательно, мы можем мыслить a priori различные понятия посредством одного лишь рассудка, ибо чистое мышление может рассматриваться отдельно от всякого чистого созерцания, отдельно от всякого созерцания и чувственного ощущения. Свойства вещей, поскольку они являются объектами чистого мышления, я могу знать a priori так же, как и объекты чистого созерцания.
Здесь ясно, что мы не способны ни к какому априорному познанию вещей опыта, ибо все основывается на форме чувственного созерцания; ее-то я могу знать a priori, ибо о пространстве я могу нечто сказать a priori, даже если объекта нет. Я могу многое сказать a priori без опыта, поскольку объекты опыта мыслятся мною; и если бы я не мыслил то, что созерцаю, я вовсе не мог бы сказать, что имею опыт. Итак, я имею созерцание a priori. Созерцания суть формы чувственности, которые я могу знать заранее; ибо прежде, чем я буду поражен, душа уже должна себе представить форму, как она будет поражена. Однако мы также не получили бы никакого понятия о вещах, которые созерцаются, если бы мы не могли мыслить созерцание.
Мы можем создавать для себя понятия о вещах вообще только посредством рассудка, даже если никакой объект не дан, поскольку мы лишь представляем себе способ, каким мы можем мыслить объект. Итак, мы видим: в основе всякого опыта a priori лежит рассудочное созерцание, которое есть не что иное, как форма нашей чувственности, благодаря которой возможно, что мы нечто можем воспринимать и что все эмпирические созерцания конечны; и, во-вторых, чистые понятия a priori, ибо поскольку опыт возможен не через одно лишь восприятие, но к нему должны еще добавляться понятия, то в основе должны лежать понятия a priori, посредством которых я могу подводить восприятия под понятия: они лежат в основе опыта как субстанция, и если бы мы не имели понятий a priori, мы бы их и не получили. – Ощущения не создают понятия.
Итак, это априорное познание будет иметь две части: первая содержит форму чувственности a priori, другая – форму рассудка, или мышления, a priori. Если мы, таким образом, хотим рассмотреть первый источник опыта, то мы имеем два: первый – эстетический (он показывает, что принадлежит к чувствам и как мы подвергаемся воздействию со стороны объектов), другой – логический (он рассматривает форму мышления).
Итак, мы имеем трансцендентальную эстетику, которая рассматривает созерцание a priori и условия чувственности a priori, и через нее мы познаем возможность эстетических суждений; и когда мы пройдем это синтетическое познание a priori во всем его объеме, мы сможем сказать, что мы имеем a priori основоположения, на которых основывается возможность опыта, относящегося ко всем объектам; мы покажем, что они достоверны, потому что достоверен опыт, который на них основывается. Мы сможем определить границы априорного познания. Поскольку все априорные познания не имеют никакого значения, кроме как быть условиями возможности опыта, они также не могут иметь силы за пределами поля опыта. Стало быть, задача трансцендентальной философии будет состоять в том, чтобы показать, что все наши априорные познания не могут простираться далее, чем на объекты опыта, и тем самым удержать наш разум от попыток переступить границы опыта и отважиться на предприятия, aiming на возможные объекты опыта.
Способ, каким мы подвергаемся воздействию со стороны вещей, делает возможным чувственное представление. – Всякое чувственное созерцание имеет некую определенную форму, свойственную человеческой природе. Внешнее чувственное созерцание имеет ту форму, что все внешние вещи являются нам в пространстве. Это есть особый способ, каким мы созерцаем вещи. Не вещь сама по себе, но форма чувственности, так что из представлений возникают отношения, которые суть отношения пространства. Также и время есть форма чистого созерцания; однако оно не есть нечто, что мы познаем непосредственно; и согласно этой двойной форме чувственности все представления возможны. Мы должны познать их заранее, прежде чем иметь впечатления. Итак, мы будем иметь созерцания a priori, без того чтобы нам были даны объекты. Мы не имеем ничего, кроме формы созерцания, которая основывается не на вещах, но на нас. В соответствии с различием субъектов, одни и те же вещи будут воздействовать на них различным образом – например, ворона приятно поражается протухшей падалью, а мы бежим от нее. Каждый субъект имеет свой собственный способ подвергаться воздействию. Его представление, следовательно, основывается не на объекте, но на особом способе созерцания.









