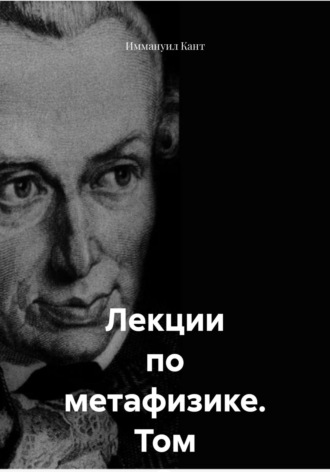
Полная версия
Лекции по метафизике. Том 2
Всякое отношение есть, как сказано, связь противоположностей (nexus oppositorum). Если мы мыслим логическую противоположность, то она аналитична. Реальная противоположность синтетична. Логическая противоположность есть противоречие (contradictoria). Угловатый круг есть противоречие. Два логических противоположных полностью снимают друг друга, и не остается ничего (nihil negativum [отрицательное ничто]). Два реальных противоположных не снимают друг друга, но следствия снимают друг друга, и то, что возникает через их соединение, есть zero, нуль, nihil privativum [лишенное ничто]; например, я получаю наследство, это причиняет удовольствие; я должен выплатить столько же долгов, это причиняет неудовольствие. Противоположности могут вполне сосуществовать, лишь следствия снимают друг друга, и я остаюсь в состоянии равнодушия. Таким образом, два реальных противоположных могут одновременно находиться в одной вещи, ибо следствия лишь снимаются, но логические противоположности не могут одновременно находиться в одной вещи (логические противоположности суть либо противоречащие противоположности (contradictorie opposita), как, например, А и не-А, либо несходственные (disparata), например, всякое тело либо красно, либо зелено. Несходственные содержат кроме противоречащей противоположности еще нечто, что прибавлено, например, нечто либо красно – противоречащей противоположностью было бы «не-красно». При несходственной противоположности есть еще нечто сверх того, а именно «зелено». Принцип исключенного третьего (principium exclusi medii) говорит не то, что из двух несходственных предикатов один присущ вещам, а [говорит это] о противоположных).
Можно сказать, что вся игра изменений во вселенной происходит от реальной противоположности. – Поскольку через это снимаются лишь следствия, то снимается не та же самая вещь, а другая, а именно следствие. Таким образом, реальные противоположности могут сосуществовать.
Автор сначала говорит о невозможности, затем о нечто и возможном.Мы подходим к понятию возможности и невозможности. Примечание: Если два понятия, например, здесь: возможное и невозможное, противопоставлены, то они всегда находятся под некоторым высшим понятием – ибо противопоставление всегда представляет собой разделительное суждение. Следовательно, должно быть некое разделенное понятие, которое имеет противопоставленные понятия членами деления, и оно-то и есть высшее понятие. Что возможно или невозможно? Предмет (хотя предмет можно мыслить и с невозможными предикатами) является, стало быть, вероятно, высшим понятием в онтологии. Возможное мы называем вещью, нечто, и ему противопоставляется невозможное, ничто. Но предмету ничто не противопоставлено, следовательно, он, пожалуй, есть понятие еще более высокое, чем нечто.
О вещи (Z.E.) понимают следующим образом: 1) как предмет вообще; 2) как возможное; 3) как положительное или реальность (realitaet); 4) как то, что действительно существует.
Возможность определяют неверно, когда говорят: «Возможно то, что не содержит противоречия». То, что противоречиво, – невозможно, но не наоборот. Мысль о [чем-то] возможна, но является ли сама вещь объективно возможной, – это еще достоверно неизвестно. То, мысль о чем не противоречива, – не является [тем самым] ни возможным, ни невозможным. Трудно дать ей такое определение, которое было бы применимо одновременно и к вещам, и к мыслям. То, что согласуется со всеми возможными правилами мышления, было бы возможно, но для этого нужно было бы знать все возможные правила.
Возможным является не то, мысль о чем возможна с точки зрения некой возможной метафизики, – то есть то, мысль о чем возможна, а сама вещь сама по себе и для себя, безотносительно к опыту, – невозможна; например, четырехугольный круг логически невозможен, ибо мысль о нем невозможна. Логическая возможность есть возможность понятия, и principium contradictionis (закон противоречия) является для нее достаточным критерием. Отлична от нее реальная возможность, для которой закон противоречия недостаточен. Однако то, что логически невозможно, невозможно и реально; но не всё, что логически возможно, возможно реально.
(Невозможное бывает двояким: I. Когда либо само понятие есть ничто, например, «четырехугольный круг»; II. Либо когда ему не соответствует ни один возможный предмет, например, сказочные феи.)
Логическая возможность – это та, в которой нет противоречия. Метафизическая возможность – это когда вещь сама по себе и для себя возможна безотносительно к моим мыслям. Постигнуть это не может ни один человек. Как могу я судить о вещи, о том, чем она является сама по себе и для себя, без отношения к опыту? Возможность мысли не составляет возможности вещи. Саму вещь мы познаем исключительно через понятия, и тогда у нас не остается никакого признака ее возможности. Логику мы можем постичь, но это ничего не решает в отношении вещи.
То, что не противоречит законам опыта, является физически возможным; это можно хорошо постичь. Например, что большой дворец был построен за четыре недели, – физически невозможно. Морально возможным является то, что возможно согласно правилам нравов и не противоречит всеобщему закону свободы. Эти различия необходимо помнить.
Многие философы смешивали логическую возможность с метафизической. Например, возможность или невозможность привидений не может быть доказана никакой логической философией; и все же ни один разумный человек не должен верить в них, поскольку у него нет понятия об их возможности или невозможности. – На опыт здесь нельзя полагаться, ибо обычно их «видят» слабые люди, а они испытывают много такого, что не является истинным. —
Если в понятии мыслится синтез не согласно закону противоречия или тождества, то его нельзя вообще распознать с помощью закона противоречия, ибо он не логический, а реальный, и здесь у нас нет логического признака возможности. Например, [суждение] «всякое тело протяженно» может быть познано согласно закону противоречия: «непротяженное тело» есть ничто, или невозможно. Здесь мы познаем возможность априори, но аналитически; возможность аналитического основания может быть легко усмотрена априори. Например, «всякое тело изменчиво»: аналитическое основание – оно есть множество частей, которые могут быть отделены; следовательно, понятие тела содержит аналитическое основание изменения. Возможность аналитического основания и его следствия выводится из закона противоречия.
Если же я мыслю основание, следствие которого реально отлично [от него], то это невозможно распознать из закона противоречия. – Совершенно не противоречиво, что если положено А, то поэтому же положено и В; однако по этой причине нельзя признать это возможным, ибо это есть синтетическое суждение, и у нас нет ни малейшего понятия о том, как это происходит. —
Реальную возможность нельзя усмотреть априори без [обращения к чему-то] beyond чистых понятий. В дальнейшем мы увидим, что критерием возможности вещей является следующее: возможен тот синтез, который содержит условия возможности опыта; но это относится лишь к объектам опыта.
(Если нечто рассматривается вне связи (nexus), то говорят: оно рассматривается per se или внутренне (interne); в связи же говорят: рассматривается внешне (externe).) – Нечто является возможным внутренне, или само по себе и для себя, и относительно – в отношении и связи с другими вещами.
(Внутренне невозможное (internе impossibile) есть nihil negativum (отрицательное ничто). Ничто, [происходящее] от простого недостатка чего-либо, называют ничем. – Внутренне возможно многое, что внешне, в связи [с другими вещами], невозможно; то есть [оно] также возможно условно. Условие здесь равнозначно основанию. Например, возможно само по себе, что человек может разбогатеть, но также и при условии, что его родители богаты, то есть для этого имеется еще и основание. – Толковать условие таким образом не вполне соответствует словоупотреблению; собственно, оно означает ограничение, например: некий командующий может отдавать приказы, если народ на это согласен.)
Внутренним критерием вещей является закон противоречия, но он отнюдь не достаточен. А относительная возможность вещи заключается в ее отношении к своим основаниям или следствиям. Например…
Возможно, что человек достигнет великих богатств, однако в силу лености, непригодности или отсутствия состоятельных родственников это невозможно. – То, что противоречит условиям, при которых нечто возможно, является гипотетически невозможным; то, что противоречит самому себе, – абсолютно невозможным. Нечто может быть возможно само по себе, но гипотетически – будь то под логическим или реальным условием – оно невозможно. Гипотетическая невозможность молчаливо предполагает абсолютную возможность, ибо то, что само по себе есть ничто, не может быть рассмотрено в логическом отношении.
Мы подходим теперь к знаменитому положению о достаточном основании (которое является первым синтетическим положением a priori). Автор ведет речь здесь не о существующих, но о возможных вещах. Выраженное в своей всеобщности, оно гласит: nihil est sine ratione (ничто не бывает без основания). Здесь мы хотим подставить иные слова: id quod habet rationem aliquam est rationatum (то, что имеет некоторое основание, есть обоснованное), следовательно: omne possibile est rationatum (все возможное есть обоснованное) – это совершенно то же самое. (Так выражает его автор; однако далее он утверждает, что есть существо, которое есть основание, но не есть следствие, и выходит из затруднения, говоря, что оно имеет основание в самом себе – это абсурдно: основание всегда должно быть чем-то иным, а если оно не таково, то это – не основание. Это все равно что сказать: я хочу нечто, почему? потому что я этого хочу – т.е. здесь еще вовсе нет основания, и такое хотение должно быть названо originarium (первоначальным) – подобно тому как высшее существо есть ens originarium (существо первоначальное). Теперь это положение бросается в глаза своей противоречивостью: мы видим повсюду одни лишь следствия и не видим достаточного основания, которое было бы только основанием. Совокупность всех вещей была бы чем-то quod non poneretur nisi posito nihil (что не полагалось бы иначе, как через полагание ничто). Таким образом, основание возможности всех вещей было бы не-сущим. Поэтому нам потребуется ограничение. А именно: все случайное имеет основание. Случайно то, противоположное чему возможно; но мы не можем познать это из чистых понятий. Логически возможное – да, но реально возможное – нет. Логическую случайность можно познать из чистых понятий, однако реальную возможность противоположного никак нельзя усмотреть. Поскольку случайность вещей не может быть познана a priori посредством чистых понятий, мы должны сказать: все эмпирически случайное имеет свое основание, т.е. случайное в явлении. Эмпирически случайно то, противоположное чему эмпирически возможно, – как то показывает опыт: нечто есть, чего прежде не было. «Нечто происходит» всегда означает эмпирическую случайность. Таким образом, это положение можно выразить и так: все, что происходит, имеет основание. «Происшествие» содержит в себе возникновение или исчезновение как свои виды, будучи их родом.
Это положение о достаточном основании должно быть доказано, но не из чистых понятий, ибо оно есть синтетическое положение, где я выхожу за пределы своего понятия, чтобы присоединить к нему другое, которое в данном мне понятии не содержалось. Однако мы находим в себе некую пристрастность к этому положению в том виде, как его излагает автор. Ведь всякое необоснованное утверждение ложно. Здесь-то и заключается иллюзия. Если мы должны указывать основание для всего происходящего, то отсюда еще не следует, что вещи сами по себе должны иметь основание, и здесь происходит путаница. Например, высшее существо не имеет основания, и тем не менее мы должны приводить основания того, что оно есть. Можно выразить это положение и так: все, что следует друг за другом в чувственности, или в чувственном созерцании, следует друг за другом и в понятиях рассудка. Или: то, что может быть представлено как следствие в чувственности, может быть представлено как следствие и через рассудок. Этим данное положение рекомендует себя – и поскольку оно, как только что сказано, не может быть доказано из чистых понятий, оно должно иметь иное доказательство.
В дальнейшем мы увидим: синтетические познания a priori имеют значимость постольку, поскольку они являются принципами возможности опыта (все наши суждения имеют основание, почему предикат принадлежит субъекту; в аналитических суждениях это основание анализа, в синтетических – основание синтеза. – У нас есть также суждения a posteriori; они суть либо суждения восприятия, либо суждения опыта; последние всегда предполагают первые. Первые имеют лишь субъективную значимость; например, я говорю: «мне холодно». Вторые имеют объективную, или всеобщую, значимость. Таким образом, первое имеет лишь субъективную значимость; если же оно должно иметь объективную значимость или быть суждением опыта, то последовательность восприятий должна определяться по правилам, т.е. быть необходимой – тогда говорят, что и в объекте имеет место последовательность: то, что одно следует за другим согласно правилу, и есть основание. Следовательно, principium rationis sufficientis (принцип достаточного основания) есть основание возможности опыта; без него не было бы никакого опыта.)
Как возможен опыт, или каким образом рассудок создает из восприятий познания вещей? Он должен иметь принципы; это – синтетические положения, и к ним принадлежит также и наше положение. (Восприятия могут следовать друг за другом без того, чтобы поэтому и вещи следовали друг за другом. Например, я могу в доме воспринять сначала крышу, затем фундамент, затем окна и т.д., без того чтобы вещи следовали в таком порядке, ибо они существуют одновременно.) Оно (положение) имеет силу для всех объектов опыта, и мы увидим, что оно может быть доказано не иначе, как положение, значимое для всех объектов опыта, но не сверх того; и так обстоит дело со всеми синтетическими положениями a priori. Вся ошибка метафизики состоит в том, что положения, имеющие силу лишь для опыта, применяются сверх него, тогда как они значимы лишь для всех возможных объектов опыта, а не для вещей самих по себе. Они суть правила синтеза явлений, посредством которых опыт лишь и отличается от сновидения; таков же и principium rationis sufficientis.
Автор доказывал его, но весьма странным образом, а именно: если бы вещь не имела основания, то ее основанием было бы ничто. Ибо если бы ничто было основанием чего-то, то это противоречиво. Здесь он, что едва ли простительно, смешал логическое и метафизическое ничто. Этот довод легко опровергнуть, пародируя его, т.е. доказывая из него нечто нелепое, например: «у тебя есть деньги в шкатулке – ибо если бы их не было, то в шкатулке было бы ничто из денег, ибо если бы ничто было деньгами… следовательно, у тебя должны быть деньги». Ошибка здесь в том, что один раз мы принимаем nihil как отрицание, другой раз – как понятие. Не одно и то же – сказать: nihil est sine ratione (ничто не бывает без основания) или nihil est ratio (ничто есть основание).
Из чистого понятия это доказать нельзя; мы должны принять нечто третье, с чем понятия согласуются, а именно – понятие возможного опыта. Эмпирическое познание, поскольку оно рассматривается как общезначимое, т.е. необходимое, называется опытом; эмпирическое познание, поскольку оно имеет субъективную значимость, есть восприятие, и оно бесспорно, но лишь для меня. Например, если положение «за солнечным сиянием следует теплота» должно быть суждением опыта, то оно должно звучать так: «за солнечным сиянием для каждого необходимо следует теплота». Но что же есть то, за чем нечто следует с необходимостью? Основание. Стало быть, если вышеуказанное восприятие должно стать опытом, я должен представлять себе, что в солнечном сиянии содержится основание теплоты, ибо оно значимо для каждого. Эти принципы необходимой связи восприятий суть синтетические принципы a priori, и к ним принадлежит также наше положение – без него никакой опыт не может иметь места. Если вышеуказанное положение должно стать суждением опыта, оно должно подчиняться принципу необходимой связи восприятий. Главнейшая связь есть связь основания и следствия. – Если связи вещей должны быть всеобщими, то должно быть постоянное правило; иначе я не могу сказать, что последовательность вещей должна иметь всеобщую значимость, и тогда это снова не есть опыт.
Однако выше мы сказали, что эмпирические познания, или опыт, не содержат необходимости. Опыт не учит, что нечто необходимо, если отвлечься от всех восприятий. – Они предполагают принципы, которые необходимы и под условием которых лишь и возможны. Опыт не учит необходимости вещей. – Все принципы синтеза, которые я мыслю a priori, суть принципы возможности опыта и относятся лишь к вещам опыта, но тем не менее они a priori, поскольку предшествуют всякому опыту, который только через них и возможен. Они также синтетичны, подобно опыту, ибо опыт есть не что иное, как синтез восприятий, имеющий необходимую значимость, который я могу познать через понятия a priori. Синтез, который не дан ни в каком опыте, здесь попросту невозможен. Но эти синтетические принципы a priori я могу усмотреть – и действительно усматриваю, поскольку иначе не было бы никакого опыта. Я могу усмотреть их, ибо они суть merely познания, лежащие в моем рассудке.
Автор говорит: если все имеет свое основание и свое следствие, то все связано a priori и a posteriori; это верно, но не подходит ко всем вещам, иначе не было бы высшего основания.
О Достаточном и Недостаточном [Основании]Основание является достаточным двояким образом: 1. Мы можем представлять основание как целое, подобное агрегату; 2. Как ряд. Полнота основания как агрегата является достаточной, как ряда – оно также достаточно. Основание, посредством которого всё в следствии определяется, является достаточным как агрегат; следовательно, всё должно иметь достаточное основание. Недостаточное основание также истинно, оно есть часть достаточного. Основание в ряду взаимно подчинённых оснований является достаточным не иначе, как только если мы всё сводим к первому основанию. Обыкновенно его называют достаточным, если оно способно сделать выводимые из него следствия непосредственно понятными.
Автор доказывает положение «всё имеет свои следствия» так же, как и положение «всё имеет своё основание»; однако же, оно не может быть доказано из чистых понятий. Мы рассматриваем основания в ряду, когда одно является рационатумом [обоснованным] другого. В ряду всегда есть одно непосредственное основание, и каждое отчасти есть основание следствия. – Таким образом, мы можем представлять основания complete [полными], координированными и субординированными. Все наши основания суть связи, суть coordination, т.е. связь частей в агрегате, – и Subordination, т.е. связь частей в ряду. Основание является достаточным simpliciter [безусловно] или secundum quid [относительно, при определённом условии]. Нечто является основанием чего-то иного опосредованно, если оно есть основание посредством другого, – непосредственно, если оно есть основание не посредством другого, remota posita [при устранении промежуточных звеньев] или умозаключение о чём-то через многие rationes intermedias [промежуточные основания]. При координации оснований одно является complementum [дополнением] другого к достаточному основанию; при субординации одно основание есть следствие другого. В ряду существуют rationes immediatae [непосредственные основания], mediatae [опосредованные] и simpliciter talis [безусловно таковые]. Координация оснований есть связь их в одно непосредственное достаточное основание; субординация оснований есть связь их в одно опосредованное достаточное основание.
(Основание может быть достаточным в отношении своих следствий и в отношении себя самого; в отношении своих следствий – когда оно определяет всё, что в них содержится; в отношении себя самого – когда оно не предполагает никакого иного основания. Если я возьму совокупность всех мировых причин, то они содержат полное основание для настоящего состояния мира, но оно не является достаточным для себя, т.е. simpliciter talis, но лишь в отношении своих следствий, т.е. secundum quid – в мире мы не находим rationes simpliciter talis. Отношение основания и следствия содержит лишь логическое выведение, т.е. если полагается одно, то необходимо полагается и другое, и в этом смысле оно содержит основание возможности связных восприятий, т.е. опыта.)
posita ratione, ponitur rationatum [если положено основание, то положено и следствие] – это уже явствует из определения основания; далее, posito rationato, ponitur ratio quaedam non certa [если положено следствие, то положено некоторое, но не определённое основание]. Например, если кто-то задушен, он мёртв, но если он мёртв, то не обязательно, что он был задушен.В ряду субординированных понятий то, что достаточное в определённом отношении, является достаточным secundum quid, а во всех отношениях – simpliciter; мы должны привести следующие каноны: Определять значит – из двух противоречаще противоположных предикатов приписывать вещи один из них. Всё можно сравнить с каким-либо возможным противоположным предикатом и с самим предикатом. Если я приписываю вещи предикат, то противоположное исключается. Из двух противоположных предикатов один должен принадлежать вещи, следовательно, каждая вещь должна быть определимой [determinabel].
(Умозаключения автора относятся к логике, там они все и встречаются, только основание там называется антецедентом, а следствие – консеквентом. Sublato rationato tollitur ratio [при устранении следствия устраняется и основание], ибо если бы основание оставалось, оставалось бы и следствие; но не sublata ratione tollitur rationatum [при устранении основания устраняется и следствие], ибо следствие может иметь другое основание.)
(Поскольку каждой вещи из двух противоречаще противоположных предикатов принадлежит один, то каждая вещь определена всесторонне [durchgängig bestimmt] – однако же говорят, что вещь неопределённа [indeterminirt] в отношении некоторых противоположных предикатов, если через понятие, которое мы о ней имеем, ей не принадлежит ни один из них; например, каждый существующий человек либо учён, либо неучён, но через понятие, которое я имею о человеке, не определено, учён он или неучён. Лишь одно существо является всесторонне определённым через своё понятие, а именно то, которому принадлежит вся реальность; в остальном же вещи в отношении или через своё понятие во многих отношениях неопределённы.)
Общее понятие само по себе не определено; например, «человек либо учён, либо неучён» – неопределённо. Но «учёный человек» – определён. Определять можно только через синтез, а не через анализ, ибо в отношении того, что уже содержится в нём, он не был неопределённым. Ибо я могу определить понятие, только если я нечто прибавлю к нему. Всякое основание определения называется ratio determinans [определяющее основание]. Наше познание, если оно должно быть определено, должно иметь основание; то же и с вещами. Если две вещи в отношении двух предикатов неопределённы, то они могут быть определены через определяющее основание. Определение [Bestimmung] отличается от логического предиката. (Логический предикат может быть аналитическим, но определение всегда синтетично; например, говорят, что понятие тела определяется через протяжённость – я определяю понятие через предикат, если бы без него оно было бы неопределённым, – но понятие тела без протяжённости не является неопределённым, ибо это уже заключено в его понятии, тогда как тяжесть есть определение.)
(Может ли всякое основание быть определяющим или нет, или же только достаточное? Большинство здесь всё ещё проводит различие, но это ошибочно – основание как раз состоит в том, что quo posito, determinate ponitur aliud [когда нечто положено, другое полагается определённо] – недостаточное основание определяет нечто в следствии – достаточное определяет всё.)
Определение есть предикат вещи, посредством которого исключается противоположное. Это обычный способ мыслить определение, а именно: его рассматривают как предикат, который придаётся вещи, посредством чего исключается противоположное. Этого недостаточно. Определение есть синтетический предикат; например, «тело протяжённо». Этим оно ещё не определено. «Учёный человек» определён, ибо учёность не заключена в понятии человека. – Предикат принадлежит вещи внутренне, если он уже заключён в её понятии; внешне – если он принадлежит ей в отношении к другим.
(Внутренние предикаты суть такие, которые принадлежат вещи самой по себе. – Их также подразделяют на абсолютные и относительные [respective]. Последние суть респективные (к внутреннему или к внешнему). Respectus ad externa [отношение к внешнему] есть отношение [relation]; например, то, что человек есть господин над своими страстями, есть респективное, но ad interna [к внутреннему]; я рассматриваю здесь отношение власти к подчинённому. Следовательно, здесь имеет место respectus; respective ad externa [респективно к внешнему] будет, если я рассматриваю его как господина и подданного.)









