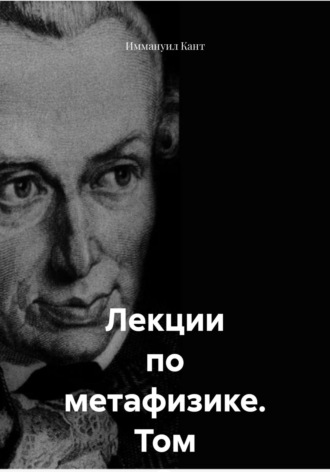
Полная версия
Лекции по метафизике. Том 2
Вся метафизика есть не что иное, как цепь воздвигнутых и низвергнутых систем. До сих пор не появилось ни одной книги, в которой было бы нечто постоянное. Это наука, не имеющая удела быть пребывающей. Чем более просвещается рассудок, тем больше ценности она приобретает, однако, поскольку никто не может отказаться от метафизических вопросов, ибо они слишком тесно связаны с интересом человеческого разума. Возразят, что Вольф и Крузий издали свои метафизики. Но стоит лишь взглянуть, не исследуя само дело, на их успех. Они уже все рухнули. Некоторые положения были истинны, но целое – никогда. В отношении таких метафизических положений можно избирать догматический путь, т.е. познавать свой чистый разум настолько, насколько это возможно. Догматичным является treatment [ведение] науки, когда не стараются исследовать, из каких душевных сил проистекает познание, но полагают в основу некие общие, принимаемые за истинные положения и выводят из них остальное; критичным является treatment, когда стремятся открыть источники, из которых оно проистекает. В математике последнее не необходимо, ибо всё, что она говорит, может быть подтверждено опытом, но в философии это не так, и здесь мы часто находим в применении многих познаний grandes difficultates [большие трудности] и противоречия, хотя они и кажутся непосредственно достоверными, так же как основоположения математики, например, всё существующее существует во времени. Мы должны поэтому исследовать душевные силы, из которых проистекают познания, чтобы увидеть, можем ли мы им доверять, хотя они и кажутся очевидно истинными, – и затем, на чем вообще основывается способность познавать нечто a priori. Критический метод исследует положение не объективно или по его содержанию, но субъективно. – Метод метафизики, следовательно, есть критико-догматический, чтобы найти criterion [критерий] для отличения познаний, правомерно проистекающих из рассудка и разума, от тех, что возникают без иллюзии или посредством ее, когда он обманывает себя. В метафизике мы не будем спрашивать, истинны ли положения «есть Бог» и «есть иной мир», но может ли рассудок посредством одной лишь спекуляции зайти так далеко. Согласно всем правилам разумной веры можно быть практически в чем-то настолько убежденным, что никакой разум этого не отрицает, но в спекулятивном отношении – нет. – При первом вопросе, истинны ли эти положения вообще, мы покажем, что никто не будет их отрицать, не отбросив всех разумных основоположений, для этого мы будем использовать лишь common sense [здравый человеческий смысл], лишь немного его просветив. При второй цели, можем ли мы посредством одной лишь спекуляции, без практического намерения, зайти так далеко, мы покажем, что это невозможно. – Это мы назовем логической истиной, следовательно, логически достоверными мы в этих положениях стать не можем – при критических исследованиях мы обнаружим слабости рассудка, кои велики, и то, что он выдает многие познания, которых у него нет. Метафизика здесь не имеет позитивной пользы, но имеет негативную: до сих пор всегда критиковали положения, но никто – не критиковал сам разум, поэтому здесь и не достигнуто ничего постоянного. (Ни в одной науке негативная польза не столь велика, как в метафизике, ибо ни в одной заблуждения не столь велики и опасны. Ни в одной науке, следовательно, критика не столь необходима, как здесь, ибо здесь всё имеет негативную пользу. Мы можем показать, что такие принципы, с которыми оппонент argumentiert [аргументирует] против меня и хочет поколебать веру в Бога и иной мир, вовсе не основаны в разуме – следовательно, [показать] неспособность разума повредить религии.)
Выдумывать положения и собирать их в систему – это был первый путь; затем, когда увидели, что это вызывает раздоры, начали исследовать сам разум, не disputiren [спорить] о вещах, но исследовать, какие у него источники, как далеко он может продвинуться без опыта. Это были исследования субъекта, и это решение было весьма разумным. Ибо если мы не продвигаемся с объектом, то хорошо обратить наше внимание на сам субъект, и это должно было когда-нибудь возникнуть, ибо если я не могу быть спекулятивно достоверен о вещах, то я должен быть достоверен об источниках, границах и принципах разума. Во многих вещах мы не можем дать resolution [решение], как, например, в естествознании, и мы не можем здесь судить, возможно ли оно вообще, ибо все наши insights [познания] в естествознании зависят от опыта, и мы не можем знать, как далеко мы в нем продвинемся. Здесь невозможно определить границы человеческого разума. Также и в отношении математики, ибо там всё основывается на созерцаниях, из которых вытекают следствия; поскольку же созерцания могут быть бесконечны, то и следствия могут быть бесконечны. Нельзя поэтому определить, не будут ли открыты многие еще свойства круга. В метафизике мы пользуемся чистым разумом, не основываясь на созерцаниях. Она есть чистая философия, познающая объекты посредством pure [чистых] понятий. Она есть особая наука об употреблении разума через понятия. Если мы здесь еще недалеко продвинулись, как это есть на самом деле, то мы все же можем нечто с достоверностью определить в отношении разума. Границы чистого разума можно определить с достоверностью, ибо объекты должны быть рефлектированы из созерцаний, ведь если объекты не даны через опыт, у нас нет объектов для рефлексии. Мы сможем, таким образом, перечислить все понятия чистого разума, также enumeriren [пронумеровать] основоположения и показать, как далеко простирается применение чистого разума и в каких пределах оно должно быть удержано, и теперь мы можем показать, откуда происходит видимость и какие вопросы либо разрешены, либо поставлены, и которая господствовала во столь многих системах. Мы сможем защитить мораль и религию от мнимых возражений спекулятивного разума, и благодаря этому человеческий разум приходит к полному удовлетворению, и такая работа возможна. (В предыдущем столетии, когда все науки претерпели великую революцию, когда experimental physics [экспериментальная физика] вошла в моду, начали также исследовать и разум, но физиологически, а не критически. Что собственно было объяснением и исследованием происхождения понятий. Локк и Лейбниц не помышляли о критике понятий разума, они исследовали лишь то, как мы приходим к понятиям. Локк сказал: все понятия заимствованы из опыта. Лейбниц – нет. Мы имеем также некоторые через чистый разум. Это легко различить, например: может ли опыт дать понятие о причине и действии, о Боге и т.д.? Но Лейбниц не спрашивал: как разум независимо от всякого опыта приходит к этому понятию – на чем основывается способность вообще познавать нечто a priori? Как далеко она простирается? Нечто подобное критике чистого разума обнаружилось у Дэвида Юма, который, однако, впал из-за этого в дичайший и безнадежнейший скептицизм, и это легко произошло, потому что он изучал разум не всецело и полностью, но лишь то или иное понятие.)
Исследование facti [факта]: как мы приходим к познанию, из опыта или через чистый разум. – Локк много в этом преуспел, и это также может иметь пользу, но все же не столь необходимо и едва ли возможно – лучше исследовать: сколько всего чистых рассудочных понятий, какое они имеют значение, т.е. на какие объекты они могут быть направлены, как они могут употребляться и в каких границах должны удерживаться? Это есть критика чистого разума. Мы видим здесь, с каким правом мы пользуемся понятиями без опыта, не делаем ли мы это неправомерно. Посредством критики я достигаю не достоверности в вопросах, поскольку они должны быть разрешены догматически, но [достоверности] того, что разум может совершить в отношении всех метафизических вопросов. Такая критика еще никогда не издавалась, кроме как господином профессором Кантом в Риге в 1781 году.
(Примечание. Метафизику можно разделить на метафизику как природную склонность и на метафизику как науку. Совокупность всех наших рассудочных познаний через понятия, которые присущи каждому человеку и которыми он пользуется в опыте, есть metaphysica naturalis [естественная метафизика]. Всякое рассудочное познание, поскольку оно не спекулятивно или in concreto [в конкретном], естественно, и таковых великое множество; стало быть, и обыденное употребление рассудка также имеет свою метафизику, и эта метафизика заслуживает того, чтобы быть возведенной в науку. Не всякое естественное употребление разума должно всегда превращаться в научное, ибо цели при этом достигаются, например, в морали не нужно представлять правило in abstracto [абстрактно], но лишь in concreto. Тяжело, например, a priori доказать недопустимость лжи или показать in abstracto, in concreto это возможно, но в метафизике это необходимо. Мы имеем различные познания a priori, которые, однако, находят свое подтверждение в опыте – но также и трансцендентные понятия, и теперь material metaphysics [материальная метафизика] ничем не может помочь, ибо подтверждение всеобщих основоположений в опыте отсутствует. Так я порхаю, словно в пустом пространстве, и если наука a priori не подтверждает себя через себя саму, я рискую впасть в химеры. Естественное употребление разума имеет место, когда мы остаемся в пределах опыта, но его недостаточно, как только мы выходим за них, а поскольку это необходимо, то метафизика как наука необходимо и неизбежно заключена в разуме – она ищет, не может ли она там найти разъяснения запутанных вопросов, которые сама же истинный разум и ставит, даже практический разум оглядывается вокруг, ищет того, кто трактует метафизику как науку, или пробует сделать это сам, и никакое познание не нуждается столь необходимо в том, чтобы быть наукой, как метафизика. Над ней насмехаются как над бесполезной и легко dispensable [обходимой] вещью, но то же самое можно было сказать и о теме circulation of the blood [кровообращения] – нельзя оправдываться тем: это превосходит разум и наши познания: в природе есть secrets [тайны], но вещи находятся вне меня, и я должен их изучать, здесь занавес задернут; но если я мыслю нечто, если я мыслю себе вещи a priori, которые суть лишь создания моего рассудка, то в отношении них должно быть возможно дать ответ, имеют ли мои утверждения основание или нет. Это не исследование вещи, но исследование рассудка, его основоположения и понятия должны быть исследованы, ибо всё заключено во мне.)
Между тем мы все же должны следить, чтобы не утратить догматический метод, поэтому мы будем излагать его так же, как и наш автор. Мы будем, таким образом, устанавливать метафизику не как архитектонику, не как doctrin [доктрину], ибо впоследствии всё же обнаружат, что всё это – обман, но мы будем присоединять сюда и критику чистого разума, благодаря которой вся догматическая grandezza [важность] отпадет. Критика, следовательно, должна произвести систему самопознания нашего разума. В системе метафизики мы сперва аналитически пройдем все понятия и просто объясним, что наш разум разумеет, когда пользуется тем или иным понятием. Это имеет grande utility [большую пользу], хотя мы здесь оставим открытым вопрос, могут ли быть разрешены вопросы метафизики или нет. Это разъяснение (не расширение) наших знаний очень полезно, ибо во всем, где есть разум, присутствуют метафизические понятия. Метафизика есть совокупность всех чистых рассудочных познаний, которые очень проясняются посредством аналитики. Ответ на все вопросы разума есть синтетическая часть метафизики, где мы seek [стремимся] расширить наши познания посредством чистого разума и приобрести чистое познание. Она иного рода, нежели аналитическая, ибо здесь расчленяются рассудочные понятия, но не даются ответы на вопросы, следовательно, наше познание не расширяется, но лишь проясняется. В синтетической же части оно расширяется, и здесь мы нуждаемся в критике, поскольку мы предпринимаем попытки выйти с разумом за пределы опыта. Хотя еще и не все философы избирают путь критики чистого разума, они будут вынуждены когда-нибудь на него выйти. Нужда научит их этому, ибо лишь критика дает полное удовлетворение, а без нее наш разум будет постоянно в разладе с самим собой.
(Конец пролегомен)
Онтология.Мы приступаем ныне к науке о свойствах всех вещей вообще, которая именуется онтологией. (Онтологией должна быть наука, трактующая об общих предикатах всех вещей, то есть о таких предикатах, которые присущи большинству вещей – если же предикаты не являются универсалиями, т.е. общими всем вещам, то мы и вовсе не знаем, что есть онтология. Они должны принадлежать всем вещам, если не кумулятивно, т.е. так, что им присущи оба [предиката], то по крайней мере дизъюнктивно, одно из двух, например, составное и не составное. – Эти предикаты присущи всем высшим [родам], но не кумулятивно, т.е. не так, что им должны быть присущи оба предиката, но дизъюнктивно, одно из двух. Когда я говорю «общие предикаты», то всё же всегда находится исключение, и насколько же оно простирается?). Легко усмотреть, что она не будет содержать в себе ничего иного, кроме всех основных понятий и основоположений нашего познания a priori вообще: ибо если она должна рассматривать свойства всех вещей, то её объектом является не что иное, как вещь вообще, т.е. любой предмет мышления, стало быть, никакой определённый предмет. Таким образом, мне остаётся лишь само познание, которое я и рассматриваю. (Наука, которая трактует о предметах вообще, будет трактовать не о чём ином, как о понятиях, посредством которых рассудок мыслит, следовательно, о природе рассудка и разума, поскольку они познают нечто a priori. – Это есть трансцендентальная философия, которая говорит не что-либо a priori о предметах, но исследует способность рассудка или разума познавать нечто a priori; она, таким образом, есть самопознание рассудка или разума по содержанию, подобно тому как логика есть самопознание рассудка и разума по форме; к трансцендентальной философии необходимо принадлежит критика чистого разума. Но поскольку онтологию разрабатывали без критики – что представляла собой онтология тогда? Онтологию, которая не была трансцендентальной философией. Философствовали, стало быть, как попало, не задаваясь вопросом: возможно ли это вообще? Трансцендентальная философия есть результат критики, ибо если я могу представить объём и источники [познания] в связи, то связное представление принципов a priori и есть трансцендентальная философия, а если я принимаю все следствия, из неё вытекающие, то это есть метафизика; без критики я не знаю, все ли понятия чистого разума и чистого рассудка [мне] известны или же некоторые ещё отсутствуют – потому что у меня нет принципов. Не были установлены границы разума, и при этом шли так далеко, как только могли. Вы, конечно, видите, что в опытных делах нельзя всё смешивать, но a priori можно всё усмотреть, и поэтому, поскольку никто не может их опровергнуть…)
(Метафизика имеет ту особенность, что её можно полностью завершить, способность разума по её источникам, объёму и границам можно измерить. Метафизика не может надеяться сделать открытия в природе вещей, но разум должен всему научить, следовательно, я могу установить, какие понятия независимо от опыта заложены в разуме – здесь положение подобно грамматике, та может быть полной, но не словарь, ибо за то время, что автор его пишет, появляются вновь новые слова.)
(В морали также нечто может быть завершено, а именно, как называет её господин Кант, метафизика нравов, т.е. первые принципы нравственности, которые происходят из чистого, но практического разума.)
(Онтология этого автора есть farrago [мешанина], собранные знания, которые не являются системой, но представляют собой нечто рапсодическое – хотя он в иных отношениях был одним из проницательнейших философов. Причина в том, что тогда ещё ничего не знали о критике.) Наука, которая должна рассматривать свойства всех вещей вообще, должна быть наукой a priori. Стало быть, она есть познание из одного лишь разума, не может быть почерпнута из опыта, ибо опыт не простирается так далеко, чтобы мог быть применён ко всем вещам, он учит не тому, что должно быть присуще вещам вообще, но тому, что показывают нам чувства; поскольку онтология не имеет определённого объекта, она не может содержать в себе ничего, кроме принципов познания a priori вообще: таким образом, наука всех основных понятий и основоположений, на которых зиждется всё наше познание чистого разума, есть онтология. Однако эта наука не будет properly [подлинно] называться онтологией. Ибо иметь вещь вообще своим объектом – это то же, что не иметь объекта и рассматривать лишь одно только познание, как в логике. Но её название указывает, как если бы она имела определённый объект. Однако у неё нет объекта, который отличался бы от сущности разума, но она рассматривает сам рассудок и разум, а именно основные понятия и основоположения оного в их чистом применении (или чистого разума и чистого рассудка); наиболее подходящим названием было бы трансцендентальная философия. Познание называется чистым рассудочным или разумным познанием since [поскольку] оно возможно a priori, и его следует отличать от эмпирического. Однако чистое разумное познание не есть трансцендентальное. Но рассмотрение природы и возможности такого чистого разумного познания через чистый разум есть трансцендентальное, например, понятие причины и действия есть чистое, но не трансцендентальное, однако рассмотрение возможности такого понятия есть трансцендентальное. – Между двумя точками возможна лишь одна прямая линия – есть положение a priori, но не трансцендентальное положение, ибо оно трактует о предмете. Если же я рассматриваю, как возможно прийти к такому познанию a priori, то это есть трансцендентальное. Трансцендентальная философия содержит принципы возможности познания a priori. Она содержит все основные понятия нашего чистого разума и чистого рассудка, вообще все основоположения возможности познания a priori, объём и границы всего разума a priori. Она определяет, как далеко может простираться чистый разум без опыта; прежде этого мы должны знать содержание чистого разума, основоположения, основные понятия, принципы и условия применения понятий чистого разума. При расширении нашего познания весьма необходимо знать границы, за которые мы не можем выйти, потому что в противном случае мы рискуем трудиться впустую. Мы отваживаемся расширять наше познание и не знаем, находимся ли мы на поле истины или же химер, и даже наши истинные познания становятся сомнительными. Границы эмпирического знания, как сказано выше, определить нельзя. Физика, т.е. философия о явлениях природы, также, стало быть, не имеет определённых границ, и similarly [равным образом] математика, ибо она может бесконечно умножать свои наглядные представления. Объекты чистого разума суть такие, которые могут быть даны в опыте, например, Бог, мир, целое и т.д. Каковы же границы чистого разума? Их должно быть возможно определить, ибо в случае чистого разума объект мне вовсе не дан; мне, следовательно, остаётся лишь изучать сам разум, ибо он мне дан. Но в естествознании познание получают из иного источника, а именно из опыта. В познаниях чистого разума я должен всё выпрясть из самого себя, здесь опыт и созерцание не могут мне ничем помочь, поскольку, таким образом, всё целое может быть извлечено заранее из моего познания, имею ли я в себе разум, следовательно, границы чистого разума должны поддаваться определению – и трансцендентальная философия есть определение границ применения чистого разума. – Теперь мы переходим к действительному познанию, и прежде чем мы рассмотрим его и его элементы, т.е. границы, источники и объём, мы должны ещё нечто предпослать, а именно различие между аналитическими и синтетическими суждениями.
Всякое тело есть протяжённое – есть аналитическое суждение. Когда я мыслю тело, я вместе с тем мыслю нечто протяжённое. – Здесь я могу найти предикат через анализ субъекта. Они называются расчленяющими суждениями. Господин Кант говорит: суждениями пояснения, поскольку они поясняют наше познание. – Всякое тело имеет тяжесть – есть синтетическое суждение, тяжесть вовсе не содержится в понятии тела. Всё, что происходит, имеет причину. В понятии «происходит» не содержится понятие причины. Происходить значит становиться тем, чего прежде не было, здесь вовсе не содержится понятие причины; это суждение есть расширяющее. Всё, что происходит, существует во времени – аналитическое. Оно происходит значит: было время, в которое оно возникло, коему предшествовало иное время, в которое его не было. Понятие «всё происходит» мне стоит лишь расчленить, чтобы извлечь суждение. Возможность аналитических суждений легка, ибо я познаю лишь то, что я уже имел в понятии субъекта, мне стоит лишь расчленить понятие. Возможны ли синтетические суждения – вот вопрос: синтетические суждения a posteriori легко возможны. Например, всякое тело имеет тяжесть – этому учит опыт. Теперь остаётся ещё показать возможность синтетических суждений a priori, и это трудно ответить, но составляет дух всей трансцендентальной философии. Если бы философы исследовали это ранее, они бы во многих отношениях продвинулись дальше.Мы можем судить двояко: либо при суждении приписывая субъекту предикат, который содержится в понятии субъекта – либо при суждении выходя за пределы понятия субъекта и приписывая ему предикат, который не содержится в его понятии. Первое есть аналитическое, второе синтетическое, например: Математика имеет множество синтетических суждений a priori. Они, следовательно, должны быть возможны. Теперь мы должны увидеть, как они возможны, поскольку разум производит великое множество таких синтетических суждений сверх опыта. Я имею понятие, о коем я должен сказать не что-либо, в нём содержащееся, но нечто вне его, и притом a priori без помощи опыта. Как это возможно? Например, всё, что происходит, имеет причину, т.е.: тому, что происходит, должно нечто предшествовать, за чем это следует по правилу, и то, что происходит, рассматривается как действие. Как могу я так a priori расширить своё познание? Этот вопрос никогда не ставился столь всеобще, хотя он чрезвычайно необходим. Более того, можно сказать, что вся трансцендентальная философия есть исследование возможности синтетических суждений a priori. Прежде чем мы подробно поговорим об ответе на этот вопрос, мы вернёмся ещё к аналитическим суждениям.
Все суждения должны иметь принцип, который есть критерий истины. Ибо без этого нет вовсе никакого различия между истинными и ложными суждениями. (То, что синтетические суждения должны иметь иной принцип, метафизики, конечно, видели – Лейбниц сделал для того principium rationis sufficientis [принцип достаточного основания]: этому положению верит каждый, но как мы приходим к нему? Вольф отважился присовокупить к нему доказательство из принципа противоречия, – он, однако, хорошо видел, что оно недостаточно, потому сказал в примечании к нему, если бы это доказательство и не было строгим, то можно было бы здесь сослаться на common sense [здравый смысл]. – Это, конечно, верно, но если это должно быть положение a priori, оно должно быть доказано также a priori – и полностью, этот принцип также не может быть principium, т.е. принципом суждения, потому что он сам нуждается в доказательстве.) Каков принцип аналитических суждений? Ибо каждый легко видит, что синтетические должны иметь совершенно иной. – Ибо сказать нечто, содержащееся в понятии, есть нечто иное, нежели выйти за пределы понятия. Принципом аналитических суждений является закон противоречия: cuilibet subjecti non competit praedicato ipsi oppositum [никакому субъекту не присущ предикат, ему противоположный]. Всякий анализ есть не что иное, как сознание, что некий определённый признак содержится в понятии вещи. Признак, содержащийся в понятии вещи, отчасти тождествен вещи. Всякий аналитический признак тождествен (не целому) понятию, но части оного, например, всякое тело есть протяжённое – поистине есть суждение тождества. Все аналитически утвердительные суждения основываются на законе тождества: Cuilibet subjecti competit praedicato ipsi identicum [всякому субъекту присущ предикат, ему тождественный] (предикат может быть ex parte identicum [тождественным отчасти], например, всякое тело есть составное – или тотально тождественным, тогда это есть пустое положение). Человек есть животное – здесь я не говорю ничего, кроме того, что я уже мыслю в понятии человека. Закон тождества указывает не что иное, как анализ понятия (все аналитические суждения легки – и суть положения a priori – ибо нам стоит лишь пробежать наши понятия и увидеть, что в них содержится, их ошибочно выдают за опытные положения). Существуют также аналитические отрицательные суждения. Аналитическое отрицательное суждение есть такое, где я через расчленение нахожу, что некий определённый признак противоречит вещи, например, никакое тело не является простым. Простое противоречит составному. Принцип таков: всё то должно отрицаться от вещи, что противоречит понятию вещи – principium contradictionis [принцип противоречия] выражает отрицание, при котором я не должен выходить за пределы понятия вещи. Являются ли эти принципы всех аналитических суждений? Да, все как аналитически утверждающие, так и отрицающие суждения подчинены закону противоречия. Ибо если предикат тождествен субъекту, то его противоположность противоречит субъекту, и я по principium contradictionis тотчас распознаю ложность, как я по principium identitatis распознал истинность, и наоборот, я по principium identitatis тотчас распознаю истинность, как я по principium contradictionis распознал ложность, поскольку я могу здесь выводить одно из другого, то я приму principium contradictionis как всеобщий принцип всех аналитических суждений, например, тело есть простое, т.е. понятию тела противоречит простое, а не составное. Составное, следовательно, ему присуще.









