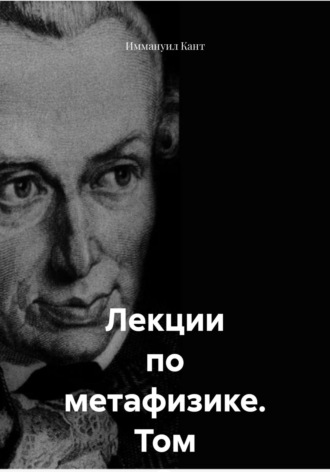
Полная версия
Лекции по метафизике. Том 2
Мы разделили метафизику на часть, содержащую имманентное применение разума, и на часть, содержащую трансцендентное применение. Следует различать трансцендентное и трансцендентальное. Трансцендентальное относится не к понятиям, а к науке, т.е. к применению рассудка. Трансцендентальная философия есть та, что рассматривает чистое применение рассудка – и к ней принадлежат все понятия и принципы чистого рассудка и чистого разума. Однако некоторые понятия имеют имманентное применение, другие – трансцендентное. Трансцендентальная философия рассматривает всю способность чистого рассудка и чистого разума к познанию a priori. Понятие основания и причины и понятие Бога принадлежат к трансцендентальной философии, однако первое имманентно.
В категориях мы говорили об отношении субстанции к акциденции – причины к причиненному и активного к пассивному. Вторую мы хотим назвать категорией принципа, первую – категорией субъекта, третью – категорией общения (commercii). Все три возможны лишь как реальные отношения. Во всех суждениях есть отношение предиката к субъекту; если это простое отношение, то суждение категорическое; если это отношение основания к следствию, то оно гипотетическое; если различные суждения рассматриваются как в целом познания, то оно разделительное. Мы знаем, что таблица категорий аналогична таблице функций рассудка в суждениях – в последней мы находим категорические суждения, которые лежат в основе всех прочих – они содержат отношения субъекта к предикату. То, что не может существовать иначе, кроме как субъект, есть субстанция; то, что не может существовать иначе, кроме как предикат, есть акциденция. Здесь, таким образом, всё так: как категорические суждения суть главнейшие, так и категория субстанции есть также главнейшая, понятия об акциденциях суть как бы лишь conceptus secundarii [вторичные понятия]. Поэтому субстанцию называют также субстратом явлений, и она есть первичное, ибо я могу мыслить субстанцию или субъект без акциденций или предикатов, но не наоборот. Поэтому субстанцию называют также субстратом акциденций. – Акциденции суть лишь модусы существования субстанции и не могут быть вне своей субстанции; ибо они существуют как предикаты, а те не могут быть вне субъекта. Поэтому древние говорили: Accidentia non migrant e substantia in substantiam [акциденции не переходят из субстанции в субстанцию], это означало бы, что они имеют свое собственное существование.Мы подходим теперь к понятиям субстанции и акциденции. Если мы вернемся назад, то найдем, что в основе субстанции и акциденции лежит реальность. (Примечание: accidens praedicabile [предикабельный акциденс] есть случайный акциденс, противоположный необходимому – accidens praedicamentale [предикаментальный акциденс] противопоставляется субстанции). Акциденция также есть существование, но лишь как присущность (inhaerentia), и при этом должно быть нечто действительно положительное. Поэтому отрицательные предикаты не суть акциденции, также не суть ими логические предикаты, которые относятся лишь к действительности вещи, например: «Δ не есть субстанция» и «3 угла» не есть акциденс. Через выражение «присущность» представляют себе, будто субстанция носит акциденции, будто они суть отдельные существования, которые лишь нуждаются в основе, но это есть лишь злоупотребление в речи, они суть лишь способы, каким вещи существуют. – Поскольку вещь определена положительно, ей присущи акциденции; поскольку она определена отрицательно, они ей не присущи. Они не существуют сами по себе и не просто поддерживаются субстанцией, как книга в книжном шкафу.
То, что существует, не будучи определением другого, есть субстанция; то, что существует лишь как определение, есть акциденция. Мы рассматриваем сначала категорию субстанции: то, что не может быть представлено иначе, кроме как субъект, есть субстанция, и то, что не может быть представлено иначе, кроме как предикат, есть акциденция; они взяты из логических понятий субъекта и предиката. Логическим предикатом может быть всё что угодно. Например, человек, рассматриваемый реально, не может быть предикатом вещи. Ученость не может существовать сама по себе.
В основе гипотетических и разделительных суждений лежат категорические. Поскольку без суждений мы ничего не можем познать и даже каждое понятие есть суждение, категорические суждения составляют существенное условие опыта. В каждом опыте реальным является отношение субстанции к акциденции. Категория субстанции есть, следовательно, основание всего остального познания. Все определения суть либо положительные, либо отрицательные. Последние не суть акциденции, ибо акциденция предполагает существование: omnis existentia est subsistentia [всякое существование есть самостоятельное существование] – cujus existentia est inhaerentia, est accidens [чье существование есть присущность, есть акциденция].
У субстанции мы можем иметь два аспекта: в отношении акциденции она имеет силу, поскольку она есть основание присущности последних, и в отношении первого субъекта без всяких акциденций, что есть substantiale [субстанциальное]. Сила, следовательно, не есть новый акциденс, но акциденции суть произведенные ею действия. Иногда акциденции не реально различны, ибо силы также лишь логически различны, например, светить и греть. Все силы, которые логически отличаются от других или чье различие может быть устранено через анализ, называют производными. Таким образом, мы имеем в каждой субстанции первоначальные и производные силы: допускают, и притом с большой вероятностью, что должна быть одна первоначальная сила, от которой происходят все другие. Но мы не можем свести все силы к одной, потому что акциденции так разнообразны, что мы не можем принимать их за одно и то же. Если мы отбросим все акциденции, то останется субстанция, то есть чистый субъект, которому всё присуще, или substantiale, например, «Я». Здесь все силы отставляются в сторону. Другой аспект – это аспект субстанции с ее акциденциями по отношению к substantiale, т.е. к субъекту, который отличается от всех других акциденций.
Что касается силы, то следует заметить: автор определяет ее через то, что содержит основание присущности акциденций; поскольку каждой субстанции присущи акциденции, он заключает, что всякая субстанция есть сила. Это вновь противоречит всем правилам словоупотребления; я говорю не «субстанция есть сила», но «она имеет силу»; отношение субстанции к акциденциям, поскольку она содержит основание их действительности, есть сила. Например: я не могу сказать, что способность мышления в нас есть сама субстанция – это ей присуще – также не акциденс; мысль есть акциденс. Таким образом, мы имеем нечто, что не есть ни субстанция, ни акциденция. Что же тогда есть способность мышления? Отношение души к мысли, поскольку она содержит основание ее действительности.
Substantiale, т.е. субъект, которому не присущи никакие акциденции, который необходимо должен быть отличен от акциденса, мы вовсе не знаем, ибо если я устраняю все положительные предикаты, то у меня не остается предикатов, и я не могу мыслить вообще ничего. Субстанции иногда по ошибке принимаются за предикаты, это есть substantia praedicata [предицируемая субстанция]; но это редко – чаще превращают предикаты в субстанции, например, некоторые теологи [поступают так с] первородным грехом.
Категории, правда, суть чистые рассудочные понятия, но они могут быть применены и к объектам опыта, тогда они сохраняют свое название с добавлением phaenomenon [феномен], так и здесь: есть substantia phaenomenon [субстанция как феномен]. Например, тело, которое хотя само есть явление, но [рассматривается] через субстрат других явлений. То, что есть не что иное, как совокупность акциденций, но выступает лишь как субстанция, есть phaenomenon substantiatum [субстанциализированный феномен], например, радуга.
Лишь через разум субстанция доказывает свое бытие. Странное следствие, оно проистекает из ложной активности силы. Она не есть вещь, но отношение, следовательно, акциденция. Если я беру субъект и акциденс, то получается субстанция; если я отбрасываю акциденции, то остается substantiale. Об этом мы не можем составить ни малейшего понятия, т.е. мы не познаем ничего, кроме акциденций. Ибо наш рассудок познает всё через предикаты; то, что лежит в основе предиката, мы никогда не познаем. Например, «все люди смертны» означает: всё то, что я познаю под предикатом «человек», я познаю также под предикатом «смертность». Человек есть существо телесное, животное, ест, мыслит, желает и т.д., – это всё сплошь акциденции. Понятие о человеке составлено, таким образом, из одних предикатов; понятие же о субстанции есть нечто в пространстве, которому присущи акциденции, но которое мы не знаем. Если я говорю о себе самом: я хочу, я делаю, – то это акциденции, субстанциальное же есть «Я». Можем ли мы познать что-либо иначе, кроме как через акциденции? Иначе мы не имеем об этом ни малейшего понятия. Если мы будем говорить об явлениях конкретнее, то увидим, что мы знаем лишь силы. Вещь, которой присущи силы, остается нам неизвестной. Отрицания не суть акциденции, и действительные [акциденции] могут быть познаны лишь по их действительности, т.е. по реальному, что в них есть.
Силы суть производные, акциденции которых тождественны с акциденцией другой силы. Те, акциденции которых не тождественны с акциденцией другой силы или которые не могут быть сведены к высшей, суть первоначальные силы. Вся натурфилософия занята сведением сил к одной основной силе, которую мы не можем далее объяснить, а именно, что поскольку нечто есть, благодаря этому следует нечто другое. Все основные силы должны быть даны через опыт.
Coexistentia mutabilium cum fixis est status [Сосуществование изменчивого с неизменным есть состояние]. В каждой вещи есть нечто пребывающее, это есть fixum [неизменное]. Изменчивое, поскольку оно сосуществует с существованием, есть состояние – оно, следовательно, есть не что иное, как определение субстанции во времени. Во времени возможны лишь изменения; если определения в разные времена различны, то состояние изменено; если они те же самые, то состояние не изменено. Неизменное имеет, таким образом, два состояния, следовательно, ens reale [реальная сущность] – нет. Внутреннее состояние есть сосуществование внутренних изменчивых определений с существованием; внешнее состояние есть сосуществование отношений с существованием; модификация есть изменение внутреннего состояния – если кто-то получает больше зол, он не модифицируется. Внешнее состояние может быть изменено без внутреннего, и внутреннее без внешнего.
Теперь мы переходим к более значительным понятиям. Из силы может быть выведено действие, и из обоих – другие вещи; соответственным этому является passio [претерпевание], страдание. Возможность действовать есть facultas [способность], возможность претерпевать есть receptivitas [восприимчивость]. Субстанция, поскольку она содержит основание того, что принадлежит к бытию вещи, действует, agirt; поскольку основание того, что принадлежит к ее собственному бытию, содержится в другой субстанции, она претерпевает, страдает пассивно. Всякая субстанция действует, потому что субъект субсистирует. Предикаты присущи каждой субстанции, акциденции (хотя мы называем их так) не могут существовать, не находясь в субстанции, следовательно, она содержит основание чего-то, что принадлежит к существованию, следовательно, она действует.
В естествознании есть большое основание рассматривать силу притяжения и силу отталкивания как первоначальные силы. Могут ли в одной субстанции быть многие или лишь одна основная сила? Также и наш разум должен иметь несколько… (обрывается)
… ненадежны, и мы можем вполне обходиться и без всяких метафизических принципов, однако можно сказать, что метафизика или критика разума приносит здесь пользу, ибо если не проверить первые источники суждения, то есть опасность судить метафизически ложно. Польза здесь, следовательно, отрицательная – предостеречь от ложной метафизики, а не положительная – расширить науку.
Поскольку объект метафизики не лежит в телесной и мыслящей природе, что же тогда является тем, на что направлена метафизика? Это должен быть объект сверх чувств. Метафизика означает «по ту сторону наукоучения о природе», μετά τά φυσικά [то, что после физики], означает trans physicam [по ту сторону физики]. Некоторые считали это название неуместным и полагали, что Аристотель назвал ее так потому, что в его сводах она следовала после физики: μετά означает не «после», а «по ту сторону», и это название очень уместно и, кажется, было тщательно продумано Аристотелем. Она есть наука о вещах, выходящих за все явления, о том, что лежит по ту сторону природы. Здесь мы берем природу не в полном, а в собственном смысле. Ибо так называется совокупность всех объектов чувств.
Здесь я не могу мыслить ничего иного, кроме Бога и иного мира. Существо, отличное от всех других, и жизнь, следующая за этой и отличная от нее, – эти два положения управляют всей метафизикой: если мы здесь безразличны, то мы можем быть безразличны во всех отношениях. Если эти два положения, которые суть cardines [оси], вокруг которых вращается вся метафизика, то возникает вопрос: зачем нам нужно отвечать на эти два вопроса?
Если мы назовем часть метафизики, где она трактует о первоначальном существе, рациональной теологией, а часть, где она трактует о будущей жизни, поскольку та предполагает бессмертие души, рациональной психологией, то метафизика имеет лишь эти две части: рациональную психологию и рациональную теологию. Но какую пользу они имеют? Они ведь должны так или иначе нас интересовать.
Что касается спекулятивной сущности, то все это для нас безразлично, ибо явления природы я буду объяснять так, как если бы они происходили из свойств природы, на Бога я ссылаться не могу. Ибо это значило бы отбросить всякое философствование. То же самое и с бессмертием души, ибо здесь я могу сказать: давайте подождем, пока мы придем туда, где сможем производить опыты. – Посредством спекуляции мы ничего не можем совершить и решить. Должно, следовательно, быть практическое намерение. Что я буду делать, если есть Бог и иной мир? Здесь становится ясно, что это нас очень интересует. Теперь я должен вести себя совершенно иначе, чем если бы я видел, что существует лишь мир чувств. – Тогда я пользуюсь вещами так, как это соответствует моему намерению, как я могу способствовать своему удовольствию, утолять свои желания. (Все люди хотят быть счастливыми – разум предписывает законы и условия, при которых только и можно быть достойным счастья. – Мораль, которая содержит эти условия, учит нас не пути к счастью, но лишь условиям, при которых мы его достойны, и это есть практический интерес разума к принципам жизненного поведения. – Однако религия связана и со спекулятивным интересом – я спрашиваю, могу ли я также надеяться стать причастным счастью, если я его не недостоин? Здесь мы должны предположить мудрого правителя мира. – Если бы нам не было важно, чтобы моральные правила имели на нас влияние и движущую силу, мы могли бы быть избавлены от всякой спекуляции на этот счет. Как только мы не имеем практического интереса, т.е. как только мы не заботимся о достоинстве быть счастливыми, все это отпадает.)
Если у меня есть основание предполагать, что есть иной мир и миротворец, то открывается совершенно иной интерес. Что же мне тогда делать? В практическом отношении, следовательно, эти два положения имеют величайшую важность и важнее всех других целей. – Они касаются наших конечных целей. Если есть еще иной мир, миротворец, от которого зависит моя участь в том мире, что мне делать, чтобы стать причастным прочному счастью?
Предположим теперь, что вся спекуляция не может дать нам достаточного и удовлетворительного наставления по этим двум вопросам, какую же пользу тогда принесет метафизика? Мы должны посмотреть, не было ли бы другого пути, чтобы прийти к этому. Давайте подумаем, что я должен делать, если есть Бог и иной мир, и мы увидим, что мораль учит, что я должен делать, если не хочу быть презренным в собственных глазах и желаю стать причастным счастью. (Мы не находим, что счастье всегда распределяется в правильной пропорции. Порок торжествует, а добродетельный не должен показывать печали. Если, таким образом, наша нынешняя жизнь завершает наше существование, мы не можем сказать, что мы будем счастливы в той мере, в какой мы достойны. – Мы должны, следовательно, предполагать еще иной мир. – Из этих двух потребностей, Бог (ибо от слепой необходимости мы не можем ожидать, что она сделает нас счастливыми, поскольку мы того достойны, но для этого мы должны предположить мудрого правителя мира) и иной мир, возникает метафизика; на нее в имманентном мире всё ссылается, и среди всех вопросов, какие только может ставить спекулятивная философия, нет столь настоятельных и интересных, чтобы они могли побудить нас запутываться в такие трудные спекуляции. Эти два объекта выходят за поле опыта (Бог и иной мир, то есть как раз то, что лежит вне сферы всего, что мне теперь возможно в опыте); эмпирические принципы, следовательно, не могут мне теперь помочь, но лишь чистый разум должен здесь решать. Теология и психология суть, таким образом, собственные части метафизики. В последней мы стремимся познать из природы души столько, чтобы она могла продолжать жить, когда прекращается животная жизнь, и именно духовную жизнь.)
(Чистая философия имеет еще и другую пользу: она проясняет рассудок, мы здесь раскладываем наши понятия. Польза эта логическая, но слишком мала для тех усилий, которые мы должны на нее затратить. Ее главная польза – освободить нас от заблуждений относительно этих объектов. Она служит не тому, чтобы доставить их нам, ибо легко понять, что познания, которые суть столь великие потребности, не будут лежать так высоко, что для них необходима высочайшая спекуляция, но что и здравый человеческий рассудок сможет в них удостовериться, и так оно и есть на самом деле. Он находит столько следов мудрости в мире, из чего заключает, что должен быть мудрый миротворец; если он связывает с этим заповедь, которую дает ему разум или, вернее, этот мудрый миротворец, то он должен надеяться на иной мир, потому что находит, что добродетель и порок не получают должного воздаяния.)
Правда, конечно, что для порождения этих понятий не нужна спекулятивная способность разума – однако таких [людей] найдется множество, ибо спекуляции и этот спекулятивный разум могут настолько поколебать и сбить нас с пути веры, могут также привносить заблуждения (что может и обыденный разум), что мы по необходимости должны иметь против них соразмерное оружие, и это – метафизика. Всякий легко усматривает, что было бы несправедливо требовать блаженства, не делая себя того достойным. Этому учит мораль. Она, таким образом, не основывается на метафизике, поскольку я могу положить в основу мораль, которая не предполагает метафизику; так я имею закон поведения, чтобы стать достойным блаженства, – этому она учит аподиктически. Однако в последнем, как мы видим, всё еще чего-то недостает. Могу ли я, стало быть, также надеяться стать причастным блаженству, если я его достоин? Если мой образ мыслей и поведение сообразны морали и лежат в ее основе, то необходимо с моральным основоположением – не совершать никаких поступков, кроме тех, что сообразны закону обязанностей, – соединить веру в благого Мироправителя, который желает сделать нас причастными блаженству, и в иной мир, в котором мы можем его обрести. Может ли теперь метафизика усилить эту веру? Нет, но эта вера не только поддерживается созерцанием всей природы, но и защищается ею от всех возражений спекулятивного разума, она полагает ему границы. – Метафизика, таким образом, не есть фундамент религии – иначе как обстояло бы дело с неметафизическими умами? – но является защитным валом против атак спекулятивного разума. Ибо последний весьма опасен, и его нападения неизбежны. Ее польза, следовательно, негативна: предотвращать заблуждения, но она неизмерима, поскольку эти заблуждения столь пагубны.
Но сперва мы должны познать совершенство нашей собственной воли и затем взять божественную за образец. Мораль есть канон. Канон – это всякое законодательство, поскольку оно повелевает абсолютно; оно не должно предполагать никакого условия. Даже conditiones [условия] Бога и иного мира. Из природы поступка должно быть познано, что должно делать и чего избегать. Мораль учит, что я должен делать. Но она не дает в руки побудительных причин (Triebfedern) делать то, что разум предписывает как долг. Совокупность побудительных причин к действиям есть блаженство, и ни один смертный не может обойтись без него – а его-то морали и недостает; я не могу надеяться или не могу уразуметь, могу ли я надеяться стать причастным блаженству. Этому мораль не учит, но лишь тому, как стать достойным блаженства. Это можно усмотреть a priori, без познания положений о Боге и ином мире. – Законы не полны, если они не несут с собой угрозы и обетования помимо [самого] исполнения. – Моральные законы не содержат угрозы или обетования, что мы станем причастны блаженству или лишимся его. В этом мире это также невозможно; ибо здесь благоденствие и добропорядочность не связаны между собой. – Однако за моралью остается вера, что, возможно, существует мудрый Мироправитель и иной мир. Если бы этого не было, то моральные законы не имели бы никакого успеха. Теперь мы можем представить себе практическую дилемму, т.е. положение, которое показывает, что если не допустить нечто, то, куда ни обратись, окажешься в сплошных нелепостях.Познание того, что я неукоснительно должен делать согласно основоположениям разума, касающимся всей моей цели, называется моралью. Она уже дана нам и не нуждается в метафизических принципах и не должна предполагать Бога и иной мир. Однако моральные побудительные причины усиливаются тем, что я вижу: есть Бог и есть иной мир. Моральные законы должны предшествовать теологическим, ибо они представляют нам совершеннейшую волю Бога. Практическая дилемма такова: если я нечто не предположу, я всегда впадаю в практический абсурд (absurdum practicum). Это двояко: 1. Основоположение, согласно которому я отказываюсь от всех притязаний на честь, правдивость и совесть. 2. Основоположение, согласно которому я отказываюсь от всех притязаний на блаженство. – Если мы принимаем моральные основоположения, не предполагая Бога и иного мира, мы запутываемся в практической дилемме. А именно: если нет Бога и иного мира, то я должен либо неуклонно следовать правилам добродетели, но тогда я добродетельный фантазер, ибо не ожидаю последствий, достойных моего поведения, – либо я отброшу закон добродетели, презрю его, попру всю мораль, поскольку она не может доставить мне блаженства, я предамся своим порокам, буду наслаждаться удовольствиями жизни, пока они есть, и тогда я усвою основоположение, благодаря которому становлюсь злодеем. Мы должны, таким образом, решиться быть либо глупцами, либо злодеями. – Эта дилемма указывает на то, что нравственный закон, вписанный в наш разум, неразрывно связан с верой в Бога и иной мир. – У древних не учили столь чистой добродетели, как у нас, но они могли и осуществлять ее, не веря в Бога и иной мир. Они осуществляли лишь гражданскую добродетель, которая доставляла им уважение, блаженство и жизненные преимущества, что есть лишь благоразумие. Здесь же вопрос в том, может ли кто-либо придерживаться чистейшей добродетели, приносящей в жертву многие жизненные удовольствия, без веры в Бога и иной мир. Это совершенно невозможно. В его собственных глазах он всегда был бы достоин почтения, но при всем том – фантазером. С познанием нашего долга, который предписывает разум, и с максимой жить сообразно ему неразрывно связана вера в Бога и иной мир. Одна лишь красота поступка не может нас к этому побудить; она – великий побудительный мотив, но мы все же приносим ее в жертву пользе. Если поэтому посредством метафизики, согласно логическим условиям, мы не должны достигать знания, то остается лишь моральная вера, которая не только не оспаривается созерцанием всей природы, но, напротив, укрепляется им. Если мы и не удовлетворяем разум в спекулятивном применении, то удовлетворяем в практическом, и эта моральная вера столь же неколебима, как величайшая спекулятивная достоверность, даже прочнее, ибо то, что основано на принципах решения, далеко превосходит принципы спекуляции – и теперь мы получаем свободу беспристрастно и с величайшей строгостью исследовать все доказательства бытия Бога и бессмертия души, лишать их видимости, когда они pretendieren [притязают] на большее, чем realmente [действительно] делают и могут делать, отбрасывать всякую софистику, и даже если не останется ни единого [доказательства], эти великие истины nonetheless [тем не менее] ничего не потеряют, ибо если мы в спекулятивном отношении недостаточно убеждены, то убеждены в практическом. Здесь мы обладаем подлинной свободой философствовать без всякого принуждения и пристрастия. В большей части нашего философствования мы не должны находить ничего иного, кроме того, что уже найдено другими, одобрять то, что другие считали истинным, но не вносить ни малейшего изменения. Этими вещами мы теперь и займемся пространнее.









