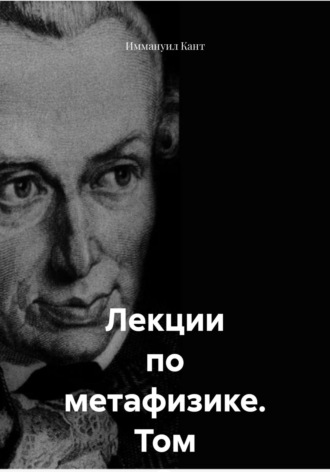
Полная версия
Лекции по метафизике. Том 2
Наша человеческая природа такова, что, когда мы подвергаемся воздействию со стороны внешних вещей, мы представляем их себе в пространстве; эту форму созерцания можно рассматривать единственно a priori, потому что она лежит в основе всякого представления и, следовательно, предшествует им. Равным образом и время может быть обсуждено a priori, то есть форма, через которую мы познаем наше внутреннее состояние. – Все это возможно, потому что наше созерцание чувственно. – Оно основывается на рецептивности, восприимчивости подвергаться воздействию со стороны вещей.
Мы можем помыслить существо, которое созерцает через спонтанность, из собственной силы, через себя само, без того чтобы подвергаться воздействию со стороны объектов, – так представляют себе Бога; каким образом это возможно, мы не можем усмотреть, разве лишь тем, что познавательная сила производит вещи, ибо Он воздействует на них, а не они на Него; но об этом у нас также нет понятий: наше созерцание есть рецептивность.
Под созерцанием мы понимаем чувственное созерцание через все органы, не только через зрение. При всяком способе, каким мы подвергаемся воздействию, имеются две составляющие: материя (то есть чувственное впечатление) и форма (то есть способ, каким впечатления объединяются в моей душе). Иначе я имел бы миллионы впечатлений, но не имел бы созерцания целого объекта. Созерцание основывается на природе так же, как и ощущение; последнее, вероятно, у каждого различно, хотя мы и имеем для него одинаковые слова.
Все объекты нашего созерцания суть явления. Мы никогда не видим вещи, как они есть, но лишь как они являются нашим чувствам. – Если бы существо обладало интеллектуальным созерцанием, как мы мыслим о Боге, оно созерцало бы существа, как они есть, а не как они являются. Наши созерцательные представления суть лишь представления о явлениях вещей. Следовательно, мы познаем только явления вещей.
Итак, для нашего опыта требуется, во-первых, созерцание, во-вторых, мышление, которое не принадлежит к чувствам. Созерцать – не значит иметь опыт. Опыт есть познание, которое мы имеем об объекте созерцания. Для этого, следовательно, требуется мышление, которое может рассматриваться отдельно.
Мышление составляет часть опыта, поскольку в нем участвует рассудок. Созерцание есть часть опыта, поскольку в нем участвует чувственность. Все эмпирическое мы можем отбросить – тогда остается чистое созерцание, то есть пространство и время. Если мы отбросим и это, то остается чистое мышление. – Когда мы мыслим объекты вообще и условия, при которых они существуют, мы называем это чистыми рассудочными понятиями, или категориями. Они идут от Аристотеля; но поскольку у него не было принципа, чтобы перечислить их с достоверностью, и он не мог дедуцировать, откуда мы их имеем, они в конце концов пришли в упадок, ибо здесь не было никакой достоверности. Он называл их также предикаментами.
Мы заранее хотим набросать систему категорий, которая исчерпывает все понятия, какими рассудок пользуется при опыте. (Исследование того, как возможны синтетические познания a priori, называется критикой разума.) Всякая система познания, которой не предшествует критика, называется догматической. Так, мы можем помыслить догматическую метафизику. И таковой была до сих пор вся метафизика. – Всякое догматическое procedure без критики – которое можно было бы назвать и антикритическим procedure – есть, однако, авантюра разума.
Этот вопрос распадается на два: 1) как возможны спекулятивные понятия, 2) как возможны суждения a priori? Понятие основания есть синтетическое понятие, ибо я мыслю под ним нечто, за чем по правилу следует нечто другое. Прежде чем мы сможем ответить на этот вопрос (а именно: как наш разум может связывать многообразное без правила тождества), мы должны представить таблицу априорных понятий, которые повсюду лежат в основе. Сначала суждений; с этим связана вся классификация понятий:
1. Количество
2. Качество
3. Отношение
o Всеобщность – утвердительные – категорические
o Особенность – отрицательные – гипотетические
o Единичность – бесконечные – разделительные
4. Модальность – проблематические – ассерторические – аподиктические
Итак, существует столько категорий, сколько есть моментов рассудка в суждениях. Благодаря этой таблице мы имеем то преимущество, что усматриваем их происхождение. – Логика занимается связями понятий, метафизика – их происхождением. Мы отсюда видим, что рассудок осуществляет то же самое действие, когда создает понятия, как и когда он их связывает.
Все действия рассудка сводятся к суждениям. Сколько моментов в каждом суждении, столько должно быть моментов в отношении мышления объектов вообще, то есть сколько есть моментов суждений, столько мы должны иметь категорий.
1. Количество: Единство – Множество – Всеобщность
2. Качество: Реальность – Отрицание – Ограничение
3. Отношение: Субстанция с акциденцией – Причина со следствием – Взаимодействие (или общение)
4. Модальность: Возможность – Существование – Необходимость
Эти категории можно назвать предикаментами. Под этими основными понятиями находятся производные, которые называются предикабилиями: под Всеобщностью лежит Целое, Совершенство; под Множеством – число, бесконечность; под Отношением – порядок и т.д.; и так мы получаем полную систему чистого мышления безотносительно к созерцанию, которое должно быть помыслено. – Пространство, время и ощущение принадлежат к чувственности, следовательно, не к категориям.
Поэтому мы разделяем трансцендентальную философию на две части: на трансцендентальную эстетику, то есть scientia sensuum, науку о чувственности и ее априорных представлениях. – Наука о чувственных познаниях a priori занимается, таким образом, ничем иным, кроме как пространством и временем, ибо других чувственных познаний не существует. – Она, следовательно, есть совершенно обособленная часть; и на трансцендентальную логику, которая содержит чистое мышление a priori, или чистую форму рассудка.
Эта трансцендентальная логика отличается от общей тем, что последняя имеет дело с познанием, не заботясь о том, являются ли объекты a priori или a posteriori, тогда как первая рассматривает познания рассудка, поскольку они не могут быть a posteriori, или возможность чистого рассудочного познания a priori; сюда относятся категории. У Аристотеля их было (многие есть и у нас): 1. Субстанция и акциденция, 2. Качество, 3. Количество, 4. Отношение, 5. Действие и страдание, 6. Когда (относится ко времени), 7. Где, 8. Положение (оба относятся к пространству), 9. Обладание (это – умение к чему-либо, способность вещи быть восприимчивой к форме. Пригодность).
При попытках он обнаружил, что ему еще чего-то не хватает, и потому принял еще 4 постпредикамента: противоположность, прежде и после, одновременно, движение (оно совершенно эмпирично), иметь (это также не может быть категорией).
Благодаря этой таблице мы имеем то преимущество, что нам не приходится наугад собирать понятия, но здесь мы можем перечислить элементы нашего чистого рассудка так, что не остается никакого пробела. (Мы имеем также надлежащий порядок и начнем охотнее с Количества, поскольку они самые ясные, чем с Модальности, как у автора, которые уже гораздо труднее; однако мы должны здесь следовать ему). Предикабилии также суть чистые рассудочные понятия, но выведенные из категорий; понятие целого есть предикабилия, которое стоит под категорией Всеобщности, и так мы можем иметь многие предикаты под этой категорией.
Если теперь говорят о категориях, предикаментах и предикабилиях, то кажется, что разогревают старую схоластическую философию. – Но на деле от Аристотеля остались лишь названия; его намерение – перечислить чистые разумные понятия и свести их в реестр – было очень хорошим и достойным философа, но не увенчалось успехом. – В каждой системе при малейшем недостатке сразу обнаруживается пробел, потому что в ее основе лежит идея целого. У песчаной горы мы этого не видим, если не хватает нескольких песчинок, но у пирамиды – сразу. То же самое происходит, когда мы набрасываем систему категорий. – Тогда мы можем знать, какие понятия составляют весь объем чистого разума.
Что такое категории? Они суть чистые разумные понятия, то есть такие, которые полностью a priori. Но и эмпирическое понятие имеет свое место в рассудке так же, как и категория, например: понятие тела, где, однако, еще много эмпирического, то есть того, что содержит в себе не что иное, как ощущение, – а также чистое созерцание, как пространство, которое, как сказано, можно представлять себе a priori. Если мы все это отбросим, то останутся субстанция, сила и т.д. Чистое разумное понятие заключено в опыте, где я должен отбросить все остальное, что принадлежит к чувственности. Это, во-первых, ощущение, во-вторых, созерцание, через которое объект является. Здесь, таким образом, не остается ничего, кроме чистого мышления о явлении; это и есть категории. Они, следовательно, суть чистое мышление о предметах, поскольку они даны через созерцание.
Наш опыт состоит в созерцании и мышлении. Эмпирическое созерцание есть способ, каким мы подвергаемся воздействию со стороны вещей. Через него дается не что иное, как явление. Его можно рассматривать со стороны материи и формы. Пространство и время относятся к эстетике. К опыту относится также мышление; априорное понятие, благодаря которому одно лишь мышление возможно при опыте, есть категория. Здесь мы абстрагируемся от различия всех объектов опыта как в отношении ощущения, так и в отношении созерцания. Категории суть предварительные условия явлений, через которые возникают эмпирические понятия, хотя они сами не являются эмпирическими понятиями.
Наша обычная речь уже содержит в себе все то, что трансцендентальная философия с трудом извлекает. – Эти категории уже все содержатся в нас, ибо без них никакой опыт был бы невозможен, например: «Выпал снег». Здесь заключено, что снег есть (субстанция); «выпал» означает акциденцию; «на землю» означает воздействие, то есть действие, следовательно, относится к причине. «Сегодня» относится ко времени, «выпал» – к пространству. Если мы отбросим все ощущения, а также пространство и время, то останется субстанция, которая действует определенным образом; они должны, следовательно, соединяться, чтобы возникло эмпирическое понятие. Допустим, у нас не было бы таких чистых чистых рассудочных понятий – мы вовсе не могли бы ни мыслить, ни говорить.
Опыт есть упорядочивание явлений и понятий; понятия суть категории; они, следовательно, суть условия возможности опыта, поскольку мышление принадлежит к нему – так же как пространство и время суть условия возможности опыта, поскольку созерцание принадлежит к нему. Категории суть чистые рассудочные понятия, без которых не было бы никаких эмпирических понятий, а следовательно, и никакого опыта. Через них созерцания приводятся к эмпирическому понятию – и тогда к ним еще должны добавиться впечатления чувственности.
Трансцендентальная эстетика содержит элементы нашего познания, которые лежат в чувственности. Трансцендентальная логика содержит элементы нашего познания, которые лежат в рассудке. Она подразделяется на трансцендентальную аналитику и трансцендентальную диалектику, как и общая логика.
Первая содержит все чистые рассудочные познания, поскольку они имеют силу лишь для объектов опыта, – и называется логикой истинности чистых рассудочных понятий; она имеет дело с чистыми разумными познаниями, которые простираются лишь на объекты какой бы то ни было возможной опытности. Трансцендентальная диалектика содержит чистые разумные понятия, поскольку они должны простираться дальше, чем на объекты всякого возможного опыта, то есть за границы опыта, и это есть логика видимости; ибо за пределы опыта они выйти не могут, поскольку не имеют никакого другого значения, кроме как того, что через них из данных явлений возникают опытности. Они имеют истинность, поскольку относятся к объектам возможного опыта, ибо они суть не что иное, как мышление, которое должно прибавляться к явлению, чтобы возник опыт. – Они суть не что иное, как понятия, через которые экспонируются данные явления, то есть создается понятие, которое есть эмпирическое понятие.
Поскольку часть трансцендентальной философии содержит не что иное, как принципы возможного опыта, она есть логика истины. Априорное положение, которое предшествует всякому опыту, достоверно, ибо что достовернее опыта? И только ради него оно достоверно.
Здесь с рассудком происходит нечто совершенно особенное: с помощью понятий, которыми он пользуется, чтобы сделать опыт возможным, он пытается превзойти опыт. Что из этого возникает? Они должны потерять всякое значение, поскольку за границами опыта категории не имеют объекта; поэтому всякое познание через категории, если оно выходит за пределы опыта, есть видимость, и диалектика есть логика видимости. Мы, как легко понять, будем показывать не то, как сфабриковать видимость, но то, как можно обнаружить видимость – и диалектика есть величайшая цель трансцендентальной философии. Но сначала должна пройти аналитика. Мы будем анализировать понятия и procedere здесь догматически. Когда мы подойдем к синтетическим положениям, мы покажем, что то, что должно было бы доказываться лишь из чистых понятий, может доказываться лишь в отношении к возможному опыту.
Диалектику и все, что к ней относится, мы здесь опустим и отложим до того места, где ее можно хорошо вставить, и здесь мы будем упражняться в критике.
Мы хотим теперь возвратиться к нашему автору. Но мы никак не можем procedere согласно системе, не положив в ее основание фундамент. Наш автор, как и все другие, имел намерение набросать систему, но ему совершенно не хватало свободы, или принципа, чтобы упорядочить многообразное. В целом не хватало идеи метафизики: она была не системой, но агрегатом. Поэтому автор также не может дать отчет, все ли это чистые понятия.
Итак, если мы не имеем системы, мы будем анализировать все понятия, которые он предлагает, даже если они не имеют порядка категорий. При этом мы будем ссылаться на категории и отмечать, к какой из них принадлежит то или иное понятие.
В «Критике чистого разума», изданной господином профессором Кантом, расчленен объем чистого разума, установлена идея, из которой все рассудочные понятия могут быть разделены. Сами понятия анализированы не все, ибо в этом не было необходимости, поскольку нам нужно было лишь установить объем и границы чистого разума, так что части могли быть опущены. Они расчленены постольку, поскольку это было необходимо, чтобы охватить их в системе чистого разума. Теперь мы должны предпринять эту работу расчленения, хотя и не в порядке категорий. Но мы будем на них ссылаться.
То, что мы имеем перед собой, есть аналитика; здесь нам сразу не хватает кое-чего существенного, а именно принципа всех синтетических положений a priori. Можно сказать, вся суть метафизики сводится к тому, чтобы показать возможность и критерий истинности всех синтетических положений a priori. Принципом всех синтетических суждений a posteriori является опыт; но принципа синтетических суждений a priori у нас еще нет. Все понятия, которые мы имеем, содержат в себе синтез, и если мы усмотрим, как он возможен, мы скоро будем иметь и критерий истины.
Нашего автора, который излагает синтетические положения a priori, мы хотим критиковать, но собственно не его, ибо это принесло бы мало пользы, а весь человеческий разум, например, положение о достаточном основании. Мы покажем, что невозможно доказать такие положения a priori через чистые понятия, и укажем каждому из них место в системе согласно категориям.
Мы возьмем сначала понятие. Автор здесь ориентировался на Вольфа, ибо тот хорошо видел, что principium contradictionis недостаточно, и потому взял еще principium rationis sufficientis. Поэтому автор здесь сразу говорит об основании. Мы возьмем сначала понятие, глава 2.
О причине и следствии.Основание (Ratio) [или] отношение (respectus) есть нечто многообразное, поскольку через одно из них другое полагается или упраздняется. Таким образом, всякое отношение есть либо отношение связи (relatio nexus), либо отношение противоположности (oppositionis). Например, граждане республики находятся в отношении связи, поскольку через одного у другого полагается польза; или в отношении противоположности, поскольку интерес одного противоречит интересу другого.
(Отношение основания и следствия и наоборот есть связь (nexus). – Если бы одна вещь не была основанием другой, а та – её следствием, то вещи были бы совершенно разделены. Вещь относится как основание к своему следствию, то есть связь a posteriori, и наоборот – это связь a priori. – Нечто, что не находилось бы в такой связи, а следовательно, не было бы основанием и следствием, было бы изолированно (это итальянское слово и означает «изола», остров); ибо мы бы вовсе не знали, как пришли к нему, и не имели бы никакого признака, принадлежит ли оно к нашему познанию; следовательно, все наши познания находятся в связи.)
(Связь (nexus), равно как и противоположность (oppositio), бывают либо аналитическими, если соединение происходит по закону тождества, либо синтетическими, если оно происходит не по этому закону. – Противоположность аналитична, [если она] по закону противоречия; синтетична, если она не по закону противоречия – это можно назвать реальной связью и противоположностью (nexus et oppositio realis). Аналитическая [связь] – логическая связь (logischer nexus). Соединение и противоречие основываются на основаниях, [которые] суть логические или реальные. – Они могут быть rationis ponendi [основанием полагания], когда нечто полагается по правилам тождества или не по правилам тождества, и tollendi [основанием устранения], когда нечто упраздняется по принципу тождества или не по нему. Например, протяжённость есть основание делимости; последняя полагается через первую по правилам тождества – это логическая связь. Но [в случае]: всякое тело имеет притягательную силу, – последняя полагается через первое (тело), но не по правилам тождества, и связь здесь реальна, тогда как в предыдущем случае – логична. Реальную связь можно познать лишь a posteriori как возможность. Противоречие (Widerstreit) логично, если оно происходит согласно принципу противоречия; реально – даже без него. Логические противоположности (logica opposita), взятые вместе, дают негативное ничто (nihil negativum), то есть невозможное; реально противоположные (realiter opposita), взятые вместе, дают лишённое ничто (nihil privativum), то есть недостаток, и это, конечно, можно помыслить. Если в одном субъекте имеются два противоположных основания, то результат есть нуль; следовательно, если два основания логически противоположны, то результат есть невозможное. Логически противоположно то, с полаганием чего упраздняется другое; реально противоположно то, с полаганием чего упраздняется реальное основание (ratio realem), а не другое.)
Мы можем рассматривать противоположность как соединение с противоположным, например, нечто противоположно движению, следовательно, оно соединено с покоем тел.
Под связанным (connexum) мы будем понимать всякое отношение, как связь (nexus), так и противоположность (oppositum), и скажем: connexa sunt, quorum uno posito ponitur aliud [связанное есть то, с полаганием одного чего полагается другое], например, когда движутся лошади, движется и повозка. При ином соединении имеет место отношение между двумя, а именно: unum, quod ponitur, et aliud, quod uno posito ponitur [одно, что полагается, и другое, что полагается с полаганием одного]. А полагается, В – другое, что полагается с полаганием А; следовательно, в каждой связи имеются два коррелята; unum quo posito ponitur aliud [то одно, с полаганием которого полагается другое] мы называем основанием, aliud [другое] – следствием. А есть основание (ratio), В – обоснованное (rationatum).
В отношении основания и следствия мы различаем основание – а именно то, посредством чего я нечто полагаю, – и следствие, которое есть то, что полагается. Через определение я не могу отличить основание от следствия. Ибо я могу точно так же сказать: posito B, ponitur A (а именно в гипотетических суждениях, где мы говорим: posito antecedens, ponitur consequens [с полаганием основания полагается следствие], но не наоборот, а скорее: posito consequens ponitur quoddam antecedens [с полаганием следствия полагается некоторое основание]).
Теперь мы должны возвратиться к логике, которая содержит формы нашего рассудка без различия объектов. В ней мы видим, что из основания мы можем заключать к следствию, но не наоборот – от следствия к определённому основанию. Связь следствия с основанием достоверна, но не с указанным основанием. Теперь наше определение сразу же приводится в порядок: Ratio est id, quo posito aliud determinate ponitur, rationatum quod non ponitur nisi posito alia [Основание есть то, с полаганием которого другое полагается определённо; обоснованное есть то, что не полагается, если не полагается другое]. – Можно также сказать: rationatum est quo posito ponitur aliud [обоснованное есть то, с полаганием которого полагается другое] – sed indeterminate [но неопределённо]; ибо если есть следствие, то всегда должно быть налицо и основание, и если нечто есть основание, то всегда должно быть налицо и следствие, только в первом случае это неопределённо, а во втором – определённо.
О многом можно видеть, что оно есть следствие, но основания мы можем не знать. Теперь у нас есть критерий основания, а именно: quo posito determinate, ponitur aliud [с полаганием которого определённо полагается другое]. «Определённо» означает «согласно общему правилу». Всякое основание даёт правило, поэтому связь основания и следствия необходима. (Логическое основание есть познание, из которого следует другое согласно правилу. Например, необходимость есть основание неизменности. Одно не есть причина существования другого. Реальное основание есть вещь, из которой следует другая.)
Если нечто полагается, то через него другое полагается согласно общему правилу. Выражение «следствие» неопределённо, его часто используют применительно ко времени, поэтому мы часто будем пользоваться выражением «обоснованное» (rationatum). Так оно означает связь с предыдущим. (Основание содержит то, что следует из него согласно общему правилу.) Например: у него постоянно была лихорадка, но так как он употребил хинную корку, она исчезла; следовательно, хина есть основание исчезновения лихорадки. Критерий основания не в том, что из него нечто следует, а в том, что нечто следует согласно общим правилам.
К категории отношения. – Но не предполагать ли понятию причины понятие основания, которое было бы предикаментом того, и не внесли ли мы его в таблицу категорий? Responsio: Оба понятия – основания и следствия – суть логические, но не трансцендентальные. Причина и действие суть вещи.К какой [категории] относится это понятие? Причина есть то, из чего следует существование другого. В логике речь идет не о существовании – не о том, как одна вещь является основанием другой вещи, а о том, как одно понятие является основанием других понятий.
Здесь мы говорили о таком отношении понятий, при котором от одного можно с определенностью заключать к другому; но то, что существуют такие вещи, от которых я могу заключать к другим, относится уже к метафизике. Теперь мы хотим рассмотреть возможность реального основания: что если нечто полагается, то другое тем самым определяется к положению – не логического [основания], где я могу от одного заключать к другому. – Если вещь, на которую следует заключать, реально отлична от другой, то никакой человеческий разум не может усмотреть возможность того, чтобы одна вещь могла быть основанием другой вещи; опыт учит нас этому, но разум не может сделать это для нас постижимым. (Все основания суть либо rationes cognoscendi [основания познания], когда одно познание является основанием другого, например, «составное» есть основание познания «делимого» – или если видят следы человека, то говорят: здесь были люди, следовательно, то [след] есть основание познания, а не ratio fiendi [основание становления], иначе следы должны были бы быть основанием существования человека; Ratio essendi [основание бытия] есть основание того, что присуще вещи, рассматриваемой по ее возможности, например, три стороны треугольника суть основание трех углов. Здесь я говорю лишь о возможном, рассматриваемом в действительности, например, чернила и перо есть ratio fiendi письма, а ratio fiendi и есть причина). Но они должны быть реально, а не скрыто различны, иначе они все же тождественны; например, если я полагаю А, и тем не менее полагается В, это совершенно непостижимо.
Однако я ведь могу так заключать, иначе логика была бы неправа. Но я не могу этого делать с реально различными вещами. Вещи логически различны, если они в действительности тождественны, но [различны] скрыто, и связь основания и следствия аналитична по правилу тождества: (то, что существует как обусловленное (rationatum), является зависимым). Например, поскольку нечто есть тело, оно делимо. Умозаключение от основания к следствиям, которым оперирует общая логика и которое есть логическая связь, легко постижимо; но реальная связь, которая синтетична, – вовсе нет, там, где следствие реально отлично от основания, например, снег с солью причиняет холод. Здесь нет связи по правилу тождества. К основанию присоединяется следствие, которое вовсе не содержалось в понятии основания, и эту синтетическую связь не может усмотреть разум ни одного человека. Это есть замечательное свойство рассудка: он заключает от основания к следствию, а возможность этого не может усмотреть – и затем встречается еще нечто большее. —









