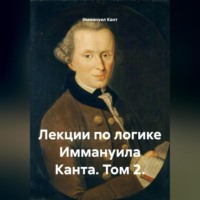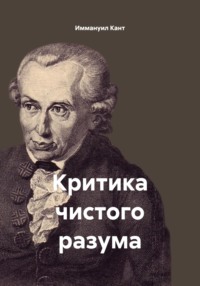Полная версия
Лекции по метафизике. Том 2
Хотя все это было столь трудным, людей все же побуждала важность объектов к дальнейшим исследованиям, даже если некоторые терпели неудачу.
До греков ни один народ не имел метафизики, равно как и философии. Если начать правильно считать, то мы найдем время, когда греческий язык был столь ограниченным и непригодным для выражения философских размышлений, что все должно было выражаться поэтически. Орфей, Гесиод и другие в своих поэзиях имели много проблесков философии. Тогда способ выражаться об идеях состоял в том, чтобы облекать их в образы, так что, как правило, философия излагалась поэтически, что отчасти делалось также для того, чтобы лучше запечатлеть религию в памяти. Однако поэзия для нас всегда есть игра чувственности. Говорят, что Ферекид [Ферекид Сиросский (VI век до н. э.) – древнегреческий космолог и мифограф, философ, писатель. Родился на острове Сирос, современник Анаксимандра и «семи мудрецов», к числу которых некоторыми авторами причислялся.] был первым философом, который выражался прозой. Но от него и от Гераклита, чьи сочинения были чрезвычайно темны (так что даже Сократ, который знал их – впоследствии они были утрачены – говорил: то, что он понял, превосходно, стало быть, он верит, что и то, что он не понял, таково же) (Гераклиту это было так трудно, что он сказал: «Нужен ныряльщик с Делоса»), у нас ничего нет. Это происходит оттого, что не хватало слов, а изобретенные были новы, большей частью потому неизвестны. Impossibile – не латинское слово. Цицерон говорит: fieri nequit, или использовали ἀδύνατος. Изобретать новые слова не так легко, как полагают, ибо они противны вкусу, и тем самым вкус становится препятствием для философии.
Пифагор еще более облек философию в язык чистого разума. Но ошибка – облекать идеи и понятия в образы, чтобы придать им должное значение, – еще долго сохранялась в греческой философии, отчего понятие многое теряет в своей чистоте. Аристотель продвинулся в этом дальше всех; для самых абстрактных идей он изобретал слова, для чего греческий язык был очень податлив. В этом ему подобен немецкий. Он имеет много метких выражений. Если одно слово не подходит, подходит другое, и одно всегда выражает больше, чем другое. У французского языка этого вовсе нет. Г-н профессор Кант приписывает это распространению религии в Германии: миссионеры не имели подходящих слов для выражения своих мыслей и понятий, поэтому они изобретали новые, очень родственные латинским, поскольку знали его. Например, einfältig (простой) означает собственно то, что имеет одну складку, по-латински simplex, что происходит от simplus и plica (складка); благодаря этому наш язык очень обогатился.
Во времена Пифагора и Элейской школы господствовала философская система, где различали объекты чувств и рассудка. Первые назывались sensibilia и phaenomena, вторые – intelligibilia и noumena. Элейская школа говорила: in sensibus nihil inesse veri (в чувствах нет истины). Они дают явления не такими, каковы вещи сами по себе, а какими они нас аффицируют.
Не следовало бы разделять вещи на intelligibilia и sensibilia, или noumena и phaenomena, а следует говорить: наше познание двояко (1. интеллектуальное и 2. сенситивное); это предотвратило бы возникновение мистического понятия об интеллектуальном, которое удалилось бы от логического, чем метафизика впала бы в мечтательность. Им не следовало делить философию в отношении объектов.
Здесь возникли две партии, двумя очень знаменитыми главами которых мы признаем, незадолго до или во времена Александра, а именно: Эпикура – философа чувственности, и Платона – философа идей. Последний говорил: в чувствах нет реальности, чувственные явления могли бы быть иными, если бы мы имели другие чувства, без того чтобы от этого объект изменился.
Примечание. Смешивали чувство и явление. Видимость (Schein) лежит в рассудке, но в чувствах нет ложной видимости. Они дают явления, а рассудок судит о них; теперь рассудок может судить ложно через соединение явления, что и производит видимость, в чем чувства собственно не виновны, а виновен рассудок, потому что он не исследует достаточно тщательно то, о чем судит, прежде чем судить. – Со стороны интеллектуалистов говорили: только в рассудке истина, а в чувствах, добавляли некоторые, – ложная видимость.
В древние времена существовал метод, ведущий свое происхождение еще от Элевсинских мистерий: некоторые учения излагать экзотерически, т.е. для всеобщего употребления и понимания, а другие – эзотерически, для confidante и доверенных под печатью молчания, так сказать, intra vela (за завесой). Например, [учили] о едином незримом божестве, о правильности их теогоний и мифологий. В определенное время, например, при возникновении таких учений, это может быть хорошо, однако впоследствии это может прекратиться, и должно прекратиться, ибо они не уполномочены осуществлять монополию на мудрость. Во времена Платона некоторые эзотерические учения [стали экзотерическими]; однако экзотерические всегда удерживались. В его время возник также вопрос: чем порождаются наши интеллектуальные познания? Чувственные познания не нуждаются в объяснении, они происходят из чувств. – Мы замечаем: либо наш рассудок имеет способность созерцания иного рода, нежели чувственная (эта доставляет лишь явления вещей, та – каковы они есть, ибо это были бы intellectualia per intuitus), либо он имеет способность понятий, создавать из созерцаний вещей посредством рефлексии понятия, это были бы intellectualia per conceptus. Intellectualia per intuitus суть объекты, которые рассудок может только созерцать, а per conceptus были бы понятия, которые создает себе рассудок. Первое есть mere фантазия; рассудок не может созерцать, это могут лишь чувства, следовательно, существуют только intellectualia per conceptus. Первые г-н профессор Кант называет мистическими, вторые – логическими intellectualia.
Соответственно этому разделились философы. Платон утверждал мистические intellectualia, Аристотель – логические.
Аристотель принимал ноумены не как объекты созерцания рассудка, а как интеллектуальные понятия.
Платон говорит: мы имеем понятия, которые не заимствованы от чувств, например, о первосущем и т.д., мы приобрели их через высшее созерцание, которое наш рассудок имел прежде, в котором было созерцание вещей, т.е. выходящее за пределы чувств, интуитивное. Мы имели, говорит он, созерцание Бога, из которого мы почерпнули все остальные идеи, от которых у нас теперь остались лишь слабые воспоминания, приходящие нам на ум при случае чувственных явлений. Теперь мы этого больше не имеем, потому что наша душа заключена в теле как в темнице. Все понятия о божестве суть лишь отпечатки созерцания, которое душа имела прежде, чем соединилась с телом.
Логические intellectualia возникают через рефлексию рассудка. Он рефлектирует о предметах чувств; если он отвлекается от объекта, то понятие есть логическое intellectuale: например, что вода течет под гору, если нет иного препятствия, мы видим из опыта. Рассудок познает это как необходимое. Если он теперь отвлекается от воды, то он имеет понятие о необходимом, которое есть логическое intellectuale. Аристотель считал все логическими intellectualia.
Из-за этого раздора возник философский спор: являются ли conceptus intellecti (понятия рассудка) connati (врожденными) или acquisiti (приобретенными). Согласно Платону, они были бы connati, ибо приобретены мы их, по крайней мере теперь, не были, а каждый приносит их с собой как обновленные идеи (Примечание: идеи Платона относятся к мистическому созерцанию и отличаются от conceptus Аристотеля). Мы замечаем: наш рассудок может мыслить, но не созерцать. Если принять последнее, то они все connati. Аристотель говорит: рассудочные понятия не connati, а acquisiti, мы приобрели их при случае опыта, когда рефлектировали о предметах чувств.
Теперь говорят так: наши понятия врождены, но не так, как говорит Платон, что это обновленные идеи, которые мы приобрели первоначально, а Бог вложил в каждого определенные основные понятия, чтобы впоследствии направлять рассудок. Сюда относится понятие причины и действия.
Можем ли мы принимать intellectualia логически или мистически, мы все же можем спросить: врождены ли они нам, так как мы не могли и не должны были прийти к ним через рефлексию, или же нам не врождено ничего, кроме способности рассудка.
В новое время Локк был последователем Аристотеля. Он сказал: Nihil est in intellectu, quod non antea fuit in sensu (Нет ничего в рассудке, чего прежде не было бы в чувствах). Локк утверждал: упражненный рассудок может даже усмотреть способ, как нечто может возникнуть из ничего, и все же он хотел выводить все познание из опыта. Он поступал очень непоследовательно.
Лейбниц был последователем Платона, верил в ideae innatae [врожденные идеи], однако мистическую составляющую он отбросил. Крузий также утверждал это, хотя и выражался не столь туманно. – Можно сказать, что школа Платона сохранила нечто от мистического intellectus [разумения]. Однако это воззрение есть фанатизм; в таком случае каждый может вообразить себе что угодно – например, что пребывает в общении с духами и т.д.
Если мы положим в основу логические интеллектуальные понятия, то возникает вопрос: как мы к ним приходим? Например, понятия о необходимом, случайном и т.д. – все это суть понятия рассудка. Здесь можно предположить два пути: либо они возникли из самого рассудка – и в этом следуют Платону, но не в его мистицизме, а поскольку он утверждал их происхождение; либо – и Аристотель сказал: nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu [нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах]. Однако здесь кроется недоразумение: наши понятия никогда не возникают иначе как при наличии объектов чувств, над которыми размышляет рассудок. В этом Аристотель прав. Ибо если нам ничего не дано, то нам не над чем размышлять. Платон же, напротив, говорит, что они не заимствованы из чувств, и в этом он также был прав, ибо разве могли бы наши чувства породить понятие о необходимом или возможном? В каком из них оно должно было бы содержаться – в обонянии, во вкусе и т.д.? Понятия рассудка суть не что иное, как акты рефлексии. Но поскольку я не могу размышлять, не имея никакого объекта, а чувства поставляют нам его, то рассудок не стал бы рефлексировать, если бы чувства не давали материала. Чистый рассудок порождает понятия, но они не имели бы применения, если бы не было материала. Таким образом, и Платон тоже был прав. Аристотель намеревался утверждать, что материя происходит из чувств, но не форма; если бы он выразился так, а Платон, в свою очередь, – что рефлексия формы есть то, чем рассудок обладает независимо от чувств, то спор бы не возник, и обе системы могли бы быть превосходно соединены. Одно здесь не может обойтись без другого. Все рассудочные понятия не значили бы ровно ничего, если бы чувства не поставляли объектов и примеров. Если бы я, к примеру, сколь угодно подробно объяснял, что есть субстанция, но не мог бы привести ни одного примера, всё было бы тщетно; и снова – без рассудка у нас не было бы понятий, и мы лишь взирали бы на всё с изумлением. Посредством рассудочных понятий мы мыслим форму, то есть то, как рассудок создает понятия из явлений; теперь я могу отвлечься от самих явлений, но без них понятие не имело бы никакого значения. Совершенно верно, однако, что рассудочные понятия не заимствованы из чувств, ибо они возникают из рефлексии, а чувства не рефлексируют. Можно впасть в ошибку, утверждая, будто все рассудочные понятия заимствованы из чувств, и в этом виновен Аристотель; он не выразил своего мнения с достаточной определенностью. А Платон, со своей стороны, заходит слишком далеко и говорит, что мы обладаем рассудочными представлениями независимо от чувств; рассудок познавал бы вещи без всяких чувств, и даже гораздо лучше, ибо чувства не только не помогают нам, но еще и мешают. Здесь он уже впадает в фанатизм: он говорит, что мы видим лишь тени вещей, а рассудок – вещи сами по себе. Если бы он сказал, что у нас есть понятия, которые мы не извлекаем из чувств, но которые имеют место в рассудке независимо от чувств, и при этом признал бы, что сами по себе они не дают объектов, если чувства их не поставляют… Аристотель же в своем знаменитом изречении Nihil est… и т.д. возносится к вещам, совершенно превосходящим чувства, например, к миру как целому, к Первосущности. Чему чувства не могут нас ничему научить.
Аристотель был прав, утверждая, что не существует conceptus innatos [врожденных понятий], но это не давало ему права провозглашать тезис: Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu. На этом зиждется вся метафизика, и Аристотель есть величайший среди известных нам древних метафизиков.
Мы покажем, что все понятия суть acquisiti [приобретенные], только не все – из чувств; многие мы имеем также благодаря чистому применению разума. Ученый поступает непоследовательно, если действует вопреки принятым им самим принципам. Тех, кто выводит все рассудочные понятия из опыта, господин профессор Кант называет эмпириками, и теперь мы говорим: почти все эмпирики – Аристотель, Локк и др. – поступают непоследовательно. Ибо если все понятия заимствованы из опыта, то они не могут принимать ничего, кроме того, что основано на опыте. Но Бог не дан ни в каком опыте. Следовательно, мы не можем говорить о Нём ничего. К числу тех, кто действовал весьма последовательно, принадлежит Эпикур. Казалось, Эпикур лицемерил относительно богов, дабы не навлечь на себя гнев жрецов. Платон – философ интеллекта, а Эпикур – чувственности. Хотя его положения были странны, его следует извинить, ибо, возможно, его не вполне правильно понимали. Он стремился своей философией ограничить доказательства вещей, но не сами вещи. Это всегда большая разница. Он говорил: никакое понятие не имеет значения, если в опыте ему не может быть дан соответствующий объект. От него не осталось письменных трудов, но мы знаем его мнения по поэту Лукрецию.
Не следует придавать поэту в философии слишком много веры. Он [Эпикур] говорил: мы можем размышлять лишь о предметах чувств. Он также создал себе богов, но совершенно чувственных, а именно – составленных из тончайших атомов мира.
Лейбниц был последователем Платона; он начал идти дальше, чем простираются чувства, но он не сказал, каким образом получается, что рассудочные понятия, которые мы имеем без чувств, обладают значимостью в отношении объектов чувств. У Платона и Аристотеля была метафизика. У Эпикура же – нет. У него всё было физикой, естествознанием. Он говорил, что не может быть никаких принципов, кроме тех, что подтверждаются опытом. Мог он быть прав в этом или нет, но он был анти-метафизиком среди древних.
Для различения философских исследований отметим следующее. Мы можем различать физиологию, критику чистого разума и систему науки. Физиология чистого разума есть исследование о происхождении понятий. Это исследование quaestio facti [вопроса о факте], как говорят юристы. Как он к этому пришел? Это исследование может быть очень изящным, но не принадлежит к метафизике; но поскольку мы такие понятия уже имеем, мы должны также спросить, с каким правом мы ими пользуемся. Этот вопрос имеет гораздо более важное влияние на метафизику, ибо это есть критика, то есть quaestio iuris [вопрос о праве]. Первый вопрос был занятием философии Локка и Лейбница; первый написал книгу «О человеческом разумении», а второй издал на французском языке книгу под тем же названием. Локк следует Аристотелю и утверждает, что [понятия] происходят из опыта через рефлексии. Лейбниц следует Платону, но не его мистицизму, и говорит, что рассудочные понятия существовали до познания всех чувственных объектов.
Физиология есть рассмотрение природы разума: как разум в нас порождает рассудочные понятия; она, собственно, есть часть психологии. О критике чистого разума до сих пор еще никто не помышлял. Авторы излагали систему без физиологии, как, например, Вольф; он также излагает систему, не указывая, как всё это возникло. Он исследует лишь содержание, но как далеко простирается применение познания чистого разума, с каким правом мы им пользуемся – это есть критика, то есть quaestio iuris. Таким образом, критика сильно отличается от физиологии и системы. Например, доказывается, что дух мыслит; относительно этих оснований можно провести различные исследования: 1) производят ли эти основания в нас убеждение (и такое исследование допускает также Вольф). 2) Как вообще возможно, чтобы разум мог знать свойства вещей, которые не даны ни в каком опыте? Это принадлежит к критике. Во многих случаях она кажется излишней, ибо представляется избыточным проверять, возможны ли те познания, которые мы уже имеем. Но когда мы увидим, каким иллюзиям подвержен разум, мы поймем её необходимость.
Итак, теперь перед нами занятие такого рода, какого еще никогда не предпринималось. Если мы посмотрим на результат всех познаний, приобретенных метафизикой, то увидим, что она не может далее существовать в таком виде. Составлено достаточно систем, которые даже там, где они согласны между собой, не выдерживают и натиска злобного скептицизма. Они не приносят никакой пользы, если исключить закон противоречия, который устроен так, что может выдержать и противостоять атакам противника, не являющегося систематиком. Мужи, пожелавшие не напрасно поработать над своим чистым разумом, либо оставляли его, либо продолжали свои труды до тех пор, пока не находили философский камень.
Какой же путь мы избираем? Первый? Это невозможно, ибо мы не можем отучить рассудок от его вопросов. Они так вплетены в природу разума, что мы не можем от них избавиться. Даже все презрители метафизики, желавшие снискать себе славу ясных голов, имели, включая самого Вольтера, свою собственную метафизику. Ибо каждый всё же будет что-то думать о своей душе. Следовательно, это решение [отказаться от метафизики] несостоятельно. Разум скорее согласился бы отказаться от всех прочих наук, чем от этой. Эти вопросы касаются его высшего интереса, и требовать, чтобы разум более не задавал их нам, значит требовать, чтобы он перестал быть разумом.
Таким образом, нам остается критика разума. Она критикует его чистое применение, из которого он черпает принципы независимо от опыта, [исследуя], как далеко оно может простираться, и критика может быть полностью удовлетворительной.
До сего дня мы не имели в метафизике ничего удовлетворительного, ибо все системы могут быть поколеблены. Преподаватель метафизики может вести дело так, что скрывает от своих учеников слабость доказательств и лишь кичится этой мнимой мудростью. Впоследствии, когда они прочтут и поразмыслят об этом больше, они увидят, как мало всё это выдерживает критику, из-за чего многие умы были испорчены.
Наш разум способен без критики делать мощные шаги; он убеждается в правильности своего применения благодаря основательным успехам. Например, в математике мы можем уверенно пользоваться разумом, не критикуя его предварительно; причина в том, что она может представлять свои понятия в наглядном созерцании, но дальше она идти не должна. Созерцание убеждает её в правильности её применения. В философии я не могу рисковать получать познания, имеющие лишь мнимую убедительность, ибо там могут иметь место многие иллюзии. В математике, как сказано, иллюзию предотвращает созерцание, в метафизике же – критика. Таким образом, мы понимаем её необходимость. Трудности, возникающие при создании критики, должны быть поэтому преодолены.
О пользе метафизикиИтак, мы спрашиваем, как и относительно всякой науки: какова ее цель? Цель всякой науки может быть либо спекулятивной, либо практической. Мы имеем намерение либо расширить наши познания, либо оно направлено на наш интерес. Если мы рассмотрим первый случай, то увидим, что объекты спекуляции двояки: либо они принадлежат опыту, либо выходят за пределы опыта. Для познания первых нам не требуется метафизика. Теперь мы спрашиваем: стоит ли вообще затевать метафизику ради этой цели?
Что касается физики, мы замечаем, что она не допускает иных принципов, кроме тех, что: 1) заимствованы из опыта; 2) являются математическими; 3) или же философскими, соответствующими здравому смыслу и опыту – короче говоря, ее принципы должны быть либо заимствованы из опыта, либо подтверждены опытом. Это имеет место и в математике: ее положения априорны, но находят свое подтверждение в опыте. То, что всякая вещь имеет свою причину, физика допускает, ибо опыт это подтверждает; но далее она эти основания не исследует. Физика не желает иметь метафизических принципов. Равным образом и метафизика не служит тому, чтобы дать более глубокое эмпирическое познание о душе. Мы можем открывать в ней различное, делать из этого выводы, но без всяких метафизических принципов – последние должны подтверждаться в опыте. Таким образом, метафизика не может внести ничего существенного в познание природы. Ибо для объяснения явлений души и тела лучше всего брать принципы из опыта, поскольку в противном случае они ненадежны.
Связь между друзьями достовернее, чем связь между гражданами государства. Основание связи дает ей степень. Порядок есть качество, однако он может быть в одинаковой мере как у немногого, так и у многого; он основывается на истинности правил связи многообразного. Трансцендентальное совершенство есть то же самое. Его основание состоит в том, что чем более многообразное согласуется в единстве, тем больше совершенство, unum ad quod varium consentitur est socius; чем более, следовательно, существует socii [сообщников], тем больше совершенство, если я беру его не метафизически, а лишь в отношении. Метафизическое совершенство есть степень реальности, и мы не можем ее оценить, поскольку не имеем понятия о высшей степени реальности.
Автор далее говорит о величине изменения. Также и тождественность может быть большой или малой! Existentia determinationum oppositorum [существование противоположных определений] есть изменение. Противоположности не могут существовать одновременно, но лишь последовательно. Это, следовательно, existentia successiva [последовательное существование]. Изменчиво есть то, в чем возможно determinatio oppositorum [определение противоположностей]; чем больше определение, тем больше изменение.
Этот трансцендентный способ применения чистого разума имеет ту трудность, что при нем ничто не может быть подтверждено опытом, – но то преимущество, что никто не может опровергнуть его опытом. В трансцендентном применении разума метафизика сосредоточивается, поскольку именно там находятся наиболее интересные объекты и в опыте не находится удовлетворения. Ради имманентного применения разума мы не стали бы трудиться доказывать и анализировать основоположения – и создавать науку – если бы это не казалось нам подготовкой к восхождению к идеям. У нас есть много познаний a priori, без которых мы не можем обойтись в опыте. Например, если что-то происходит, должна быть причина. Это положение a priori необходимо – и в опыте необходимо, поскольку иначе мы не имели бы связи в ряду опытных данных. Для принципов, необходимых в опыте, нам не нужна метафизика, хотя и полезно – и для культуры рассудка – отделять то, что принадлежит в опыте разуму и чувствам.
Сначала мы должны, следовательно, исследовать применение чистого разума в отношении опыта – ибо это есть простейшее применение, и это происходит в трансцендентальной аналитике (трансцендентальная философия есть та, что исследует возможности метафизики), где мы анализируем понятия a priori, необходимые для нужд опыта – но и это, впрочем, бесполезно; например: «всё, что происходит, и т.д.» – как положение, истинное лишь per inductionem [через индукцию], уже пригодно. – Но разум не находит своего удовлетворения в опыте, он спрашивает о «почему» и не всегда, хотя какое-то время, может найти «потому». Поэтому он отваживается шагнуть за пределы поля опыта и приходит к идеям, и здесь разум нельзя удовлетворить – кроме как через познание его собственной природы и через ответы, которые могут быть даны познанием его источников, объема и границ. Эта часть, куда мы относим понятия a priori, выходящие за пределы опыта, называется трансцендентальной диалектикой, и здесь метафизика необходима, ибо за границами опыта лежат наиболее интересные объекты, и метафизика будет черпать свою ценность из необходимого отношения нашего разума к объектам, находящимся сверх опыта.
Существует двоякое применение чистого рассудка: имманентное, а именно, когда познания a priori имеют свои объекты в опыте. Равным образом есть и основоположения a priori, которые относятся к объектам опыта, это есть чистый разум, но в имманентном применении – и если мы отделяем их от опыта, то это аналитика – и трансцендентное, а именно, когда познания a priori не имеют своих объектов в опыте. Метафизика, излагающая трансцендентное применение разума, занимается идеями, и это есть поле необходимости – в имманентном, правда, также есть некоторые [необходимости] – но не относительно правильности положений, определений и доказательств. Например, до сих пор ищут доказательство закона достаточного основания – но им пользуются – и никто в нем не сомневается – однако в трансцендентном нет ни одного положения, истинность которого не была бы оспорена. До сих пор ни один метафизик не подумал о том, чтобы различать это применение разума. – Ибо в космологии и также в онтологии есть положения, которые имеют свои объекты в опыте, и также те, которые не имеют – и это тщетно; ведь критика разума должна принимать совершенно иные основоположения в отношении имманентного и трансцендентного применения.