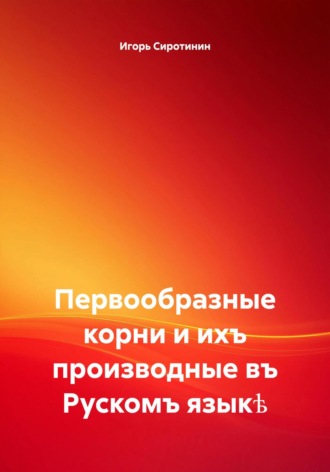
Полная версия
Первообразные корни и ихъ производные въ Рускомъ языкѣ
Китайское образованiе есть чисто школьное: на изученiе языка убиваютъ лучшую часть своей жизни и начинаютъ учиться этому знанiю съ пяти лѣтъ. Нѣкоторые изслѣдователи полагаютъ, что Китайская письменность насчитываетъ около 80 тысячъ знакослововъ (iероглифовъ, греч.). Говорятъ, что Китайскiе учёные-языковѣды могутъ овладѣть 30-ю тысячами знакослововъ; образованными людьми считаются знающiе три тысячи знаковъ Китайскаго представительнаго письма, а обычные люди пользуются примѣрно полутора тысячами знаковъ. О Китайской граматикѣ мѣтко высказался Рускiй языковѣдъ А. Драгункинъ, что Китайскiй языкъ нынѣ представляетъ собою «аналитическiй» языкъ, ибо весь его словарный составъ есть слоги, съ которыми «вообще ничего не происходитъ, – ихъ просто какъ кубики нужно складывать въ предложенiя – это и есть Китайская граматика».[42] Англiйскiй языкъ также стремительно сваливается къ состоянiю современнаго Китайскаго языка. Въ Англiйскомъ, по замѣчанiю А. Драгункина, «осталось всего 10 измѣненiй, которыя можно произвести со словомъ», тогда какъ въ древности Англiйскiй имѣлъ сложное строенiе, былъ богатъ гранесловными превращенiями, напримѣръ, имѣлъ три рода, три числа, падежныя окончанiя и проч.[43] Кромѣ того, въ Англiйскомъ замѣчается постепенная утрата первообразной буквы р въ произношенiи, хотя на письмѣ она ещё сохраняется. Вотъ нѣсколько примѣровъ: arm [a:m], рука, fork [fo:k], вилка, hard [ha:d], трудный, hurt [hз:t], ранить, park [pa:k], заповѣдникъ, turn [tз:n], поворотъ, work [wз:k], работа, world [wз: ld], мiръ, и проч.
Въ Рускомъ языкознанiи по преданiю «единицей языка» всегда считался корень, пусть даже усѣчённый, и въ этомъ отношенiи наше пониманiе значенiя корня какъ первоосновы слова сильно отличается отъ Европейскаго пониманiя «единицы языка». Учёные народовъ, говорящихъ на составныхъ языкахъ, особенно это касается западно-Европейскихъ языковѣдовъ, придумали огромное число понятiй, оправдывающихъ уклоненiя ихъ письма и рѣчи отъ основныхъ законовъ языка. Въ Европѣ уже давно идётъ споръ о томъ, что такое корень и основа и можно ли приписывать корнямъ самостоятельное существованiе.[44] Единицей языка у нихъ теперь принята «морфема» отъ Греческаго μορφή, форма. Въ изложенiи И.А. Бодуэна де Куртенэ «Морфема – далѣе не дѣлимый, дальше неразложимый морфологическiй элементъ языковаго мышленiя». Подъ «морфемой» нынѣ разумѣютъ одновременно корень, приставку, окончанiе и даже соединительную гласную. Понятiе «морфема» въ Европейскомъ языкознанiи относится къ такимъ исходнымъ предпосылкамъ, которыя являются отправной точкой наблюденiя за живымъ языкомъ и основой для дальнѣйшихъ умственныхъ построенiй въ наукѣ о языкѣ. Понятiе «морфема» по существу отвергаетъ понятiе «корень» или, лучше сказать, подмѣняетъ его понятiемъ «слогъ», частицей, которая не является «единицей языка». Европейскiя представленiя о корнѣ у насъ воплотились въ такихъ безобразныхъ понятiяхъ какъ: «корень морфологическiй», подъ которымъ разумѣется «корень, выдѣляемый по отношенiю къ современному состоянiю языка»; «корень этимологическiй», то есть «корень, выдѣляемый по отношенiю къ прошедшимъ эпохамъ развитiя языка».[45] Согласно такому представленiю, одинъ и тотъ же корень въ прошломъ имѣлъ одну природу образованiя и имѣлъ одинъ видъ, а въ современную намъ пору почему-то оказался другой природы образованiя и прiобрѣлъ другой видъ и, вѣроятно, иное значенiе. Если мы будемъ продолжать изучать Рускiй языкъ, основываясь на тѣхъ ошибочныхъ основанiяхъ и способахъ научнаго изслѣдованiя, по которымъ Европейцы и нѣкоторые другiе народы изучаютъ свои языки, то мы скоро утратимъ важныя знанiя о Рускомъ языкѣ и языкъ нашъ превратится въ т.н. «аналитическiй», или, по-другому выражаясь, въ слоговый языкъ. Главнымъ условiемъ сохраненiя языка являются знанiя о его первоначалахъ, о корняхъ, на которыхъ построенъ любой языкъ. Если же носители языка утрачиваютъ знанiя о корняхъ, то языкъ медленно, но неуклонно вырождается, превращаясь въ слоговый, потому что невозможно сохранить того, чего ты не видишь и не понимаешь.
1.5. Рускiй языкъ дохристiанскихъ времёнъ
Языки рода человѣческаго произошли отъ Первобытнаго языка. Первобытный языкъ не погибъ совершенно, остатки его находятся во всѣхъ языкахъ Свѣта, въ однихъ больше, въ другихъ меньше. Этотъ языкъ существуетъ у разныхъ народовъ не словами своими, но корнями, изъ которыхъ каждый языкъ произвёлъ свои вѣтви, то есть производные корни, а далѣе слова. Руская вѣтвь Славянскаго языка, включающая Бѣлоруское, Великоруское и Малоруское нарѣчiя, стоитъ ближе другихъ языковъ къ языку Первобытному. Рускiе, подъ которыми слѣдуетъ разумѣть Бѣлорусовъ, Великорусовъ и Малорусовъ, до сегодняшняго дня сохраняютъ такую рѣчь, изъ коей многое бы легко понялъ Первобытный человѣкъ.[46] Академикъ РАН О.Н. Трубачёвъ (Вопросы языкознания. М., 1982. № 4. Стр. 10–26) указывалъ, что Праславянскiй языкъ настолько древнiй, что сливается съ раннимъ Индо-Европейскимъ времёнъ III тысячелѣтiя до Р.Х., то есть этотъ языкъ существуетъ по крайней мѣрѣ 5000 лѣтъ. Ф.П. Филинъ (1908–1982), крупнѣйшiй Совѣтскiй русистъ, устроитель нашей академической языковѣдческой науки, директоръ Института Рускаго языка АН СССР, доказывалъ, что истоки общеСлавянскаго языка уходятъ въ глубокую древность. Нашъ языкъ столь древнiй, что никто не можетъ указать на время его возникновенья, а истоки его теряются во мракѣ времёнъ допотопныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ исторiя Славянскихъ языковъ (нарѣчiй) есть исторiя двутысячелѣтняго ихъ искаженiя, траты и забвенiя, и, невзирая на это, сiи остатки ещё точны, опредѣлительны и мѣстами выявляютъ разумное построенiе образованнѣйшей въ мiрѣ рѣчи человѣческой.[47]
До введенiя на Руси христiанства въ 988 г., которое, какъ полагаютъ, распространялось по Рускимъ областямъ въ теченiе послѣдующихъ XI–XII вѣковъ, Рускiе были просвѣщённымъ народомъ. В.Н. Татищевъ указывалъ, что «Славяне задолго до Христа и Славянорусы собственно до Владимiра письмо имѣли, въ чёмъ намъ многiе древнiе писатели свидѣтельствуютъ».[48] Изъ Геродота (V в. до Р.Х.) слѣдуетъ, что всѣ Скиѳскiе народы говорили однимъ «Скиѳскимъ» языкомъ, но разными нарѣчiями, и отлично понимали другъ друга, несмотря на огромныя пространства, раздѣлявшiя ихъ. Ктезiй (Ctesiae Persica excerpta à Photio) сообщаетъ, что царь Скиѳовъ вызывалъ Дарiя, царя Персовъ, ругательнымъ письмомъ на бой ещё въ 513 г. до Р.Х.[49] Замѣтимъ, что къ Скиѳамъ Славянъ причисляли иноземные писатели: Левъ Дiаконъ, Кедринъ, Анна Комнина, Киннамъ и многiе другiе иноземные бытописатели. Славянскiе и Рускiе писатели разныхъ времёнъ, Несторъ, Лызловъ, Крекшинъ, Тредiаковскiй, Ломоносовъ, Сестренцевичъ-Богушъ, Венелинъ, Классенъ, Риттихъ, Чертковъ и другiе опредѣлённо считали Скиѳовъ предками Славянъ. Шафарикъ утверждаетъ, что во II–VII столѣтiяхъ по Р.Х. Греки и Римляне почитали сѣверныхъ и южныхъ Славянъ образованнымъ народомъ, знакомымъ съ письмомъ.[50] Ѳ.И. Буслаевъ относилъ начало Славянской письменности, по крайней мѣрѣ къ IV вѣку по Р.Х., а именно ко временамъ Улфилы, который сдѣлалъ Славянскiй переводъ Библiи.[51] Въ частности, Ѳёдоръ Ивановичъ писалъ: «Исповѣданiемъ христiанской вѣры предполагается знанiе грамоты; и если между Славянами задолго до Кирила и Меѳодiя распространилось уже христiанство, то безъ сомнѣнiя извѣстна была и грамотность…»[52] Вслѣдъ за Буслаевымъ объ этомъ же говоритъ академикъ АН СССР Б.Д. Грековъ, утверждая, что «христiанство было неизбѣжно связано съ распространенiемъ книжности. Но письменность была на Руси и до принятiя христiанства». Учёный указываетъ, что въ хроникѣ епископа Христина упоминается о томъ, что у него въ рукахъ была какая-то Руская лѣтопись (на Рускомъ языкѣ), писанная «Греческими буквами».[53] Въ половинѣ V в. письменные договоры съ Греками заключалъ Великiй Рускiй князь Атила,[54] а позже другiе Рускiе князья, въ томъ числѣ Олегъ, Игорь и Святославъ (IX–X вв.). Болѣе 1100 лѣтъ назадъ, 2 сентября 911 г., между Рускими и Греками былъ заключёнъ мирный рядъ, извѣстный подъ именемъ Договора Олега. По нашей лѣтописи, этому договору предшествовалъ походъ Олега на Царьградъ въ 907 г. и заключённый имъ тогда первый договоръ съ Греками. Кромѣ нашихъ лѣтописей объ этихъ древнихъ договорахъ упоминаетъ Византiйская лѣтопись второй половины X в. въ рѣчи пословъ Iоанна Цимисхiя, императора Византiи, воевавшаго со Святославомъ Игоревичемъ, Великимъ Рускимъ княземъ, приводимой въ исторiи Льва Дiакона.[55] Договоръ Олега съ Греками представляетъ намъ Русовъ знакомыми съ письмомъ, законами и торговлей. Въ мирномъ договорѣ Олега записано: «Похотѣнiемъ нашихъ Великихъ Князь, и по повелѣнiю отъ всѣхъ, иже суть подъ рукою его, сущихъ Руси, наша свѣтлость болѣе иныхъ хотящихъ, еже о бозѣ удержати и извѣстити такую любовь бывшую межи Хрестiаны и Русью, многажды право судихомъ; но точiю простословесне, и писанiемъ и клятвою твердою кленшесь оружiемъ своимъ, такую любовь утвердить…»[56] Въ этомъ же договорѣ Олега говорится о письменныхъ завѣщанiяхъ, которыя дѣлались Рускими людьми: «Ащель сотворитъ уряженiе, таковый да возметъ уряженое его, кому будетъ писалъ наслѣдити имѣнiе его…»[57] Карамзинъ, разбирая договоръ Олега съ Греками 911 г., говоритъ, что этотъ договоръ письменный является драгоцѣннымъ памятникомъ Исторiи Росiйской, сохранённымъ въ нашей лѣтописи.[58] Въ мирномъ договорѣ (945) по Ипатьевскому списку между Игоремъ, Великимъ княземъ Рускимъ, и Греческимъ государёмъ есть такiя слова, относящiяся къ Русамъ: «нынѣ же нашъ князь рѣшилъ посылать къ Вашему Царскому Величеству грамоту, въ которой будетъ написано – сколько кораблей князь посылаетъ».[59] Указывая на этѣ строки лѣтописи, Иванъ Болтинъ замѣчаетъ, что сiи слова доказываютъ неоспоримо, что у Рускихъ уже тогда было письмо.[60]
Другiе Славяне также издре́вле имѣли письмо. Славяне дохристiанскихъ времёнъ, знавшiе лѣтосчисленiе, что доказывается коренными Славянскими названiями временныхъ отрѣзковъ, такихъ какъ вѣкъ, годъ, лѣто, зима, весна, мѣсяцъ, недѣля, день, часъ, не могли не имѣть письма. А.Л. Шлёцеръ указываетъ на слѣды Франкскаго Славянскаго языка, сохранившiеся въ грамотахъ завоевателей Галiи. Этотъ Нѣмецкiй учёный говоритъ о томъ, что первые Французскiе короли присягали на древней книгѣ Новаго Завѣта (евангелiи, греч.), писанной по Славянски.[61] Французскiе короли при вступленiи на престолъ присягали на Реймскомъ Словенскомъ Евангелiи, которое, какъ думаетъ князь П.П. Вяземскiй, является слѣдствiемъ воспоминанiя ихъ Панонскаго (Словенскаго) происхожденiя.[62] Въ пользу дохристiанской образованности Славянъ говоритъ торговый письменный договоръ, подписанный Болгарами съ Греками въ 714/715 г. По сообщенiю Ѳеофана, Болгаре подписали такой же договоръ съ Греками при Константинѣ Копронимѣ, въ 774 г. Всё это свидѣтельствуетъ о томъ, что у Болгаръ, и вообще у Славянъ, была своя письменность задолго до принятiя христiанства. Болгаре использовали краткую Граматику своего языка уже въ 900 г., между тѣмъ какъ т.н. «просвѣщённые» Европейскiе народы приступили къ образованiю своихъ новыхъ языковъ гораздо позже. Венеды, языческiе Славяне, обитавшiе въ при-Балтiйскихъ странахъ, знали употребленiе буквъ. Дитмаръ (975–1019) разсказываетъ о надписяхъ на Ретрскихъ божествахъ Славянъ.[63] Древнѣйшiя саги упоминаютъ о Славянскомъ письмѣ – Венда-руниръ. Употребленiе древними Славянами рунъ не подлежитъ никакому сомнѣнiю – утверждалъ языковѣдъ XIX в. Р. Ниппертъ. Онъ полагалъ, что существовала связь между рунами Славянскими и Германскими, что доказываютъ слова, общiя для Славянъ и Германцевъ.[64] Можемъ ли мы помыслить, что одна часть Славянъ вѣдала письмо, а другая, причёмъ самая больша́я и сильная часть Славянства, то есть Рускiе, нѣтъ? Это было бы по меньшей мѣрѣ странно.
Полякъ Лаврентiй Суровецкiй сообщалъ о Славянскомъ языкѣ IX в.: въ общемъ мракѣ и бѣдности прочихъ живыхъ Европейскихъ языковъ, языкъ Славянскiй былъ сильнымъ, обильнымъ и совершеннымъ въ своёмъ построенiи. До XV столѣтiя Славянскiй языкъ былъ въ употребленiи во всей Германiи; императоръ Карлъ IV въ своей Золотой булѣ (1356) предписывалъ всѣмъ князьямъ обучать юношество Славянскому языку.[65] Совѣтскiе учёные 60-хъ годовъ прошлаго вѣка признавали наличiе письменности въ древне-Рускомъ государствѣ до крещенiя. Найдено множество предметовъ Славянъ со знаками и словами. Славяне писали на монетахъ, на оружiи, на печатяхъ, на стѣнахъ соборовъ, писали грамоты на берестѣ. Этѣ находки свидѣтельствуютъ о существованiи письменности у Славянъ, въ томъ числѣ и у Рускихъ, задолго до IX в. Гнѣздовская надпись на сосудѣ начала X в., надписи XI в. на шиферныхъ пряслицахъ, на кирпичахъ и другихъ издѣлiяхъ ремесла и т.п. – всё это говоритъ о широкомъ распространенiи грамотности въ Древней Руси среди простыхъ людей – ремесленныхъ, промысловыхъ и торговыхъ. Въ 1949 г. археологомъ Д.А. Авдусинымъ во время раскопокъ Гнѣздовскихъ кургановъ подъ Смоленскомъ была открыта древнѣйшая на то время Руская надпись, относящаяся къ первой четверти X в., что доказываетъ, что въ эту дохристiанскую ещё пору у Рускихъ была письменность. На сосудѣ было начертано «горухща», или «горушна» (пряность). Арабскiй путешественникъ Ахмедъ Ибнъ-Фадланъ (877–960), жившiй до обращенiя Руси въ христiанство, описываетъ обрядъ похоронъ знатнаго Руса и сообщаетъ, что Русы написали на доскѣ имя своего царя, котораго погребали.[66] Писаницы Софiи Кiевской, наряду со знаменитыми Новгородскими берестяными грамотами и надписями на орудiяхъ труда и быта, являются неопровержимыми свидѣтельствами широкаго распространенiя грамотности среди простаго народа.[67] Павелъ Яковлевичъ Черныхъ, докторъ филологическихъ наукъ (1954), професоръ Московскаго государственнаго университета им. М.В. Ломоносова, писалъ, что у Восточныхъ Славянъ въ IX в., а можетъ быть, и раньше, были «системы буквеннаго письма».[68] Эту мысль подтверждаетъ черноризецъ Храбръ (X в.), который въ своей работѣ «О письменахъ» утверждалъ: «прѣжде убо Словѣне не имѣху книгъ, но чрътами и рѣзами чьтѣху и гатааху, погани суще. Крестивше же ся, римьсками и гръчьскыми письмены нуждаахуся писати».[69] Отсюда слѣдуетъ выводъ о томъ, что Славяне издавна имѣли своё собственное письмо, начертанные и нарѣзанные знаки, но употребляли они его большею частiю для написанiя священныхъ заповѣдей, составляющихъ ихъ духовное ученье. Широкаго обращенiя книгъ въ народѣ у нихъ не было принято, что вовсе не означало необразованности народа.[70] У нашихъ предковъ не было иныхъ письменъ, кромѣ письменъ, утверждающихъ добронравiе, иныхъ обычаевъ, кромѣ обычаевъ, уважающихъ родство, цѣломудрiе, людкость, гостепрiимство и прочiя добродѣтели. Въ X в. Рускiй языкъ былъ чистымъ, величественнымъ, великолѣпно образованнымъ языкомъ, общимъ для государя и подданныхъ, – доказывалъ Рускiй изслѣдователь Н.Г. Устряловъ.[71] Великiй Ломоносовъ писалъ о Рускомъ языкѣ XVIII в.: «Повелитель многихъ языковъ языкъ Росiйскiй не только обширностiю мѣстъ, гдѣ онъ господствуетъ, но купно собственнымъ своимъ пространствомъ и довольствiемъ великъ предъ всѣми въ Европѣ…» Нѣмецъ Шлёцеръ, котораго нельзя заподозрѣть въ любви къ Славянству, признавалъ Славянскiй языкъ совершеннѣе всѣхъ Европейскихъ языковъ и утверждалъ, что онъ прежде всѣхъ прiобрѣлъ это совершенство.[72] Въ первой половинѣ XX в. эту мысль Шлёцера повторялъ А. Мейе, писавшiй о старо-Славянскомъ языкѣ какъ объ одномъ изъ самыхъ древнихъ языковъ Индо-Европейской семьи и продолжающемъ безъ какого-либо перерыва своё существованiе общаго Индо-Европейскаго языка. Въ Славянскомъ языкѣ нельзя замѣтить тѣхъ внезапныхъ измѣненiй, которыя придаютъ столь характерный видъ языкамъ Греческому, Итальянскому, Нѣмецкому и особенно Латинскому. Въ новое время древнѣйшее, дохристiанское, происхожденiе Славянской письменности въ своихъ работахъ отстаивали Н.А. Константиновъ, А.С. Львовъ, С.П. Обнорскiй, А.А. Формозовъ, П.Я. Черныхъ и многiе другiе учёные.
Просвѣщенiе Рускихъ дохристiанскихъ времёнъ подтверждается найденными въ нашихъ земляхъ берестяными грамотами. Возрастъ старѣйшихъ изъ нихъ наша наука опредѣляетъ рубежёмъ первой трети XI в., однако надо учесть, что нѣкоторыя грамоты не имѣютъ даты, привязанной къ строительному ярусу (стратиграфической датировки), то есть найдены не при раскопкахъ. Надо также учесть, что особой палеографiи бересты пока не существуетъ. Палеографическiя даты берестяныхъ грамотъ основаны на выводахъ Рускихъ палеографовъ XIX–XX вѣковъ, изучившихъ измѣненiя Рускихъ буквъ въ книгахъ и актахъ, написанныхъ чернилами на пергаментѣ и на бумагѣ.[73] Есть свидѣтельства существованiя берестяныхъ грамотъ въ болѣе раннюю пору. Професоръ А.В. Арциховскiй упоминаетъ о сообщенiи 987 г. Арабскаго писателя Ибнъ анъ-Недима («Книга росписи наукамъ»), передававшаго слова нѣкоего Кавказскаго князя: «Мне разсказывалъ одинъ, на правдивость котораго я полагаюсь, что одинъ изъ царей горы Кабкъ [Кавказа] послалъ его къ царю Русовъ; онъ утверждалъ, что они имѣютъ письмена, вырѣзаемыя на деревѣ. Онъ же показалъ мне кусокъ бѣлаго дерева, на которомъ были изображенiя, не знаю, были ли они слова или отдѣльныя буквы, подобно этому». Далѣе учёный поясняетъ, что подъ «кускомъ бѣлаго дерева» слѣдуетъ разумѣть бересту. Изъ этого замѣчанiя можно сдѣлать выводъ, что самъ Арциховскiй допускалъ существованiе письменности на Руси до Кирила и Меѳодiя. Отъ себя добавимъ, что отсутствiе безспорныхъ толкованiй этой надписи не отмѣняетъ свидѣтельство существованiя на Руси дохристiанской письменности. Любопытны также свѣдѣнiя о грамотахъ и даже книгахъ на берестѣ, относящихся къ концу XVII или къ первой половинѣ XVIII в. Они были написаны большей частiю въ Сибири, а иногда на Крайнемъ Сѣверѣ Европейской части нашей страны.[74] Эти памятники Руской письменности продолжаютъ обычай письма на берестѣ и подтверждаютъ древность этого обычая.
Первыя находки берестяныхъ грамотъ относятся къ раскопкамъ 1951–1955 гг. въ Новгородѣ. Къ концу 2003 г. кромѣ Новгорода берестяныя грамоты были найдены въ такихъ городахъ, какъ: Витебскъ, Звенигородъ Галицкiй, Москва, Мстиславль, Новгородское («Рюриково») городище, Псковъ, Смоленскъ, Старая Руса, Старая Рязань, Тверь, Торжокъ, Вологда и Саратовъ. Въ древнемъ Новгородѣ, въ частности, жило множество людей, умѣющихъ читать и писать, и едва ли кто-нибудь станетъ теперь это опровергать. Несмотря на значительную долю христiанскаго духовенства въ населенiи Новгорода и его высокiй уровень грамотности, къ подавляющему большинству берестяныхъ грамотъ духовныя лица не имѣли никакого отношенiя.[75] Большинство изъ отправителей и получателей берестяной почты были свѣтскими людьми, то есть берестяныя грамоты являются обычными бытовыми или дѣловыми письмами, которыми обмѣнивались простые люди, горожане и сельскiй людъ. Въ связи съ этимъ берестяныя грамоты въ полной мѣрѣ отражаютъ живой народный разговорный языкъ, отражаютъ его въ гораздо большей степени, чѣмъ какая-либо другая письменность. Грамотой владѣли всѣ жители Новгорода, въ томъ числѣ женщины и дѣти. Академикъ Росiйской академiи наукъ по Отдѣленiю литературы и языка А.А. Зализнякъ сообщаетъ, что самое большое число берестяныхъ грамотъ, писанныхъ женщинами, приходится на XI–XII вв. Въ XIII–XV вв. число берестяныхъ грамотъ, принадлежавшихъ женщинамъ, неуклонно уменьшается, что свидѣтельствуетъ объ общемъ паденiи грамотности въ Рускомъ обществѣ въ эту пору. Исконно Руское происхожденiе языка берестяныхъ грамотъ подтверждается изслѣдованiями професора В.И. Борковскаго и другихъ языковѣдовъ, которые указываютъ на туземную старину словосочине́нья (синтаксиса, греч.) и употребленiе падежей берестяныхъ грамотъ, отчасти продолжающихъ существовать въ различныхъ сѣверныхъ, южныхъ и западныхъ говорахъ современнаго Рускаго языка.[76] Разсматривая звуковыя и гранесловныя (граматическiя, греч.) особенности Новгородскихъ берестяныхъ грамотъ, В.И. Борковскiй отмѣчалъ почти полное отсутствiе въ нихъ Церковно-Славянскихъ словъ; это означаетъ, что словарный составъ языка берестяныхъ грамотъ принадлежалъ древне-Рускому языку, а не Церковно-Славянскому.[77] Позже А.А. Зализнякъ повторилъ утвержденiе Борковскаго, сообщивъ въ своей работѣ «Древне-Новгородский диалект», что «подавляющее большинство берестяныхъ грамотъ написаны по древне-Руски, небольшое число – по Церковно-Славянски».[78]
О дохристiанскомъ просвѣщенiи Рускихъ свидѣтельствуетъ, въ частности, Новгородская грамота № 591, относящаяся къ 30-мъ годамъ XI в., на которой изображена полная Руская азбука, отличающаяся отъ Церковно-Славянской тѣмъ, что въ ней отсутствуютъ извѣстныя Греческiя буквы. Здѣсь важно подчеркнуть, что если первая найденная археологами Новгородская грамота принадлежитъ къ 30-мъ годамъ XI в., то начало письменности на Руси очевидно лежитъ въ значительно болѣе раннемъ времени. Мы видимъ Рускую азбуку на берестяныхъ грамотахъ всего черезъ 40 лѣтъ послѣ крещенiя Кiева въ 988 г. (Новгородъ крестили ещё позже); это не можетъ означать ничего инаго, какъ только то, что эта азбука существовала у насъ и до крещенiя Рускихъ городовъ. Для достиженiя такого уровня грамотности населенiя, который имѣлъ мѣсто въ Новгородѣ начала XI в., даже въ наши дни ушло бы не одно десятилѣтiе, а въ ту пору подобной всеобщей грамотности можно было достигнуть лишь въ ходѣ постепенныхъ преобразованiй, а на нихъ потребовалось бы столѣтiе. Учтёмъ также, что первый Новгородскiй епископъ умеръ въ 1030 г., когда грамотность среди жителей Новгорода была уже всеобщей. Если допустить, что Кирилъ и Меѳодiй принесли грамоту на Русь, то слѣдуетъ допустить также, что Рускiй народъ, принявъ грамоту Церковно-Славянскаго языка, немедленно приступилъ къ созданiю письменныхъ правилъ Рускаго народнаго языка, бытовавшаго тогда по всей Руси, и оставилъ памятники этой письменности въ видѣ берестяныхъ грамотъ. И всё это онъ совершилъ всего за 40 лѣтъ! Какъ народъ, не имѣвшiй письменности, разработалъ и ввёлъ въ оборотъ правила правописанiя народнаго языка, едва ознакомившись съ правописанiемъ Церковно-Славянскаго, сiе есть тайна великая. Къ мѣсту будетъ привести одно любопытнѣйшее замѣчанiе А.С. Зуева по этому вопросу: «О берестѣ въ качествѣ писчаго матерiала въ литературѣ не сохранилось упоминанiй, кромѣ житiя Сергiя Радонежскаго. Поэтому открытiе первой берестяной грамоты въ 1951 г. было неожиданностью».[79] Намъ совершенно понятно, что неожиданностью это было прежде всего для учёнаго мiра, который убѣдилъ себя, что Рускiе до крещенiя не имѣли своего письма. Но для насъ здѣсь важенъ выводъ изслѣдователя А.С. Зуева о томъ, что если чего-то нѣтъ въ источникахъ, это вовсе не значитъ, что явленiя не существовало.
Прямыя значенiя числительныхъ имёнъ перваго десятка Славянскаго счёта составляютъ памятникъ древней дохристiанской письменности, которая является неотъемлемой частью Славянскаго и Рускаго языческаго вѣрованiя. Съ древнѣйшихъ времёнъ извѣстна взаимосвязь слова и числа, а буквы азбукъ многихъ народовъ имѣютъ числовыя значенiя. Скрытые смыслы наименованiя Славянскихъ числительныхъ перваго десятка въ половинѣ XIX в. объяснилъ П.А. Лукашевичъ: 1. Единъ, человѣкъ. 2. Два=дьва= дъва=дива, дѣва, божество нижняго уровня. 3. Три=търи=тери, торы (род. пад.), земли. 4. Четыре=кетыре=кôтôрой (чьей? коей?), твердью. 5. Пять=пѫть=пентъ, владѣетъ держитъ пятернёю, рукою. 6. Шесть=сей есть. 7. Седмь=седъимый, сѣдящiй, занимающiй мѣсто. 8. Восемь=воземь=вожемъ=межовь, межою, между (слово «восемь» образовано обратнымъ прочтенiемъ слова «межовъ», причёмъ буква ж, восходящая къ первообразной гортанной г, перепутана съ другой первообразной гортанной х, изъ которой образовалась второобразная с). 9. Девять=дѣвами, дивами (богами). 10. Десять= духами (такъ какъ духъ во мн. числѣ – дуси, а по Польски – дехъ и деси, мн. ч.). Итакъ, древнiй Славянскiй счётъ перваго десятка сохранёнъ для насъ нашими предками въ видѣ заповѣди: человѣкъ дѣва Земли (торы), коей твердiю (материкомъ) владѣетъ, – сей есть сѣдяй между дѣвами, духами (то есть отъ дѣвъ, духовъ).[80] Рускiе дохристiанскихъ времёнъ имѣли преданiя и повѣсти о подвигахъ своихъ отцевъ и о важныхъ событiяхъ своего народа, то есть имѣли лѣтописанiе (исторiю, греч.). Почти всѣ источники, содержавшiе такiя преданiя, были уничтожены введённымъ на Руси христiанствомъ.[81] Древнѣйшiя Рускiя сказанiя не могли составиться внѣ родственнаго имъ круга Славянскихъ поэтическихъ былинъ. Рускiе пѣвцы вполнѣ сознавали кровное родство Руской поэзiи съ поэзiею прочихъ Славянскихъ народовъ. Отголоски поэзiи южныхъ Славянъ, слышавшiеся на Руси въ XI–XII вв. и гораздо раньше того, свивались съ голосами Рускими въ то прекрасное полногласiе, которое надобно назвать древнѣйшими обще-Славянскими или всѣ-Славянскими преданiями.[82] Тредiаковскiй, Шевырёвъ, Буслаевъ считали наши богатырскiя повѣсти обломками древнѣйшихъ сказанiй, сочинитель которыхъ остаётся неизвѣстнымъ. Князь Павелъ Петровичъ Вяземскiй полагалъ очевиднымъ сродство нашихъ богатырскихъ пѣсенъ съ поэзiей Египетской, Индiйской, Персидской, Халдейской, Татарской и Финской; но тутъ же онъ замѣчаетъ, что всѣ эти произвѣденiя мало могли бы послужить къ объясненiю Рускихъ былинъ и, въ частности, «Слова о плъку Игоревѣ».[83] Давно было замѣчено сходство Романскихъ и Бретонскихъ сказокъ со сказками Славянъ; извѣстно родство Фригiйскихъ сказокъ со сказками при-Дунайскихъ Славянъ; очевидна близость Рускихъ былинъ съ Восточными сказанiями. Вяземскiй показываетъ, что наши сказки ближе къ древнимъ преданiямъ боговщины, чѣмъ Гомеровы сказанiя. Донъ и Дунай – средоточiя Валiйскихъ, Французскихъ и Скандинавскихъ сказанiй о Троянскомъ происхожденiи этихъ народовъ. Баснословiе (миѳологiя, греч.) Халдеевъ, напримѣръ, служитъ поясненiемъ нашей народной словесности.[84] Вмѣстѣ съ тѣмъ пересуды о заимствованiи сказанiй однимъ народомъ у другаго совершенно безплодны. Въ связи съ этимъ утвержденiемъ Вяземскiй писалъ: «Суетное состязанiе о принадлежности народныхъ сказокъ Индiи, Грецiи или Семитическому племени не можетъ привести ни къ какому результату». Всѣ сказанiя разсказываются у разныхъ народовъ со своимъ несомнѣнно самостоятельнымъ характеромъ и воспроизводятъ жизнь того народа, среди коего они слагались.[85]

