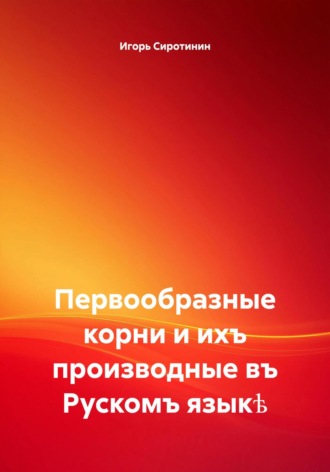
Полная версия
Первообразные корни и ихъ производные въ Рускомъ языкѣ

Игорь Сиротинин
Первообразные корни и ихъ производные въ Рускомъ языкѣ
Вмѣсто предисловiя
Въ этой предпосылкѣ къ изслѣдованiю скажемъ нѣсколько словъ объ особенностяхъ правописанiя настоящей работы, которая, хотя написана по правиламъ Рускаго языка конца XIX вѣка и бытовавшаго до 1918 года, всё же содержитъ нѣкоторыя отличiя отъ нихъ. Эти отличiя внимательный читатель, конечно, увидитъ и оцѣнитъ, но перечислять ихъ здѣсь было бы неумѣстно. Тѣмъ не менѣе можно заявить, что въ общемъ за образецъ правописанiя были выбраны правила втораго изданiя «Толковаго словаря живаго Великорускаго языка» В.И. Даля, впрочемъ, не безъ изъятiй. Полагаемъ, что читателю будетъ любопытно узнать о томъ, почему эта работа предложена на письменномъ языкѣ той поры. Попробуемъ удовлетворить это оправданное любопытство.
Мы помнимъ, что упрощенiе Рускаго правописанiя совершилось болѣе 100 лѣтъ назадъ, но, несмотря на это, старыя правила продолжаютъ существовать въ нашемъ огромномъ письменномъ наслѣдiи. Книги отмѣнённаго образа письма составляютъ завѣтную сокровищницу Рускаго духа, значенiе которой невозможно переоцѣнить. Невозможно также отмѣнить книжное наслѣдiе какъ явленiе, даже если бы кто-то и захотѣлъ это сдѣлать. Этѣ книги находятся въ большомъ количествѣ въ нашихъ главныхъ библiотекахъ и музеяхъ, они стоятъ на полкахъ частныхъ книжныхъ собранiй въ несчитаномъ числѣ. Письменное наслѣдiе принадлежитъ не только прошлому, но и настоящему и, безусловно, будущему нашего народа. Слѣдовательно, и правописанiе тѣхъ, не такихъ ужъ и далёкихъ, времёнъ будетъ съ нами всегда, а это обстоятельство, въ свою очередь, требуетъ отъ насъ знанiя старыхъ правилъ языка, хотя бы потому, что, не зная правилъ, невозможно вполнѣ понимать письменное наслѣдiе нашихъ предковъ.
Старую правопись продолжали использовать въ своихъ трудахъ писатели и мыслители, выѣхавшiе изъ Росiи послѣ 1917 года, а также ихъ потомки. Находясь за предѣлами своей родины, они продолжали творить на письменномъ языкѣ Императорской Росiи. Въ ряду такихъ нашихъ соотечественниковъ были К.Д. Бальмонтъ, И.А. Бунинъ, И.А. Ильинъ, А.И. Купринъ, В.В. Набоковъ, И.И. Сикорскiй, А.Н. Толстой, П.Д. Успенскiй и другiе. Нашъ знаменитый языковѣдъ А.А. Шахматовъ, прежде горячiй поборникъ упрощенiя правописанiя, оставшiйся въ большевицкой Росiи, осозналъ вредъ совершённыхъ уже губительныхъ преобразованiй языка и въ послѣреволюцiонныхъ изданiяхъ своихъ трудовъ продолжалъ использовать прежнее правописанiе. Зарубежныя издательства Ру-ской православной церкви выпускали и продолжаютъ выпускать въ свѣтъ книги на «старомъ» языкѣ. Въ самой Росiи послѣ переворота 1991 года нѣкоторые любители роднаго языка въ качествѣ руководящихъ правилъ письма приняли прежнее правописанiе и слѣдуютъ этимъ правиламъ при подготовкѣ своихъ трудовъ. Въ помощь «старопишущимъ» у насъ вышли въ свѣтъ пособiя и справочники В. Егорова (1991), В. Асмуса (1999), П. Давыдова (2013), М. Тейкина (2016). Уважаемыя издательства въ Росiи выпускаютъ въ свѣтъ книги прошлой поры, писанныя по прежнимъ образцамъ Рускаго письма. Теперь мы имѣемъ примѣры переизданiй дореволюцiонныхъ произведенiй въ полномъ Рускомъ правописанiи. Благодаря переводу старопечатныхъ книгъ въ электронный видъ для изслѣдователей появилась возможность познакомиться со многими изъ нихъ въ подлинномъ правописанiи. Обобщая сказанное въ отношенiи употребленiя стараго письма, слѣдуетъ замѣтить, что использованiе исконно Руской правописи на дѣлѣ никогда не прекращалось. Какъ говорятъ наблюдатели, число «старопишущихъ» за послѣднiе годы значительно выросло и продолжаетъ расти.
Для нѣкоторыхъ, употребляющихъ правила письма съ ерами и ятями, это просто дань модѣ или украшательству. Но бóльшая часть пишущихъ такимъ способомъ дѣлаютъ это осознанно въ стремленiи сберечь письмо въ его лучшихъ образцахъ и донести эти образцы до грядущихъ поколѣнiй. Что касается предлагаемаго изслѣдованiя, то въ данномъ случаѣ использованiе правилъ письма времёнъ, предшествовавшихъ его упрощенiю, является насущной необходимостью. Въ нашемъ случаѣ, когда поставлена задача описать сокровенные законы Рускаго языка въ отношенiи корнеобразованiя, мы должны использовать болѣе тонко настроенное орудiе письменной рѣчи, а именно дореформенное письмо, такъ какъ невозможно объяснить сложную знаковую систему болѣе простой. Дѣло въ томъ, что однимъ изъ важнѣйшихъ свойствъ мышленiя является его способность къ различенiю: чѣмъ больше свойствъ и признаковъ какой-либо вещи или явленiя можно распознать съ помощью даннаго языка, тѣмъ глубже и тоньше мысль, тѣмъ больше понятiй можно выразить этимъ языкомъ. Такимъ языкомъ можно изъяснить больше смысловыхъ плановъ изслѣдуемаго предмета, а значитъ – лучше понять его. Для насъ очевидно, что языкъ XIX в. по сравненiю съ современнымъ имѣетъ болѣе сложное устройство, позволяющее выказывать тончайшiе оттѣнки человѣческой мысли. Нынѣшнiй же упрощённый письменный языкъ подобенъ рѣзцу ваятеля, который съ намѣреньемъ затупили. Да, можетъ быть, такое орудiе проще въ обращенiи, но тупымъ рѣзакомъ не исполнишь произведенiя, какое можно высѣчь острымъ.
Глава 1. Введенiе
1.1. Задача настоящаго труда
Въ нашей работѣ мы ставимъ передъ собой задачу опредѣлить первообразные корни Рускаго языка и описать правила образованiя ихъ производныхъ различнаго уровня, а также предоставить примѣрный разчётъ числа корней Рускаго языка въ общемъ видѣ. Такая постановка задачи потребовалась потому, что въ современной намъ Росiйской академической наукѣ языкознанiя сложилось убѣжденье, что корни «нельзя задать спискомъ въ языкѣ»,[1] а сами корни неперечислимы.[2] Отсюда, по положенiямъ современнаго языковѣдѣнiя, какъ бы вытекаетъ выводъ – полный составъ корней Рускаго языка непознаваемъ. Такiя же установки существуютъ и въ Европейскомъ языкоученiи. Конечно, съ такимъ выводомъ нельзя согласиться, поскольку Рускiй языкъ, какъ и Первобытный языкъ человѣчества, или Праязыкъ, содержитъ конечное число первообразныхъ корней, имѣющихъ вполнѣ опредѣлённыя значенiя, а также множество, но конечное число производныхъ корней, задать которые спискомъ дѣйствительно нельзя. Но ихъ можно представить въ видѣ числовида (формулы, латн.), то есть въ общемъ видѣ, въ общемъ выраженiи, съ вычисленiемъ ихъ количества. Оцѣнивая мiровую науку о языкахъ, нельзя не отмѣтить, что она сегодня находится въ состоянiи застоя, даже упадка. Это связано прежде всего съ ошибочными исходными предпосылками, а именно съ накопленiемъ въ языковѣдѣнiи уклоненiй, сдѣланныхъ въ угоду предположенью, согласно которому языкъ не является врождённой способностью человѣка, а возникъ «въ ходѣ эволюцiи».
Къ выводамъ о непознаваемости корней языковъ народовъ мiра учёныхъ подводитъ также то обстоятельство, что языковѣды Среднихъ и болѣе позднихъ вѣковъ прилагали немалыя усилiя къ тому, чтобы извлечь начальные корни Европейскихъ и Азiатскихъ языковъ, что позволило бы многое понять о Первобытномъ всеобщемъ языкѣ древняго человѣчества, но всѣ ихъ труды были тщетны. Въ концѣ концовъ изслѣдователи перестали вѣрить въ возможность возсоздать первоначальные корни словъ. Неудачи Европейскихъ учёныхъ въ познанiи законовъ Первобытнаго языка, на нашъ взглядъ, кромѣ общей причины – ошибочныхъ исходныхъ предпосылокъ, въ большoй мѣрѣ были связаны съ тѣмъ, что всѣ ихъ изслѣдованiя основывались на языкахъ третьяго или четвёртаго образованiя, которые, будучи составными, не позволяли учёнымъ увидѣть первоначальное устройство изслѣдуемыхъ языковъ и понять ихъ основные законы. Западно-Европейскiе учёные, положивъ въ основанiе своей науки о языкѣ ложныя представленiя о происхожденiи языка, привели своё языкознанiе въ полный упадокъ. Уважаемый у насъ Французскiй учёный А. Мейе утверждалъ, что «объ этой общей основѣ (Праязыкѣ) можно составить себѣ представленiе только путёмъ гипотезъ, и притомъ такихъ гипотезъ, которыя провѣрить нельзя».[3] Въ XIX в. Нѣмецкiе языковѣды полагали правильнымъ заниматься «не столько уясненiемъ корней, сколько словопроизведенiемъ и словосоставленiемъ». Изслѣдуя Индо-Европейскiе языки, Британскiй языковѣдъ Томасъ Барроу заключилъ, что «корневыя имена – это древнiй видъ словъ, замѣтно пришедшiй въ упадокъ даже въ самыхъ раннихъ засвидѣтельствованныхъ Индо-Европейскихъ языкахъ».[4] Къ началу XX в. вопросъ корнеобразованiя для языкознанiя по-прежнему оставался тёмнымъ и въ сущности никѣмъ почти не затронутымъ.[5] Труды Европейскихъ учёныхъ, нерѣдко талантливыхъ, почти всегда безплодны въ отношенiи корней: за прошедшее XX столѣтiе ничего не сдѣлано въ познанiи корней, которые являются самой важной частью образованiя языковъ рода человѣческаго.
Славянскiе же языки Европейскими языковѣдами никогда глубоко не разсматривались какъ объектъ изслѣдованiя. Извѣстный Росiйскiй славистъ А.Ѳ. Гильфердингъ въ своей работѣ «О сродствѣ языка Славянскаго съ Санскритскимъ» (1853), отзываясь о Европейскихъ изслѣдователяхъ Праязыка, писалъ: «…странно, что изо всѣхъ языковъ Славянскiй въ ихъ трудахъ занимаетъ послѣднее мѣсто. Они скорѣе основываютъ свои выводы на языкѣ Зендскомъ, или Литовскомъ, или Кельтскомъ, чѣмъ на богатомъ и цвѣтущемъ языкѣ племени, занимающаго восточную половину Европы. Трудно объяснить такое явленiе: или не могутъ они выучиться языку Славянскому (но они могли же выучиться языку, котораго никто не зналъ и котораго письмена даже не были извѣстны, – древне-Персидскому), или они теряются во множествѣ Славянскихъ нарѣчiй, или не хотятъ дотронуться до области, которую слѣдовало бы разобрать самимъ Славянамъ. Какъ бы то ни было, сравнительное языковѣдѣнiе, созданное на западѣ Нѣмецкими учёными, не знаетъ языка Славянскаго: оно знаетъ только, что есть весьма богатый языкъ семьи Индо-Европейской, извѣстный подъ названiемъ Славянскаго. Но что это за языкъ, въ какомъ онъ отношенiи къ языкамъ родственнымъ, – объ этомъ не спрашивайте у языковѣдовъ нашихъ западныхъ сосѣдей».
И всё же главной причиной такого пренебреженья къ языкамъ Славянскимъ является отказъ самихъ Славянъ отъ первородства своихъ языковъ и признанiе ихъ вторичности. А происходитъ это оттого, что Европейцы сумѣли навязать намъ черезъ нашихъ вельможъ и учёныхъ предубѣжденiе, что Славяне – народъ Азiатскiй, въ значенiи помѣси съ такъ называемыми Туранскими народами или Фино-Уграми, и поэтому этотъ языкъ не можетъ представлять изъ себя «чистаго Арiйскаго источника». Славяне занимаютъ полъ-Европы, но Европейцы давно уже провозгласили Славянъ кочевниками, едва прибывшими изъ Азiи въ Европу въ VI в. по Р.Х.[6] А мы съ этимъ согласились. Наша наука, забывъ и презрѣвъ свой природный языкъ, пошла за Европейскою наукой. Во второй половинѣ XIX в. Росiйскiе учёные съ воодушевленiемъ засвидѣтельствовали, что Европейскiе языковѣдческiе подходы «привились и на нашей филологической почвѣ».[7] Исходя изъ воззрѣнiй Европейскихъ учёныхъ, почти всё учёное сообщество Росiи согласилось, что многiе вопросы о происхожденiи корней, ихъ видахъ и видоизмѣненiи, вѣроятно, навсегда останутся тёмными. Объ отношенiи нѣкоторыхъ записныхъ Росiйскихъ учёныхъ-языковѣдовъ половины XIX в. къ Рускому языку говоритъ то обстоятельство, что Комисiя Московскихъ академиковъ, принявъ на себя разработку академической «Общесравнительной Граматики Рускаго языка», поставила себѣ образцомъ Нѣмецкую граматику! И это притомъ, что Нѣмцы съ XI до XVII вв., то есть въ ту пору, когда Рускiй языкъ пребывалъ въ своей самородной чистотѣ, полнотѣ и силѣ, въ качествѣ богослужебнаго языка и языка государственнаго дѣлопроизводства использовали Латынь, языкъ мёртвый, для немногихъ вразумительный. Ни одинъ Нѣмецкiй учёный тогда не могъ выражать свои мысли на языкѣ народномъ, потому какъ онъ представлялъ изъ себя нестройную говорку. И чему же мы могли научиться у Нѣмцевъ? Нѣкоторые наши учёные пошли ещё дальше, утверждая въ частности, что корни, обсуждаемые въ граматикахъ, не имѣютъ никакого научнаго значенiя, а «форма ихъ должна мѣняться съ прогресомъ науки».[8] Можетъ быть, поэтому въ нашемъ современномъ языкознанiи замѣчается такое «лёгкое» и даже пренебрежительное отношенiе къ корнямъ словъ. Почти всѣ наши словари основываются на глаголахъ, по которымъ трудно установить корень слова. Европейскiе подходы и прiёмы въ изслѣдованiи языка глубоко проникли во всѣ части нашей науки о языкѣ. А между тѣмъ слѣдуетъ сказать, что западно-Европейскiе языки и другiе составные языки для языковѣдѣнiя ни къ чему не годные. Въ нашу науку вводятся понятiя чуждыя: чего только стоятъ такiя опредѣленiя Европейскаго языкознанiя, вполнѣ внедрённыя въ наше образованiе, какъ, напримѣръ, префиксъ (впереди прикрѣплённый), внутренняя флексiя (измѣненiе гласныхъ въ корнѣ), флексiя (измѣненiе гласныхъ въ окончанiи), постфиксъ (послѣ прикрѣплённый, слѣдующiй послѣ корня), суфиксъ (су-фиксъ, идущiй за корнемъ), и́нфиксъ (вставленный). И это притомъ, что у насъ существуютъ свои, соотвѣтствующiя вышеприведённымъ иностраннымъ понятiямъ, но болѣе ясныя и точныя, опредѣленiя – приставка, корень, койности гласныхъ или музыкальные переходы гласныхъ въ корнѣ и въ окончанiяхъ, окончанiе, въ т.ч. нарощенное окончанiе, выговоръ юса (ѫ) въ корнѣ. Основныя положенiя современнаго намъ ученья о звуковомъ строѣ языка (фонетики, греч.), которыя начиная съ половины XVIII в. разрабатывались западно-Европейскими учёными, были также слѣпо приняты у насъ. Сначала Рускiе языковѣды и широкiе круги общественности съ недовѣрiемъ отнеслись къ насажденiю привнесённыхъ, искуственныхъ подходовъ къ изученiю звуковыхъ средствъ языка. Однако въ концѣ концовъ и въ Росiи возобладалъ Европейскiй подходъ въ изученiи звуковой стороны языка, который былъ основанъ на ошибочномъ признанiи привычки какъ силы, обуславливающей строй и составъ языка.[9] «Европейскiй» взглядъ на звуковой строй нашего языка особо отчётливо выразился въ словахъ С.К. Булича, который утверждалъ, что звуки (здѣсь подразумѣвается произношенiе буквъ въ рѣчи) являются слѣдствiемъ привычекъ произношенiя и мѣняются въ зависимости отъ постепеннаго измѣненiя этихъ привычекъ. Но языкъ человѣческiй основанъ на своихъ законахъ, а не на привычкахъ человѣка; если послѣдовать за привычками человѣческихъ сообществъ, то этотъ путь очень скоро приведётъ къ полному вырожденiю языка, что мы и наблюдаемъ въ рядѣ языковъ. Президентъ Академiи Росiйской Александръ Семёновичъ Шишковъ писалъ въ началѣ XIX в.: «Навыкъ и вкусъ, основанные на невѣжествѣ, суть весьма худые путеводители. Разумъ, разсуждая, долженъ созидать ихъ, а не они предписывать законы разуму; ибо тогда владычество ихъ будетъ безумiе».[10] Заявляя предметомъ изслѣдованiя Рускiй языкъ, мы не берёмся обозначить чёткихъ границъ между Рускимъ и Славянскимъ языками. Мы склонны считать Рускiй языкъ нарѣчiемъ Славянскаго, прежде всего потому, что корни у всѣхъ Славянскихъ языковъ (нарѣчiй) одни и тѣ же. Болѣе того, не замыкаясь кругомъ Славянскихъ языковъ, мы разсматриваемъ любые языки какъ производные Первобытнаго языка, въ той или иной мѣрѣ сохранившiе его законы. Южно-Рускiй учёный XIX в. Платонъ Акимовичъ Лукашевичъ указывалъ, что Славянскiй языкъ поясняетъ и исправляетъ новые языки, а не наоборотъ, и свѣдущiй языковѣдъ это всегда имѣетъ въ виду.[11] Мнимо-первобытные языки – Санскритскiй, Авестiйскiй, древне-Греческiй, Латинскiй есть мёртвые языки. Латинскiй языкъ, между прочимъ, на основѣ коего образованы всѣ Европейскiе языки, за исключенiемъ Славянскаго, составленъ уже въ лѣтописную пору; народа, который разговаривалъ бы на Латинскомъ языкѣ, никогда не существовало и не существуетъ теперь (сословныя и научныя сообщества не въ счётъ), какъ, впрочемъ, не было народовъ, говорившихъ на Санскритскомъ или Авестiйскомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ учёные указываютъ – Санскритъ, «какимъ бы ни былъ его возрастъ, имѣетъ поразительную структуру; онъ совершеннѣе Греческаго, богаче Латинскаго и превосходитъ оба этихъ языка по утончённой изысканности».[12] Это указанiе въ большей мѣрѣ относится къ бѣдности Греческаго и Латинскаго, чѣмъ къ богатству Санскрита. Тѣмъ не менѣе, если мы будемъ объяснять Рускiй языкъ гранесловiемъ (граматикой, греч.) Санскритскаго, а ещё того хуже – правилами Нѣмецкаго, Французскаго или Англiйскаго, то ничего не поймёмъ въ своёмъ языкѣ.
Языковѣденiе стремится стать точною наукою, что совершенно недостижимо безъ изученiя первоначальныхъ корней, на которыхъ основанъ любой языкъ. Языкъ данъ намъ его создателемъ какъ совершенное орудiе мышленiя и познанiя всего сущаго, и нашей обязанностью является сохраненiе языка въ наиболѣе древнемъ видѣ. Сберечь языкъ въ цѣлости можно только познавъ его законы и слѣдуя этимъ законамъ въ использованiи языка. Храня первоначальныя значенiя корней, мы сберегаемъ первоначальныя понятiя о вещахъ. Самый здравомыслящiй народъ – тотъ, у котораго въ словаряхъ опредѣлены значенiя всякаго слова, ибо подобный опредѣлительный словарь есть высочайшая мудрость, предотвращающая тысячи недоразумѣнiй и разногласiй. А.С. Шишковъ писалъ по этому поводу, что народъ прiобрѣтаетъ всеобщее къ себѣ уваженiе, когда оружiемъ и мужествомъ хранитъ свои предѣлы, когда мудрыми поученiями и законами соблюдаетъ доброту нравовъ, когда любовь ко всему отечественному составляетъ въ нёмъ народную гордость, когда плодоносными ума своего изобрѣтенiями не только самъ изобилуетъ и украшается, но и другимъ избытки свои сообщаетъ. О такомъ народѣ можно сказать, что онъ просвѣщёнъ. Но что такое просвѣщенiе, и на чёмъ имѣетъ оно главное своё основанiе? Безъ сомнѣнiя, на природномъ своёмъ языкѣ. На нёмъ производится богослуженiе, насаждающее семена добродѣтели и нравственности; на нёмъ пишутся законы, ограждающiе безопасность каждаго; на нёмъ преподаются науки, отъ звѣздословiя до земледѣлiя. Художества черпаютъ изъ него жизнь и силу. Можетъ ли слава оружiя гремѣть въ роды и роды, могутъ ли законы и науки процвѣтать безъ языка и словесности? Нѣтъ! Безъ нихъ всѣ знаменитые подвиги тонутъ въ пучинѣ времени; безъ нихъ молчитъ нравоученiе, безгласенъ законъ, косноязыченъ судъ, младенчествуетъ умъ. Лучшiе наши умы были убѣждены, что языковѣдѣнiе не можетъ отказаться отъ возстановленiя древнѣйшаго Рускаго языка во всёмъ его строѣ и составѣ, со всѣми его корнями и словами, если не со всѣми безъ исключенiя, то по крайней мѣрѣ со всѣми главными.[13] Отсюда слѣдуетъ, что возвратъ къ Рускому письму и правиламъ языка XIX в., съ бережной правкой, необходимъ. Наши словари должны беречь первобытные виды и значенiя словъ, поскольку возстановленiе первоначальныхъ смысловъ словъ есть возстановленiе первоначальнаго языка. Въ каждой мѣстности Росiи слова и обороты народной рѣчи различны, хотя и составляютъ одинъ языкъ; ихъ должно сохранять какъ драгоцѣнный даръ, потому что въ мѣстныхъ нарѣчiяхъ, менѣе книжнаго языка подвергавшихся измѣненiямъ, сохранилось больше старины. Чѣмъ ближе языкъ къ Первобытному языку, чѣмъ онъ древнѣе, тѣмъ болѣе онъ дробится по мѣстнымъ говорамъ.[14] А изъ этого слѣдуетъ: сохраняя мѣстныя нарѣчiя, мы сберегаемъ нашъ языкъ въ цѣлости всего его гранесловнаго богатства. Народныя нарѣчiя не должны уничтожаться однимъ столичнымъ говоромъ. Замѣтимъ между прочимъ, что границы Рускихъ говоровъ въ основномъ совпадаютъ съ границами бывшихъ удѣльныхъ княжествъ, образованныхъ на земляхъ большихъ родовыхъ союзовъ, говорившихъ на особыхъ нарѣчiяхъ Рускаго языка, а границы говоровъ Европейскихъ Славянъ, гдѣ они не переродились ещё совершенно, – съ тамошними границами ихъ древнихъ земель.
Внѣшнiя измѣненiя нашей жизни безпредѣльны и требуютъ сообразныхъ выраженiй и словъ, обозначающихъ новыя явленiя. Нашъ народъ въ лицѣ власти, учёныхъ и писателей долженъ имѣть волю и умѣнье образовывать необходимыя слова, а не занимать ихъ въ угасающихъ языкахъ. Только народъ, создающiй слова-понятiя, за которыми стоятъ важнѣйшiе законы и явленiя его жизни, получаетъ право толковать и объяснять смыслы этихъ понятiй. Включая въ наши словари иностранныя слова, мы обрѣкаемъ себя на вѣчную вторичность, признавая первородство языковъ, которые таковыми не являются. Наши языковѣды могутъ очистить наши нарѣчiя отъ чужеземщины, которую мы сами вмѣшали въ нихъ, не умѣя цѣнить богатство своего языка, – призывалъ учёный В.А. Мацѣевскiй.[15] Сохраненiю Рускаго языка сильно помогъ бы отказъ государственныхъ властныхъ учрежденiй отъ бездумнаго включенiя иностранныхъ словъ въ наши законы и постановленiя. Нынѣ въ законотворчествѣ почти во всѣ рѣшенiя, упорядочивающiя различныя области общественной жизни, законодатели совершенно произвольно вводятъ иностранныя слова, подстраивая нашъ языкъ подъ Европейскiе словари и принуждая такимъ образомъ народъ употреблять чуждыя ему слова. Это касается области государственнаго строительства, народнаго права и хозяйствованiя, науки, искуства, здравоохраненiя и проч. Въ глазахъ такихъ дѣятелей иностранныя слова есть научныя понятiя, а Рускiя – просторѣчiе, «недопустимое» въ столь важныхъ бумагахъ, какъ законы страны. Необходимъ особый надзоръ за дѣятельностью государственныхъ учрежденiй въ этой области. Учитывая развитiе и широкое распространенiе средствъ передачи данныхъ (СМИ), такихъ какъ телевидѣнiе, радiо, печатныя изданiя, интернетъ, которыя, передавая населенiю опредѣлённые рѣчевые образы, какъ правильные, такъ и неправильные, оказываютъ огромное влiянiе на нашъ языкъ; всѣ они должны быть подчинены строгому порядку, направленному на сохраненiе чистоты языка.
Слѣдуя завѣщанiю нашихъ выдающихся учёныхъ о сохраненiи Рускаго языка, мы описали въ этомъ трудѣ весь составъ первообразныхъ и основныхъ производныхъ корней Рускаго языка съ объясненiемъ общихъ правилъ ихъ образованiя. Въ настоящей работѣ представлены важныя открытiя, а именно: 1) объяснены понятiя «первообразныя согласныя», «первообразная гласная», «первообразный корень»; 2) доказано, что нашъ языкъ, такъ же какъ Праязыкъ, содержитъ 12 первообразныхъ согласныхъ и 12 гласныхъ; 3) открытъ орудный (тѣлесный, природный) порядокъ первообразныхъ согласныхъ буквъ, объясняющiй, въ частности, плавные переходы значенiй корней въ Рускомъ языкѣ; 4) установлено предназначенiе большаго юса (ѫ) какъ древней корневой гласной и опредѣлены семь его частныхъ выговоровъ; 5) описано правило образованiя первообразныхъ корней вида СѪС (согласная-юсъ-согласная) сопряженiемъ первообразныхъ согласныхъ другъ съ другомъ попарно и размѣщенiемъ внутри каждой пары древней гласной юсъ (ѫ); 6) открыта и объяснена связь корней вида СГС (согласная-гласная-согласная) и совершенныхъ (полныхъ или истотныхъ) корней вида СГСС/ССГС/СГСГС; 7) составленъ Распредѣлительный чертёжъ Рускаго (Славянскаго) языка, представляющiй точную послѣдовательность всѣхъ корней Рускаго языка; 8) подведена научная основа для объясненiя прямаго и обратнаго чтенiя корней и словъ; 9) представлено дерево производныхъ корней, образованныхъ отъ первообразныхъ корней; 10) подсчитано число корней Рускаго языка въ общемъ видѣ.
Послѣ опредѣленiя полнаго состава первообразныхъ корней и ихъ производныхъ у нашей науки появится возможность заняться объясненiемъ высшихъ, то есть первичныхъ, отвлечённыхъ, первобытныхъ смысловъ первообразныхъ корней нашего языка, слѣдуя отъ частнаго къ общему, то есть двигаясь отъ опредѣленiя значенiй корней отдѣльныхъ однокоренныхъ словъ къ обобщённому значенiю корней куста однокоренныхъ словъ и далѣе къ значенiю ихъ общаго первообразнаго корня. И, можетъ быть, послѣ объясненiя смысловъ корней Руское языковѣдѣнiе сумѣетъ приступить къ выявленiю корней, на которыхъ основаны приставки и окончанiя словъ, предлоги, мѣстоименiя и союзы.
1.2. Происхожденiе языка
Происхожденiе языка неразрывно связано съ происхожденiемъ человѣка, а причина происхожденiя человѣка находится внѣ самого человѣка. Слѣдовательно, и причина возникновенiя языка находится внѣ человѣка. В.И. Вернадскiй, описывая «ноосферу» какъ земную оболочку всеобщаго разума человѣчества, замѣтилъ, что человѣкъ не является самодостаточнымъ живымъ существомъ, живущимъ отдѣльно по своимъ законамъ; онъ существуетъ какъ часть Природы. И въ этомъ свѣтѣ языкъ – это мыслительная или смысловая надличностная дѣйствительность, созданная Творцомъ, соединяющая человѣчество со Вселенскимъ Разумомъ. Языкъ вѣченъ и неизмѣненъ. Находиться въ области его влiянiя, быть «подключённымъ» къ нему или, напротивъ, «отключаться» отъ языка, удаляться отъ него, это дѣло и выборъ людей. Языкъ человѣческiй появился вмѣстѣ съ появленiемъ самого человѣка, какъ, впрочемъ, и соловьиная пѣсня вмѣстѣ съ соловьёмъ. Происхожденiе языка покрыто такою же тайной, какъ происхожденiе человѣка. Изслѣдователи давно сдѣлали выводъ – нельзя разсматривать вопросъ о происхожденiи языка внѣ происхожденiя человѣка; и если языкъ появился вмѣстѣ съ человѣкомъ, то не могло быть безъязычнаго человѣка. Болѣе того, духовныя ученiя разныхъ народовъ вопросъ о происхожденiи языка не отдѣляютъ отъ вопроса происхожденiя всего сущаго. Членъ Петербургской Академiи наукъ, признанный учёный XIX в., имѣющiй большой вѣсъ въ наукѣ языкознанiя, Ѳёдоръ Ивановичъ Буслаевъ писалъ о происхожденiи языка: «Языкъ есть не случайное изобрѣтенiе, совершённое однимъ или нѣсколькими лицами, а необходимое выраженiе дара слова, которымъ Творецъ отличилъ человѣка отъ прочихъ животныхъ. Образованiе языковъ сокрыто отъ насъ въ глубинѣ вѣковъ, предшествовавшихъ появленiю народовъ на историческомъ поприщѣ. Знаемъ только, что ни одинъ народъ, даже на самой низкой ступени общественнаго быта, безъ языка не обходился».[16] Въ учёномъ мiрѣ принято считать, что языкъ такъ же древенъ, какъ и сознанiе. Языкъ есть матерiальное воплощенiе мышленiя; языкъ и мышленiе возникаютъ и существуютъ вмѣстѣ какъ двѣ стороны одного и того же явленiя. Посредствомъ словъ или рѣчи мы вѣдаемъ названiя и сущность вещей и явленiй, такимъ образомъ, языкъ обезпечиваетъ наше мiровозрѣнiе, мiропониманiе. Слово есть первина мысли. Языкъ образовываетъ человѣка, складываетъ и развиваетъ его сознанiе и мышленiе, а не наоборотъ. Въ мыслительномъ и духовномъ смыслѣ языкъ создалъ человѣка, а не человѣкъ языкъ. По образному выраженiю Вильгельма Гумбольдта, не человѣкъ овладѣваетъ языкомъ, а языкъ овладѣваетъ человѣкомъ. Душа народа заключается въ его языкѣ. Языкъ – духъ, народъ – тѣло, мёртвое безъ этого духа, – утверждалъ выдающiйся Рускiй языковѣдъ И.И. Срезневскiй. Въ народномъ языкѣ кроется истинное повѣствованiе происхожденiя народа. При сравненiи разныхъ народовъ можно замѣтить, что образованность народовъ и ихъ языки взаимно обусловлены. Поступательные успѣхи въ просвѣщенiи и благосостоянiи какаго-либо народа тѣсно связаны съ языкомъ, на которомъ онъ говоритъ; если какой-нибудь народъ получаетъ въ наслѣдство отъ своихъ предковъ языкъ, не испорченный передѣлками и наиболѣе близкiй къ Первобытному, то это даётъ ему преимущества передъ другими народами въ его движенiи ко всеобщему просвѣщенiю.

