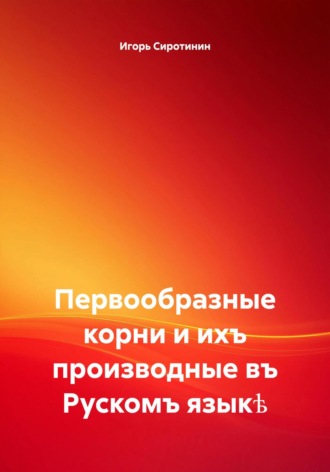
Полная версия
Первообразные корни и ихъ производные въ Рускомъ языкѣ
Языкъ, самъ человѣкъ и всё сущее на землѣ, животный и растительный мiръ, созданы Природой-Богомъ въ совершенномъ видѣ и не требуютъ никакого внѣшняго «развитiя», поэтому единственная обязанность человѣка – слѣдовать законамъ Природы, сохраняя свою породу, языкъ и среду обитанiя, по возможности въ первозданномъ видѣ. Однако какъ показываетъ опытъ человѣчества, это совсѣмъ не просто. Современныя духовныя ученiя въ значительной мѣрѣ утеряли знанiя объ истинныхъ законахъ Природы, а остатки ихъ не берутся къ руководству. Къ сожалѣнiю, общество сегодня находится подъ очарованiемъ ложнаго ученья, содержанiемъ котораго являются понятiя «эволюцiя» и «прогресъ». По мнѣнiю проповѣдниковъ этого ученiя, человѣчество обрѣчено на постоянное улучшенiе своей породы и возвышенiе духа. Безосновательно утверждается, что послѣдующiя поколѣнiя человѣчества становятся выше, здоровѣе и умнѣе предъидущихъ поколѣнiй.
Однако у насъ нѣтъ никакихъ доказательствъ тѣлеснаго или умственнаго возвышенiя (эволюцiи, латн.) человѣка. Напротивъ, если обратиться къ прошлому человѣчества, то мы увидимъ слѣды высшаго человѣческого вида по сравненiю съ нынѣшнимъ.[17] Нѣкоторые изслѣдователи справедливо замѣчаютъ по этому поводу: «эволюцiи, замѣнившей идею Бога, попросту придали божественныя свойства». Такъ или иначе, къ сожалѣнiю, нынѣ въ языкознанiи господствуетъ губительный для этой науки подходъ, который съ предѣльной ясностью и жёсткостью заявилъ Бодуэнъ де Куртенэ въ своей статьѣ «Языкознанiе, или лингвистика, XIX вѣка». Въ частности, онъ сказалъ: «Понятiе развитiя и эволюцiи должно стать основой лингвистическаго мышленiя».[18] Ради «прогреса» реформаторы готовы измѣнить природу вещей, отмѣнить языкъ и самого человѣка. Ничего болѣе вреднаго для языка придумать невозможно. Руководствуясь такимъ эволюцiонистскимъ подходомъ, отдѣльные учёные утверждаютъ, что Праязыкъ долженъ быть простымъ, а языки-потомки – болѣе сложными и разнообразными. Но на дѣлѣ всё оказывается совсѣмъ наоборотъ. Языки, произошедшiе отъ Праязыка, въ ихъ древнѣйшую пору, намъ доступную, по имѣющимся памятникамъ, отличаются особенною полнотою и разнообразiемъ гранесловныхъ образимъ (формъ, латн.).[19] И.И. Срезневскiй писалъ: возвращаясь отъ современнаго состоянiя Славянскаго языка всё далѣе назадъ, въ вѣка прошедшiе, наблюдатель видитъ тѣмъ менѣе признаковъ вырожденiя въ языкѣ, чѣмъ онъ древнѣе.[20] Ту же мысль высказывалъ П.А. Лукашевичъ о Рускомъ языкѣ: «Чѣмъ ближе доходимъ до его началъ, тѣмъ дивнѣе онъ себя кажетъ».[21] Отсюда слѣдуетъ, что послѣдовательная смѣна состоянiй Праязыка отъ его древняго положенья къ современному является не чѣмъ инымъ, какъ упадкомъ и разложенiемъ первоначальной стройности и совершенства этого языка.
Въ новыя времена механистическiй взглядъ на Природу, въ томъ числѣ и на происхожденiе и устройство языка, сталъ всеобщимъ. Объ этомъ твердятъ различныя западныя ученья, среди которыхъ – «теорiя звукоподражанiя», «теорiя междометiй», «теорiя общественнаго договора», «теорiя трудовыхъ выкриковъ» и проч., и проч. Согласно этимъ ученiямъ, языкъ не является врождённой способностью человѣка, а возникъ въ ходѣ пресловутой эволюцiи, жизнедѣятельностной (бiологической, греч.) или общественной (соцiальной, фрнц.). По «трудовому ученью», изъ нечленораздѣльнаго гуканья «первобытнаго» человѣка, больше похожаго на обезьяну, образовался языкъ людей. По мнѣнiю приверженцевъ этого ученья, «безъязычный человѣкъ» слышалъ звуки природы, журчанiе ручья, пѣнiе птицъ и т.п. и, стараясь подражать этимъ звукамъ, создалъ чудо Природы, которымъ является человѣческiй языкъ. Ѳ. Буслаевъ, отвѣчая на западно-Европейскiя ученiя о происхожденiи языка, говорилъ: «Мы не имѣемъ никакихъ историческихъ свидѣтельствъ, на которыхъ могли бы основать предположенiе о томъ, что люди сначала пользовались только отдѣльными членораздѣльными звуками, потомъ сложили ихъ въ слоги, а слоги въ слова, и наконецъ связали слова въ стройное цѣлое для выраженiя мысли. Напротивъ того, изъ исторiи всякаго языка убѣждаемся, что первоначальная форма, въ которой выразился даръ слова, есть уже цѣлое предложенiе, что совершенно согласно съ существеннымъ назначенiемъ дара слова – передавать мысли членораздѣльными звуками; ибо только въ цѣломъ предложенiи мысль можетъ быть выражена».[22] П.А. Лукашевичъ высказывался объ этихъ ученiяхъ ещё болѣе опредѣлённо: «Не зная ровно ничего о составѣ и объ образованiи своихъ языковъ, западные филологи увѣряютъ, а за ними гудутъ и наши, что на какомъ бы то ни было языкѣ названiя предметовъ насъ окружающихъ произошли отъ случая, звука, звукоподражанiя, слѣдовательно, составъ каждаго слова образовался отъ звучнаго случая при взглядѣ на какую либо вещь, и такимъ звукомъ она и названа».[23] Поборники ошибочнаго воззрѣнiя на происхожденiе языка забываютъ даже о томъ, что при отсутствiи языка безъязычный человѣкъ не могъ и мыслить, а слѣдовательно, что-либо создавать, тѣмъ болѣе языкъ. Ученые, утверждающiе, что человѣчество по своему хотѣнiю создало языкъ, уподобляются барону Мюнхаузену, который баснословилъ, что, ухватившись за свой чубъ, онъ вытащилъ себя изъ болота. Сегодня можно часто слышать отъ учёныхъ языковѣдовъ, что «языкъ живой организмъ и постоянно измѣняется». Вѣроятно, этими словами, повторяемыми вновь и вновь какъ заклинанiе, должны быть оправданы всѣ неблагопрiятныя явленiя, происходящiя въ томъ или иномъ языкѣ, а именно упрощенiе языка, забвенiе его основныхъ законовъ и важныхъ правилъ и т.п. Въ концѣ концовъ сторонники безхитростныхъ, грубо сдѣланныхъ умозаключенiй о происхожденiи языка отказываютъ такимъ образомъ въ разумности Вселенной. Стройность и математическая точность законовъ Рускаго языка, ихъ предопредѣлённость, тѣснѣйшая связь человѣческой рѣчи съ устройствомъ орудiй рѣчи человѣка и его мышленiемъ опровергаютъ «трудовое ученье» о языкѣ. Языки рода человѣческаго не составляютъ набора словъ, образованныхъ отъ простаго звукоподражанiя, а какъ часть Природы, устроены по разумному смыслу. Въ современной намъ рѣчи человѣка сохраняются остатки и памятники бывшаго нѣкогда его великаго образованiя, а можетъ быть, имѣются и зачатки лучшей его будущности, говорилъ П.А. Лукашевичъ.[24]
Въ различныхъ Индiйскихъ ученiяхъ, которыя обобщённо именуются йогой, божественное или природное происхожденiе языка подтверждается его совершенной взаимосвязью съ человѣческимъ тѣломъ и орудiями рѣчи. Какъ мы знаемъ, въ этихъ ученiяхъ много говорится о чакрахъ и ихъ звукахъ. Учителя индуистскихъ духовныхъ школъ утверждаютъ, что посредствомъ изученiя положенiя небесныхъ земель (планетъ, греч.) и звѣздъ на небѣ во время рожденiя для каждаго человѣка можетъ быть опредѣлёнъ особый корневой звукъ. Этотъ звукъ измѣняется въ зависимости отъ времени рожденiя человѣка. Обратившись къ этому начальному звуку, можно разсчитать, какихъ звуковъ не достаётъ въ тѣлѣ, и на основѣ такихъ знанiй возстановить равновѣсiе.[25] Такъ, буквы Санскритской азбуки связываются съ соотвѣтствующими чакрами: звукъ а, дыханiе жизни, размѣщается въ первой чакрѣ, въ копчикѣ; звукъ и, обозначающiй силу сознанiя, жизненную силу, размѣщается во второй чакрѣ, отвѣчающей за мужскiя и женскiя орудiя (органы, греч.) воспроизведенiя; звукъ у, знаменующiй умъ, хранящiй всѣ опыты-переживанiя, размѣщается въ третьей чакрѣ (печень, желудокъ, желчный пузырь); въ пятой чакрѣ, связанной съ горломъ и отвѣчающей за глосовое орудiе, размѣщается звукъ о.[26] Забѣгая вперёдъ, отъ себя прибавимъ – этѣ четыре гласныя считаются основными гласными буквами, одна изъ которыхъ, буква о, является первообразной (см. Таблицу 4).
Значенiе исходныхъ предпосылокъ въ наукѣ огромно; именно онѣ опредѣляютъ способы и направленiе изслѣдованiй. Поэтому вопросъ о происхожденiи языка для насъ важенъ не только въ общемъ, мiровозрѣнческомъ (философскомъ, греч.) отношенiи, но прежде всего въ отношенiи общихъ подходовъ къ изученiю языка. Если языкъ образовался «отъ случая», то изучать (зазубривать) его нужно какъ наборъ случайныхъ, не связанныхъ между собой положенiй, на чёмъ, собственно, основано Европейское языкознанiе. Если же языкъ имѣетъ божественное (природное) происхожденiе, то разсматривать его слѣдуетъ какъ совмѣсту (систему, латн.), подчиняющуюся строгимъ законамъ. Нельзя пройти мимо того обстоятельства, что общее представленiе (концепцiя, латн.) о языкѣ, основанное на «теорiи звукоподражанiя», «теорiи междометiй» и проч., препятствуетъ изученiю языка какъ цѣлостнаго предначертаннаго природнаго явленiя, имѣющаго разумное, правильное устройство. Ввиду того, что мы лишены возможности составить полную картину исторiи языка на основѣ письменныхъ памятниковъ, вопросъ о происхожденiи языка можетъ рѣшаться только на основѣ законовъ, которые мы сможемъ познать, увидѣвь ихъ въ живыхъ языкахъ народовъ. Всѣ правила Рускаго языка, которыя изслѣдователь можетъ уяснить себѣ, выводятся изъ готовой сокровищницы нашего языка, а не «придумываются» учёными. Полякъ В.А. Мацѣевскiй, членъ-кореспондентъ Археографической комисiи, писалъ въ XIX в., что Славянскiе языковѣды могутъ ещё черпать знанiя о языкѣ изъ жизни, а не изъ книгъ, что принуждены дѣлать изыскатели т.н. класическихъ языковъ, напримѣръ древне-Греческаго.[27] Развивая мысль Мацѣевскаго, скажемъ: живой Славянскiй языкъ въ своёмъ строѣ выявляетъ всѣ основные законы первоначальнаго языка человѣчества, открывающiеся внимательному и честному изслѣдователю. Лучшiй способъ преподаванiя языка можно уподобить тому, напримѣръ, какъ художникъ красками на полотнѣ открываетъ зрителю не только красоту, но и строенье изображаемаго имъ дерева, которыя обычно человѣкъ, прогуливаясь подъ его сѣнью, не замѣчаетъ.
1.3. Причины возникновенiя новыхъ языковъ
Большинство современныхъ языковъ сильно отдалились отъ своего первоначальнаго состоянiя. Въ древнiя времена, когда произошли значительныя перемѣны въ укладѣ жизни народовъ Свѣта, письменность была измѣнена, и это было связано съ возникновенiемъ новыхъ народовъ. То есть надо полагать, что уклоненiя отъ первобытнаго языка начались въ ту пору, когда стали появляться новые народы. Причиной же появленiя новыхъ народовъ было смѣшенiе человѣческихъ видовъ, и далѣе вмѣстѣ съ новыми народами образовались и новые языки. Образованiю новыхъ языковъ способствовали также обстоятельства, при которыхъ съ теченiемъ времени языки отдѣльныхъ народовъ понесли утраты изъ-за природныхъ бѣдствiй, вынужденныхъ переселенiй, войнъ и лѣности, возникающей отъ пресыщенiя. Первоначальныя знанiя о языкѣ забывались, а письмо и рѣчь такихъ народовъ претерпѣвали самыя гибельныя измѣненiя.
Въ своё время Аристотель говорилъ, что только видъ (форма, латн.) придаётъ матерiи дѣйствительное существованiе, дѣлаетъ вещь тѣмъ, чѣмъ она является. Другими словами, видъ, обликъ вещи есть осуществленiе того, что матерiя заключаетъ въ себѣ только какъ возможность. Эта мысль примѣнима и въ отношенiи взаимосвязи породы человѣка, его языка и мышленiя. Д. Анучинъ подчёркивалъ – особенности тѣлеснаго вида народа тѣсно связаны съ его духовнымъ складомъ и нравомъ. Поясняя мысль основателя антропологiи въ Росiи, необходимо сказать, что опредѣлённая кровь воспроизводитъ опредѣлённые образы мыслей, и вслѣдъ за этимъ возникаетъ опредѣлённый укладъ жизни; однако работаетъ это совсѣмъ не механически и не прямолинейно. Но ничѣмъ инымъ нельзя объяснить единообразiе укладовъ жизни близкородственныхъ народовъ, какъ только общей породой этихъ народовъ и единствомъ ихъ мышленiя. Различiе укладовъ жизни народовъ разныхъ породъ также выглядитъ совершенно естественно. Особенный языкъ составляетъ особенный кругъ понятiй, особенную печать народной жизни. Выраженье «особенный языкъ» обозначаетъ одновременно и «особенный народъ».[28] При измѣненiи породы народа мѣняется его кровь и, какъ слѣдствiе, перерождается духъ народа. Вслѣдъ за измѣненiями породы и духа народа рано или поздно измѣненiя претерпѣваетъ и языкъ этого народа,[29] потому что всякая особенность языка служитъ оруднымъ (органическимъ, греч.) или тѣлеснымъ выраженiемъ особенности мысли. Нравы и привычки народа тѣсно связаны съ происхожденiемъ и образованiемъ словъ его языка и составляютъ истинныя начала его дѣятельности въ мiровой исторiи. Очевидно, что уклоненiя, происходящiя въ языкѣ народа, прямо влiяютъ на воспрiятiе дѣйствительности этимъ народомъ. Опредѣлённое соотношенiе между мышленiемъ и языкомъ также задаётся тѣлесными отличительными свойствами народа, а точнѣе – его породой. Измѣненiе народной нравственности въ ходѣ его жизнедѣятельности идётъ вмѣстѣ съ измѣненiемъ языка народа. Въ такихъ уклоненiяхъ лежитъ причина на первый взглядъ простыхъ, а на самомъ дѣлѣ очень глубокихъ особенностей народовъ. У Японцевъ, напримѣръ, въ языкѣ нѣтъ обозначенiя зелёнаго цвѣта; зелёный цвѣтъ у Японцевъ отсутствуетъ потому, что въ ихъ языкѣ нѣтъ подходящаго слова; у Англичанъ и тѣхъ же Японцевъ въ радугѣ только шесть цвѣтовъ, а не семь, какъ у насъ. Если въ языкѣ опредѣлённаго человѣческаго сообщества, напримѣръ, нѣтъ понятiя «совѣсть», то и собственно совѣсти у этого народа какъ бы тоже нѣтъ.
Надо также учесть, что, перерождаясь въ связи со смѣшенiями съ другими человѣческими видами, народы переносили такiя тѣлесныя измѣненiя, которыя лишали ихъ возможности произносить нѣкоторые звуки Первобытнаго языка или ихъ сочетанiя въ первоначальной чистотѣ, и поэтому эти сообщества вынуждены были образовывать новые языки. Если какая-нибудь человѣческая помѣсь обособливалась, то тотъ языкъ, на которомъ она прежде говорила, находясь въ составѣ первобытнаго народа, преобразовывался въ такъ называемый «новый» языкъ. По словамъ Геродота, въ пору, предшествующую началу образованiя Греческаго языка, Греки не различали Пелазгическiя слова отъ своихъ. Эти слова Греческаго купца буквально означаютъ, что въ тѣ давнiя времена «древнiе Греки» говорили на Пелазгическомъ языкѣ, то есть, проще говоря, были Пелазгами. Послѣ, смѣшавшись съ иными человѣческими видами, потеряли свой первоначальный обликъ и, осознавъ свою тѣлесную и духовную обособленность, со временемъ стали выражать эту новую самость черезъ свой «новоязъ». Геродотъ очень хорошо показываетъ, какъ происходило превращенiе туземцевъ Грецiи, то есть Пелазговъ, въ новое сообщество, которое мы нынѣ знаемъ подъ именемъ Грековъ, принимаемыхъ историками за народъ древней Грецiи: «Отдѣлившись отъ Пелазгическаго племени, они [Элины] первоначально были слабы; но ничтожные вначалѣ, они стали потомъ сильны, разрослись въ нѣсколько народовъ благодаря главнымъ образомъ тому, что съ ними соединились Пелазги и многiе другiе Варварскiе племена».[30] Переводчикъ и толкователь Геродота И. Мартыновъ замѣчаетъ, что Элины, изгнавъ Пелазговъ изъ большей части Грецiи, изгнали и ихъ древнiй языкъ и ввели свой. Всё вѣрно, остаётся только поправить И. Мартынова въ томъ, что выраженье «изгнали Пелазговъ» правильнѣе будетъ замѣнить на Геродотовское «соединились съ Пелазгами», то есть смѣшались съ ними, образовавъ новый народъ. Сказанное относится и къ Латинскому и прочимъ языкамъ Западной Европы, которые являются составными, мозаичными языками. Въ пору ползучаго распространенiя Греко-Римскаго мiра на области коренныхъ народовъ, этотъ мiръ окружавшихъ, при которомъ поглощенiе (асимиляцiя, латн.) исконныхъ народовъ, а лучше сказать, ихъ перерожденiе, происходило путёмъ смѣшенiя разныхъ человѣческихъ породъ, возникало двуязычiе, шедшее всегда въ пользу Греческаго или Римскаго языковъ. Это двуязычiе свидѣтельствовало о нѣкоторомъ переходномъ состоянiи языка «Варварскихъ» народовъ, о вырожденiи языка коренныхъ народовъ. Вообще, бoльшая часть жителей Грецiи и Италiи являются потомками Бреговъ, Пелазговъ Азiи.[31]
Итакъ, языки Элинскiй и Латинскiй за тысячу лѣтъ до Р.Х. составляли нарѣчiя одного Пелазгiйскаго языка.[32] Професоръ Императорской Академiи наукъ Росiи В.К. Тредiаковскiй писалъ (1749), что всѣ народы Европы первоначально говорили на одномъ языкѣ, «пока не разлучились со своими братьями и не смѣшались съ другими народами, тѣмъ самымъ повредивъ свой древнiй языкъ новыми дiалектами, храня, впрочемъ, знатную часть словъ первородными».[33] О единомъ и общемъ Скиѳскомъ языкѣ свидѣтельствуетъ Годофредъ Генселiй (Godofredus Henselius, 1687–1767), говоря: «Древнѣйшiй языкъ, всѣмъ Европейцамъ общiй, называется Скиѳскiй». Другой Европейскiй писатель, Кирхмайхеръ, утверждалъ: на Скиѳскомъ языкѣ говорили Готы, Гуны, Сарматы, Аланы, Тавриски, Германцы и Кельты. Горнiй сообщалъ: «Явно, что у Терасканъ, Скиѳовъ, или Гетовъ, и у Амазонокъ единъ и тотъ же былъ языкъ; да и у всѣхъ безъ сомнѣнiя Западныхъ Скиѳовъ. Потомъ уже какъ новые народы произошли, такъ и языки между собою различились».[34]
Была и другая, не менѣе важная причина для человѣческихъ помѣсей, осознавшихъ свою особость, создавать свои отдѣльные языки. Дѣло въ томъ, что смѣшанныя сообщества, имѣя по меньшей мѣрѣ два истока своего происхожденiя, не хотѣли признавать эти начала своими предками, иначе имъ пришлось бы согласиться съ тѣмъ, что они – не первобытный народъ, а помѣсь разныхъ народовъ (породъ), что было бы для нихъ оскорбительнымъ. Поэтому такiя сообщества создавали себѣ баснословное происхожденiе и, конечно, новые языки. Замѣтимъ между прочимъ, что чѣмъ меньше число носителей языка, тѣмъ труднѣе сохранить первоначальный языкъ; поэтому малочисленныя помѣси могутъ сохранять свой языкъ только благодаря особымъ мѣрамъ общины или правительства той страны, въ которой они проживаютъ.
1.4. Корневые и слоговые языки
Подъ опредѣленiемъ «корневые языки» мы разумѣемъ здѣсь языки, основанные на корняхъ, которые въ общемъ случаѣ содержатъ согласную-гласную-согласную (см. Статью 5.3). Нѣкоторые изслѣдователи неловко и неточно называютъ письмо такихъ языковъ «буквеннымъ письмомъ». Нѣмецкiй языковѣдъ А.Ф. Поттъ (1802–1887) распредѣлилъ всѣ извѣстные ему языки на разряды, а именно на безсоставные (isolirende) языки, языки приставочнаго образованiя (agglutinirende) и флексивные языки. Какъ извѣстно, флексiей Европейцы называютъ измѣненiе гласныхъ въ корнѣ (внутренняя флексiя) и измѣненiе окончанiй словъ по склоненiямъ, спряженiямъ и перемѣнамъ рода, подъ которыми слѣдуетъ разумѣть музыкальные переходы гласныхъ, или, по Руски, – ко́йности (см. Статью 4.2). Языки, входящiе въ третiй разрядъ, Поттъ признавалъ правильными, подходящими опредѣлённому образцу; другiе два разряда – уклонившимися отъ образца, то есть неправильными. Такимъ образомъ, наиболѣе «развитыми» языками онъ считалъ языки флексивные, или флективные, къ которымъ относятъ т.н. Индо-Европейскiе языки, въ томъ числѣ Рускiй. Такое распредѣленiе языковъ до сихъ поръ примѣняется въ наукѣ. Поттово размѣщенье наличныхъ языковъ по разрядамъ по сути является расположенiемъ языковъ по ступенямъ ихъ вырожденiя.
Другое распредѣленiе языковъ народовъ нашей Земли предполагаетъ наличiе «синтетическихъ» и «аналитическихъ» языковъ. «Синтетическiе» языки имѣютъ сложную граматику – въ основномъ и за счётъ того, что ихъ корни подвергаются большому числу превращенiй, образующихъ множество производныхъ корней и далѣе словъ. Въ «аналитическихъ» языкахъ слова почти никогда не измѣняются. «Аналитическiе» языки, какiе мы знаемъ, когда-то были «синтетическими», но съ теченiемъ времени выродились и превратились въ языки «аналитическiе». По утвержденiю самихъ Европейскихъ учёныхъ, почти всѣ современные намъ языки Европы тяготѣютъ къ упрощенiю спряженiй, обѣднѣнiю или утратѣ склоненiй, то есть обнаруживаютъ стремленiе къ состоянiю «аналитическому», въ отличiе отъ ихъ древняго состоянiя, при которомъ эти языки имѣли сложныя спряженiя и богатыя и гибкiя склоненiя.
Не отрицая существующее нынѣ раздѣленiе языковъ, въ нашемъ изслѣдованiи мы будемъ подразумѣвать, что всѣ языки дѣлятся на двѣ части; къ первой отнесёмъ языки, въ той или иной степени сохранившiе корневыя основы, ко второй – слоговые языки, въ которыхъ значенiя вещей и явленiй передаются слогами, «морфемами», принимаемыми тѣмъ не менѣе за основы, за «единицы языка». Наше языкознанiе тѣ языки, которые мы называемъ слоговыми, именуетъ «аморфными языками» (безформенными, изолирующими, корнеизолирующими) и ошибочно «корневыми языками», приводя въ примѣръ такихъ языковъ языкъ Китайскiй.[35] Въ связи съ такимъ нашимъ распредѣленiемъ языковъ, приведёмъ мысль П.Д. Успенскаго о различныхъ частяхъ человѣчества, которая въ какой-то мѣрѣ пояснитъ нашъ взглядъ на корневые и слоговые языки: учёный вводитъ понятiе внутренняго и внѣшняго круга человѣчества. Внѣшнiй кругъ – кругъ смѣшенiя языковъ; здѣсь люди говорятъ на разныхъ языкахъ и никогда не понимаютъ другъ друга или каждый всё понимаетъ по-своему. Болѣе того, во внѣшнемъ кругѣ люди думаютъ, что могутъ, а тѣмъ самымъ и имѣютъ право, понимать одну и ту же вещь по-разному.[36] Отъ этого умственное разсужденiе не можетъ передаваться точно. Мыслитель разсуждаетъ такъ, а слушатель или читатель его понимаетъ иначе, такъ какъ косыми, кривыми или тупыми орудiями невозможно выстроить чего-либо порядочнаго, и въ произведенiи общаго цѣлаго выйдетъ та же неправильность, потому что мысль зиждителя вездѣ переиначивается – замѣчалъ по этому же поводу П.А. Лукашевичъ.[37] Внутреннiй кругъ – это языкъ взаимопониманiя между людьми. Здѣсь люди однѣ и тѣ же вещи понимаютъ одинаково.[38] По нашему мнѣнiю, къ внутреннему кругу относятся корневые языки, къ внѣшнему – слоговые. Слоговые языки являются наиболѣе удалёнными отъ Первобытнаго языка; они основаны на усѣчённыхъ корняхъ Первобытнаго языка. Основу слоговаго письма составляютъ открытые слоги, заключающiе въ себѣ значенiя первоначальныхъ корней. Слоговъ-корней въ такихъ языкахъ безчисленное множество; «безчисленное» потому, что полнаго списка этихъ слоговъ не существуетъ и его невозможно составить, потому что не существуетъ правилъ, по которымъ образовались эти слого-корни. Слоговое письмо имѣетъ огромный недостатокъ, состоящiй въ томъ, что въ ходѣ обученiя чтенiю и письму требуетъ запоминанiя множества знаковъ (логограммъ, греч.) отдѣльно отъ произношенiя. Языки, основанные на слоговомъ письмѣ, осваиваются исключительно зубрёжкой. Корневые языки, въ отличiе отъ слоговыхъ, предполагаютъ изученiе числовидовъ или выводовъ въ общемъ видѣ, общихъ законовъ языка, изъ которыхъ проистекаютъ частныя правила, не требующiя ученiя наизусть. Слоговое письмо есть послѣдняя ступень вырожденiя корневаго языка. Египетское iероглифическое письмо, напримѣръ, по сути своей являясь письмомъ слоговаго языка, образовалось путёмъ упрощенiя, а лучше сказать, вырожденiя первобытной Египетской корневидной письменности. Яркiй образецъ современнаго слоговаго письма представленъ Китайской письменностью. Китайскiй языкъ первоначально былъ устроенъ точно такъ же, какъ и всѣ другiе языки; но въ послѣдствiе Китайцы приняли что-то въ родѣ представительныхъ, изобразительныхъ (гiероглифическихъ, греч.) письменъ. Въ Китайскомъ языкѣ, по мнѣнiю Рускаго учёнаго-китаевѣда Н.Я. Бичурина (монаха Iакинѳа), нѣтъ ни словопроизводства отъ корней, ни измѣненiя словъ по окончанiямъ; даже можно утверждать, что нѣтъ въ нёмъ и словъ, а говорятъ Китайцы звуками, которые безъ связи съ другими звуками не могутъ представлять опредѣлительныхъ понятiй. Число такихъ звуковъ невелико и не простирается выше 446.[39] Другiе изслѣдователи говорятъ, что всё словарное богатство Китайцевъ состоитъ изъ 450, самое большое изъ 480 односложныхъ звуковъ.[40] Китайскiй языкъ основанъ на названiяхъ произвольно выдуманныхъ знаковъ для каждаго слова, а самыя слова – на усѣчённыхъ корняхъ, съ неправильными усѣченiями этихъ корней, какъ по истотному (прямому), такъ и по обратному чтенiю, то есть по чтенiю какъ слѣва направо, такъ и справа налѣво. Тѣмъ не менѣе нужно признать, что даже въ Китайскомъ языкѣ можно увидѣть истотные корни, пусть и въ усѣчённомъ видѣ, но всё же познаваемые; но бѣда въ томъ, что сами Китайцы, по ихъ пониманiю своего языка и способамъ его изученiя, уже не способны узнать эти сохранившiеся у нихъ корни Праязыка. Въ качествѣ примѣра приведёмъ нѣсколько Китайскихъ словъ, одни изъ которыхъ содержатъ только первые слоги полныхъ словъ, другiя представляютъ, полные или неполные, обратные выговоры Индо-Европейскихъ словъ. Въ данныхъ примѣрахъ для насъ опредѣляющимъ являются значенiя и произношенiя Китайскихъ знаковъ, а не ихъ начертанiе: бай (白) – бѣлый и бэй (北) – сѣверъ образованы отъ общаго корня белъ, бѣлый, но для Китайца эти два слова не связаны между собой никакой общей мыслью. Далѣе: вôмень (我们) – мы (=нами въ обратномъ прочтенiи иманъ, а съ придыхательной в вôменъ); гинь (金) – золото (=гѫтъ=гôлтъ=золтъ, золото); го (國) – государство (отъ корня госъ, власть); гу (鵝) – гусь; жи (日) – солнце (=жечь, жгу, жги, по Руски, отъ корня гогъ, огонь); жинъ (人) – люди (=генъ, люди, по Романски); ки – конь, а по новому выговору чи (騎) – конный воинъ, всадникъ; линь (林) – лѣсъ (=lignum, «древесина», латн.); минь (名) – имя (минь въ обратномъ выговорѣ=нôмъ, номеръ, имя, на Латынѣ); му (母) – мать; пань (胖) – толстый (=пѫнъ=полный, по Руски); пи (皮) – кожа (=pella, по Неаполитански, или въ обратномъ выговорѣ – лǒпа=лупа, кожура, по Малоруски); синь (星) – звѣзда (=сiяю, сiяй, по Руски); синь=шань (星) – молнiя (=сiянiе, по Руски); сы (子) – сынъ; сюэ (雪) – снѣгъ; та (他,她) – онъ, она (=тотъ, та, по Руски); хо (火) – огнь, огонь (=ho=огъ=гѫгъ); чуань (船) – корабль (=чёлнъ, по Руски; човнъ, лодка, по Малоруски); ши (食) – ѣда (=ѣшь, по Руски) и т.п.[41]

