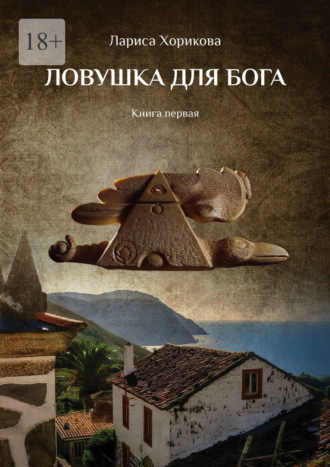
Полная версия
Ловушка для Бога. Книга первая
«Что оно может понять в этой книге? Что он изрекает и на каком языке? И кому он это говорит?» – с ужасом подумал Херман, невольно отнеся эту химеру к мужскому роду. Действительно, туловище было мужское, вполне человеческое, если бы не жуткие когти на пальцах рук и ног. Херман был так поражен увиденным, что не услышал, как к столу подошел художник.
– Нравится? – как всегда, с насмешкой спросил он Хермана.
Херман от неожиданности снова вздрогнул.
– Что… кто это? – выдавил Херман.
– А… это… – художник подбирал слова, – это человеческое существо.
– Таких не бывает! – горячо воскликнул Херман.
– Бывает… – опять горько усмехнувшись, ответил художник.
– У человека пять пальцев и нет когтей, и лицо, а не морда! – настаивал Херман.
– Ну, во-первых, у него четыре пальца, большой палец просто не видно за книгой, к тому же он небольшого размера. А морда… ну не всем же быть красавцами, – возразил художник.
Затем примирительно добавил:
– Вот уши – да, уши подкачали, слишком торчат, это верно.
– А кто сделал эту гравюру, ты? – спросил Херман.
– Мой учитель и я. Вернее, я увидел у него несколько рисунков с такими вот химерами. Он сделал эти рисунки много лет назад, хотел перевести их в гравюры, да все не решался. Ну я и предложил ему сделать их вместе. Было ясно, что эти гравюры надо делать в другой технике, ему непривычной. Но я убедил его, и мы попробовали, – рассказывал он. – Вот эта первая, не самая хорошая, – вздохнул художник, указывая на изображение химеры.
– А где же остальные? Вы их сделали? – с интересом спросил Херман.
– Нет, – глухо ответил он, – не успели.
– Но почему?
– Потому, что учитель умер. Я тогда учился в Академии искусств в Ден Босе. Настали рождественские каникулы, и я поехал в другой город домой к родителям встречать Рождество. Когда я приехал, все было уже кончено. Как мне потом сказали, сердечный приступ. Он был уже действительно стар, хотя при мне ни разу на сердце не жаловался. Я ничего не знал, и когда я пришел в дом к учителю, то застал там совершенно незнакомых мне двух пожилых женщин, его родственниц, которые уже навели там порядок. Родственницы приходились учителю двоюродными сестрами и, как оказалось, были двойняшками. Обе никогда не были замужем и жили вдвоем в доме своих давно умерших родителей в Зволле на севере Голландии. По вступлении в наследство они планировали продать дом учителя. Все рисунки и гравюры они собирались передать в дар музею Северного Брабанта. Но, по их словам, служащие музея отнеслись к их дару без энтузиазма и отказались принять его, мотивировав отказ тем, что испытывают острую нехватку помещений. Старинный пресс – единственное, что их заинтересовало, они сказали, что могут выкупить его за незначительную сумму и пришлют сотрудника взглянуть на пресс. Сестры было уже решили пойти в антикварную лавку, чтобы оценить кое-какие гравюры, как неожиданно получили очень выгодное предложение. Утром, едва они закончили пить утренний кофе, хорошо одетый господин средних лет постучал в дверь. Именно постучал, а не позвонил, хотя на двери был установлен электрический звонок. Он представился как профессор истории из университета, сказал, что он изучает историю Северного Брабанта и хотел бы ознакомиться с рисунками и гравюрами, поскольку они изображают реальные места, интересные ему с исторической точки зрения. Он был очень любезен, и они пригласили его в дом. Отказавшись от предложенного кофе, господин приступил сразу же к делу. Бегло просмотрев все рисунки и гравюры, он поинтересовался, не осталось ли каких-либо гравюр и рисунков еще, из недавних. Он особенно подчеркнул слова «из недавних». «Это все, что есть. Мы даже опись составили для музея», – заверили его сестры. При слове «музей» господин нахмурился, но, когда узнал, что музей отказался взять всю коллекцию в дар, рассмеялся и сказал, что это очень хорошо, так как он готов выкупить всю коллекцию целиком прямо сейчас. И он назвал «вполне приличную сумму», как заверили меня старушки. Словом, сделка состоялась. Господин расплатился наличными и оставил свою визитку, сказав, что если вдруг они обнаружат еще рисунки и гравюры, принадлежавшие их двоюродному брату, то он с удовольствием приобретет их по хорошей цене. «Он так и сказал: „По хорошей цене“», – повторили сестры и обе одинаково закивали головами. Потом, убедившись в том, что я действительно Иероним Баккер, старшая из сестер передала мне папку с несколькими гравюрами. На обложке старой папки было написано рукою учителя: «Для Иеронима Баккера. Лично в руки». Эти гравюры ты и видишь сейчас, – закончил свой рассказ Иероним.
– А где же его рисунки химер? У этого господина? – спросил Херман.
– Это я и сам хотел бы знать, – ответил художник. – Я спросил сестер, не видели ли они такого рода рисунки, но они заверили меня, что таких страшных рисунков они не видели, хотя «пересмотрели каждый листочек и сделали полную опись для музея до того, как приходил профессор». Выходит, что рисунки пропали, – заключил он. – Я попросил показать мне визитку того профессора, но сестры не смогли ее найти.
Вновь открыв папку, Иероним довольно долго смотрел на гравюру с химерой и наконец сказал:
– Часто бывает, что человек с виду как человек, а внутри как питекантроп, и горе, если такому дана власть над людьми. Он захватил право изрекать истины, смысл которых не способен понять, исказил их до неузнаваемости и принуждает людей слушать свой бред. А люди слушают и верят.
Он хотел что-то добавить еще, но, увидев, что Херман не понимает его, рассмеялся и сказал:
– Тебе многое надо узнать, много книг предстоит прочесть, чтобы не быть как это чудище.
Херман с обидой крикнул:
– Я не чудище!
Он отвернулся, чтобы скрыть почему-то неожиданно выступившие на глазах слезы.
– Я знаю, ты – человек, – спокойно и твердо сказал Иероним.
Херман продолжал стоять отвернувшись. Тогда Иероним подошел к кровати, порылся в папках и, вынув несколько листов, подошел с ними к Херману.
– Вот, взгляни на моих химер, – мягко сказал он и положил руку на плечо Хермана.
Херман дернул плечом, стряхивая руку, однако повернулся и посмотрел. То, что он увидел, поразило его не меньше, чем первая химера.
– Таких не бывает, где ты их видел? – с вызовом, продолжая обижаться на слова художника, спросил Херман.
– Да они тут, рядом с нами живут. Хочешь, завтра покажу? – спросил серьезно Иероним. Херман кивнул.
– Договорились. Уже поздно. Приходи рано утром ко мне, поедем в город, и увидишь сам, – с такими словами, провожая Хермана, художник закрыл дверь своей комнаты.
Херман прошел по дорожке мимо цветника к дому, прошмыгнул мимо тетушки наверх и долго лежал в темноте с открытыми глазами, представляя то одну гравюру, то другую, с ужасом вспоминая увиденных химер, вспоминая рассказанную художником историю о его учителе. Наконец, незаметно для себя, он погрузился в крепкий сон.
И вот сейчас, ранним свежим утром, он стоял перед цветником тети Хильды, смотрел на прекрасные розы и готов был идти хоть на край света, чтобы узнать все тайны вселенной. Идти, впрочем, пока было недалеко – до бывшей конюшни. Под навесом Херман увидел художника, укладывающего мольберт и другие нужные вещи в сумку на раме велосипеда. На груди у него висел большой бинокль.
– Молодец! Вовремя! – вместо приветствия сказал художник.
– Доброе утро! А бинокль зачем?
– Узнаешь, все узнаешь. Поехали! – весело ответил тот и взъерошил волосы Хермана.
Глава 7. Иероним открывает Херману тайну собора
Лето 1989
Иероним ехал на велосипеде очень быстро, Херман не отставал – на велосипеде он гонял с малых лет. Через полчаса езды они уже подъезжали к собору. У самого собора художник остановился, слез с велосипеда и, держа его за руль, подвез к высокому старому платану, раскинувшему крепкие гладкие ветви неподалеку от колокольной башни. Приставив к стволу, он ловко вскарабкался на велосипед. Встав на его седло, он смог, хотя и с трудом, дотянуться до первой ветви. Там была спрятана короткая самодельная веревочная лестница, верхний конец которой был накрепко привязан к ветви, другой конец свободно свешивался вдоль ствола и почти доставал до седла велосипеда.
– Лезь наверх, там на ветках есть доска, – негромко скомандовал он.
Херман удивленно взглянул на Иеронима:
– А велосипеды?
– Никуда они не денутся, оставь под деревом. Ну, полезай же! – нетерпеливо повторил он.
Херман легко взобрался по узким ступенькам, сделанным из аккуратно нарубленных довольно толстых сучьев и перевязанных по краям двумя толстыми веревками, переступил на нижнюю толстую ветвь и дальше, как по лестнице, с ветви на ветвь поднялся до развилки почти у самой вершины, на которой были пристроены две узкие доски для сидения.
– Садись на левую, – донесся снизу голос Иеронима, и почти сразу же показалась голова, а затем и весь Иероним.
– Садись, садись же. Да нет, в другую сторону! – И художник перебрался на правую доску и ловко уселся на нее, свесив ноги.
Херман наконец устроился на доске, и в проеме, проделанном в густой листве, он увидел, как на ладони, полуарки собора Святого Иоанна.
– Видишь полуарки, как на гравюре? – нетерпеливо говорил Иероним. – Видишь? Теперь смотри в бинокль.
Он перекинул ремень от бинокля через шею Хермана. Херман поднес бинокль к глазам. В голубоватой дымке раннего утра он увидел то, что было скрыто от глаз людей.
– Видишь полуарки? Видишь фигурки на ребрах? Видишь гаргульи, по одной над каждой полуаркой? А галерею и проход над ними? А дверь в стене под самой крышей? – спрашивал художник.
Херман кивал:
– Да, да, вижу.
Наконец оторвавшись от бинокля, Херман спросил:
– Что это?
– Это тайна, – серьезно ответил Иероним.
– Чья? – выдохнул Херман.
– Строителей собора, вернее, цеха каменщиков, – ответил художник, – их каменная книга о прошлом, настоящем и будущем человека и человечества.
– Зачем? Для чего? – недоуменно воскликнул Херман.
– Чтобы передавать знания, чтобы не исчезло в веках. Об этом они не могли говорить открыто, приходилось скрывать, прятать. Иначе смерть, – объяснял Иероним. – Вот они и спрятали свое послание так высоко, что не видно с земли. А на галерею церковники, что принимали собор, не ходили. Животы, наверное, мешали. Был договор украсить здание – они его украсили. А для самых досужих всегда можно сказать, что это все черти да дьяволы из ада.
– А разве это не так? – удивился Херман.
– Все намного сложнее. Потом объясню. Хватит болтать, рисовать надо, – решительно прервал разговор Иероним и принялся доставать рисовальные принадлежности. – Ты начни с более простого – с гаргульи. Рассмотри ее как следует и рисуй по памяти, потом снова посмотри, сверься. А то бинокль один. А я, пожалуй, займусь барабанщиком.
Художник оборвал разговор и в течение двух часов не проронил ни слова. Херман бился над гаргульей, она не давалась: то получалась песья морда, то вообще непонятно что. В гаргулье на рисунке Хермана не было напряжения, не было страшной силы, заставляющей ее пробивать толщу стены. Херман уже был на грани отчаяния, когда Иероним молча взял из его рук карандаш и несколькими уверенными линиями заставил гаргулью стать жуткой, страшной гаргульей, вылетающей на свет божий, чтобы либо раствориться, растаять, как мираж в солнечных лучах, либо поселиться в чьей-то темной душе и терзать ее до самой смерти.
У Хермана сжималось сердце оттого, что он осознавал, что не умеет рисовать. Он посмотрел на рисунок Иеронима: сходство со скульптурой на ребре полуарки было поразительное. Суровый барабанщик в униформе звал на бой. Усталое печальное лицо, во всей фигуре обреченность. Что хотел сказать создатель скульптуры?
– Он так печален, – сказал Херман и взглянул на художника. Тот протянул ему бинокль:
– Посмотри, кто сидит за ним.
– Человек, которому мешает думать барабанный бой, он как будто правой рукой отгораживается от шума, – неуверенно сказал Херман, глядя в бинокль.
– Я тоже так думаю. А барабанщик все барабанит, и другого ему не дано, – согласился художник и продолжал: – Жаль, нельзя разглядеть их поближе. Даже лиц у большинства скульптур толком не видно, приходится додумывать. Я их почти все зарисовал, которые видны, конечно. Я тебе их дома покажу. А сейчас давай перекусим.
Он убрал рисунки и карандаши и достал сверток с едой. Хлеб, круг копченой колбасы, два яйца и два яблока пришлись кстати. Хорошо было сидеть в гуще старого платана, заплетенного плющом, смотреть на облака в небе, слышать далекие голоса и шум города и ощущать, что ты свободен, пусть на короткое время, но свободен. И самое главное – знать, что ты знаешь о тайне. Херман вспомнил рассказ Иеронима о своем учителе и спросил:
– А твой учитель, он что, все скульптуры зарисовал?
Иероним кивнул:
– Да, все сорок две. В фас и профиль с двух сторон.
– А как он смог? Ведь почти ничего не видно! – с недоумением воскликнул Херман.
– Еще до войны он работал реставратором в соборе. Он был резчиком, это потом, уже в старости, он занимался гравюрой. Каким-то образом он раздобыл слепок с ключа от двери, ведущей на галерею, сделал ключ и ночами при свете луны рисовал. Об этом никто не знал. Он мечтал, что когда-нибудь сделает хотя бы часть этих скульптур в камне. Но не случилось. – Художник нахмурился. – Гравюры мы сделать не успели, а потом все рисунки пропали. Ну, ты теперь знаешь.
– Давай и мы прокрадемся ночью в галерею, спрячемся вечером, никто нас не заметит, отопрем двери и пройдем! – с мальчишеской горячностью сказал Херман.
– Смотри не свались с дерева, Зорро! – с насмешкой ответил художник. – Рисовать собираешься или все болтать будешь? Еще часика два поработаем и поедем.
Херман принялся рассматривать далекие скульптуры в бинокль. Теперь он рассматривал их с тем, чтобы решить, какую фигуру постарается зарисовать. Рисовать людей ему казалось слишком сложно, и он решил выбрать какое-нибудь чудище, какую-нибудь химеру попроще. Каких чудищ там только не было! Прав был Иероним, говоря, что их полно и они живут по соседству. Наконец он остановился на химере самой последней в ряду на крайней полуарке, где были изображены строители соборов. Их хорошо было видно в профиль, даже они были немного развернуты в их сторону, особенно последний, с заостренными длинными ушами, курносым носом, огромным ртом и глубоко запавшими глазами. Казалось, он одержим какой-то печалью, граничащей с безысходностью. «Оказывается, они могут печалиться», – с удивлением подумал Херман и испытал щемящую жалость к этому существу. Он сидел за спиной человека в шляпе с полуопущенными полями, скрывающими алчное выражение лица, с круглой изукрашенной котомкой между ног. Впереди этого денежного мешка расположился с удобствами веселый свиноподобный гость из преисподней. Оба чудища сложили свои руки-лапы крест-накрест, как бы замкнув пространство вокруг господина с мешком. Херман оторвался от бинокля и взглянул на рисунок Иеронима. Оказалось, что он начал рисовать фигуру резчика по камню – насупленного, полностью закрытого одеждой, с капюшоном на голове. Лица почти не было видно, и выражение лица было непроницаемо. В руках у него были киянка и резец.
Перед ним каменщик с радостно-блаженной улыбкой держал в руках ровный кирпич, готовый, чтобы его положили в кладку рядом с тысячами других таких же ровных, одинаковой формы и размеров, кирпичей. Поля его шляпы были подняты наверх, открывая бесхитростное лицо человека, готового делать и делать тысячи кирпичей. И наконец, шестым в ряду был еще один человек. Его лица практически не было видно, так как он поворотился немного в сторону, противоположную от Хермана. Видно было, что он как будто поднес правую руку к губам, делая знак. У него то ли как будто что-то лежало на коленях, то ли он держал что-то в левой руке. Судя по изящной шляпе и изящным туфлям, длинным полам его кафтана, человек этот был достаточно состоятельным – скорее всего, архитектором. Во всяком случае, так показалось Херману. В этот момент художник забрал у Хермана бинокль, и Херман принялся рисовать печального стража по памяти. Ему удалось передать сходство и истомленное печалью лицо, хотя, конечно, это была морда, но чувство каким-то чудесным образом преображало ее. Художник закончил своего каменотеса.
– Ты молодец, – просто сказал он. – Давай собираться, скоро солнце сядет.
Херман только сейчас понял, что уже приближался вечер. Домой они приехали затемно.
– Мы поедем еще рисовать? – с надеждой спросил Херман, когда они ставили велосипеды под навесом.
– Что? Понравилось? – спросил Иероним и, не дожидаясь ответа, кивнул.
Тетушка еще утром прочитала записку, оставленную Херманом на кухне на столе, о том, что он поедет с Иеронимом в город, и припасла ему немного еды. Херман заглотил холодный ужин, нырнул под одеяло и тут же заснул со счастливой улыбкой на губах. Ночью ему приснился каменщик, с радостной улыбкой протягивающий ему кирпич.
Глава 8. Знакомство с Микки. Учеба в академии
Апрель 2012
Резкий велосипедный звонок вернул Хермана к действительности. Он стоял у того самого платана. Казалось, что платан не изменился, только еще больше, до самой верхушки, его оплел плющ. «Интересно, лестница все еще там? Вот бы проверить…» – подумал Херман. Воспоминания вновь нахлынули на него помимо воли.
Август 1998
После того как они познакомились у собора, Микки привела его к себе на съемную квартиру недалеко от соборной площади. Квартира была крошечной, она снимала ее вдвоем с подругой, они раньше вместе учились в Роттердаме. Теперь обе приехали поступать в Академию искусств в Ден Босе.
– Выпить хочешь? – спросила небрежно Микки, освободившись от рюкзака за спиной и бросив его на пол у диванчика в гостиной.
– А как же косячок? – поинтересовался Херман.
– Да я даже сигареты не курю, не то что косячок, – фыркнула Микки. – А ты?
Херман почему-то обрадовался, услышав ее признание, но сказал:
– Значит, обманула? Ну, я пошел.
– Ну и катись откуда пришел! Все вы одинаковые, уроды! – крикнула Микки.
– Эй, полегче! – ответил Херман.
Потом примирительно добавил:
– Не сердись, я тоже не балуюсь – тошнит.
Микки удивленно взглянула на него и, как бы удивляясь чему-то в себе, сказала:
– Знаешь, я почему-то там сразу так и подумала про тебя. Когда ты спросил про гаргулий…
Немного помолчав, она спросила:
– Хочешь взглянуть?
Херман заинтересованно кивнул. Микки достала из папки рисунок. Это была действительно гаргулья, похожая на злую собаку, точно скопированная. Все в ней было правильно: и злобная оскалившаяся морда, и поза. Не было главного: жутко не было.
– Ты в бинокль на нее смотрела? Это в нижнем ярусе? – спросил Херман.
– Конечно в нижнем, других выше не разглядишь. Что, не нравится?! – с вызовом спросила Микки.
Херман молчал.
– Сам-то рисовать умеешь? Умеешь – нарисуй! Что? Не можешь? – уже кричала Микки.
Херман взял карандаш. На мгновение мысленно он оказался у самой вершины платана, увидел свой первый рисунок гаргульи, увидел уверенный карандаш художника, скользящий по бумаге и оживляющий его гаргулью. Гаргулья слетела с листа и исчезла в пространстве. Херман несколькими штрихами обозначил гаргулью, нарисовал крылья. Это был набросок, но гаргулья ожила.
– Таких не бывает! – воскликнула Микки. – Где ты видел крылатых?
– Бывают, они вырываются из стен, – ответил твердо Херман.
Взглянув в глаза Микки, добавил:
– Я тебе покажу.
Херман познакомился с Микки в день своего приезда в Ден Бос, в котором не бывал с того лета, когда работал у дяди курьером. Он и художник еще два воскресенья провели вместе на ветвях платана, рисуя тайные скульптуры собора. Затем пришла пора возвращаться домой. На прощание художник подарил ему свой рисунок флейтиста, который сделал в последнее воскресенье. Теперь у Хермана было четыре рисунка: гаргулья, печальное чудище, молодой волынщик, которого Херман нарисовал за два оставшихся воскресенья (по совести, с помощью Иеронима), и прекрасный флейтист. На своем рисунке Иероним написал: «Херману, моему брату-художнику» – и поставил свою подпись. Херман ехал домой уже другим, он уже знал, чем будет заниматься в жизни: он будет художником. По окончании школы, несмотря на споры с родителями, особенно c отцом, Херман поступил в Академию дизайна в Утрехте и получил степень бакалавра. За время учебы Херман понял, что хочет заниматься скульптурой, работать в камне. Курс скульптуры в академии не удовлетворил его, и теперь, по окончании, он намеревался продолжить учебу. Вопрос, где продолжить учебу, оставался открытым, и он приехал в Ден Бос, чтобы познакомиться воочию с Академией искусств, навестить тетю Хильду и дядю Хэнка и поговорить, смогут ли они дать ему кров на время учебы, и на каких условиях. Их первый вечер с Микки закончился довольно поздно: поговорив о гаргульях, они решили пойти куда-нибудь поесть, потом пошли гулять по городу, показывали друг другу любимые места, рассказывали смешные истории из своей жизни и не заметили, как уже стемнело. У дверей дома, где Микки снимала квартиру, они расстались, договорившись увидеться назавтра в академии. Херман осмелился на поцелуй и слегка коснулся ее щеки. Щека была прохладная, лунный свет падал на нее полосой. Микки замерла на мгновение, затем отстранилась и шепотом сказала:
– До завтра.
– До завтра, – ответил Херман.
Микки толкнула дверь и исчезла.
Вернувшись в дом тети, Херман увидел на столе на кухне от нее записку: «Возьми эту коробку, это оставил тебе Иероним, когда уезжал». Коробочка была обернута красной бумагой, и открыть ее можно было, только разорвав обертку. Херман разорвал бумагу и развернул. Внутри оказалась коробочка из-под песочных часов. Открыв коробочку, Херман увидел довольно большой затертый ключ странной конфигурации, на ключе было кольцо с короткой лентой. На ленте почерком, которым умели писать только пожилые люди, было написано: «Верхняя галерея». Херман взял ключ. Вопрос, где он будет учиться дальше, был решен.
Херман проснулся на следующее утро в 6:30. Быстро оделся, влез в холодильник, сделал наспех пару бутербродов и, вскочив на старый велосипед под навесом, на котором он шесть лет тому назад развозил канцтовары, поехал в центр города. Подъехав к платану, он приставил велосипед к стволу, взгромоздился на сиденье и протянул руку к первой ветви платана. Лестница была на месте. Через мгновение Херман оказался в их тайном убежище. Ничего не изменилось, только доски слегка потемнели да проем в листве стал намного меньше. «Не беда, – подумал Херман, – надо взять с собой нож». Собор стоял несокрушимо, только как будто стал светлее. «Теперь надо достать бинокль, – размышлял Херман, спускаясь вниз по лестнице. – Дождусь, когда откроется магазин, куплю, а потом поеду в академию».
Херман как раз успел к началу дня открытых дверей в академии. Он уже побывал на нескольких кафедрах и посетил пару мастер-классов, когда столкнулся с Микки по дороге в буфет. Оказалось, что собралась целая компания и все собираются идти в пивной бар. Херман пошел вместе с ними.
Все три дня, пока Херман оформлял документы для учебы в академии, Микки была неуловима, она проводила время со множеством знакомых, казалось, она избегает Хермана, и Херман уехал в Утрехт, не попрощавшись.
С середины сентября начались занятия, и Херман и Микки оказались в одной группе. Херман удивился, узнав, что Микки будет заниматься скульптурой, она об этом ему ничего не говорила. «Она такая худая, маленькая, что она будет делать с камнем?» – думал Херман, глядя на нее. На занятиях они рисовали, лепили, до работы в камне было еще далеко. На одном из первых занятий им дали задание изобразить химерическое существо: придумать дома, а рисовать на занятии. Херман решил, что он нарисует то печальное чудище, рисунок которого до сих пор хранил в папке. В конце занятия у Хермана все было готово: существо с заостренными длинными ушами, курносым носом, огромным ртом и глубоко запавшими глазами сидело на самом краю кирпичной стены. Все было так, как на том рисунке, кроме кирпичной стены и кроме самого главного – существо не было безысходно печальным, и, глядя на него, сердце не щемило. Но об этом никто не знал. Все смотрели и поражались. Больше всех восхищался преподаватель, хотя и пытался скрыть свои чувства. А у Микки с рисунком была беда: у нее ничего не получалось. По сути, у нее не было даже наброска. У всех были хотя бы наброски – пусть никуда не годных уродцев, но все же все что-то придумали. Микки нарисовала толстый ствол дерева, из ствола нелепо торчали две женских руки. Преподаватель взглянул на рисунок. «Какая нелепица!» – громко сказал он и пошел дальше. На этом занятие закончилось. Все с шумом вывалились из класса. Херман смотрел, как Микки медленно собирает вещи, и понимал, что она боится поднять голову из-за слез. Дождавшись, когда класс опустеет, Херман закрыл дверь и подошел к Микки. Она, отвернувшись, молча смотрела в окно.



