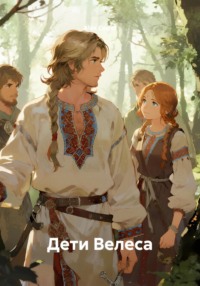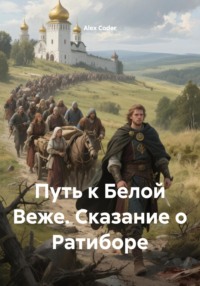Полная версия
Пелена Мары
Сотник Доброгаст, комендант самой западной заставы "Волчий Брод", был человеком, которого трудно было чем-либо удивить. Седой, шрамированный, потерявший два пальца на левой руке в стычке с ляхами лет двадцать назад, он знал эту землю, как свои пять (а точнее, три) пальца. Он умел читать следы, как книгу, и по полёту птицы мог предсказать, есть ли в лесу чужаки.
И последние несколько недель ему было не по себе. Что-то изменилось. В лесах стало слишком тихо. Пропали мелкие шайки ляхов, которые обычно шастали по порубежью в поисках лёгкой добычи. Перестали приходить на торг бродячие купцы из-за реки. Эта тишина была неестественной, зловещей, как затишье перед бурей.
Каждый день он отправлял дозоры – небольшие группы по трое-четверо всадников, которые уходили далеко на запад, на вражескую территорию, чтобы "пощупать" обстановку. И каждый раз они возвращались с всё более тревожными вестями.
– Там движение, сотник, – докладывал один из дозорных, молодой воин по имени Верен. – Мы забрались на высокий курган у Чёрного леса. Горизонт дымит. Не один-два дымка, а десятки. Будто большое войско встало лагерем.
Через несколько дней другой дозор принёс ещё более страшные новости.
– Они идут на север, на пруссов. Мы видели их авангард. Тысячи, Доброгаст! Такого мы ещё не видели. Идут строем, с обозом. У них один стяг – чёрный, с волчьей головой.
Доброгаст нахмурился, потирая седую бороду. Один стяг. Это подтверждало худшие слухи. Ляхи объединились.
– Отправим весть в Перемышль, – решил он. – Пусть наместник знает, что соседи наши затеяли большую игру.
Гонец ускакал, а напряжение на заставе нарастало. Через неделю дозорные, возвращаясь, были бледны и взволнованы.
– Они разбили пруссов, сотник, – выпалил Верен, едва спешившись. – Мы пробрались к их павшей крепости, к Ромове. Там… там бойня. Всё сожжено, земля пропитана кровью. Мы говорили с одним уцелевшим пруссом, он прятался в болотах. Говорит, ляхов была тьма, и вёл их сам вождь Лех. Говорит, они лютовали, как демоны.
Доброгаст слушал, и его лицо становилось каменным. Он понял. Поход на пруссов был не просто походом. Это была разминка. И теперь, опьянённая лёгкой и кровавой победой, эта армия должна была куда-то направить свою ярость. И ближайшей целью была его земля.
Приказ был отдан немедленно. Ночью на самой высокой башне заставы вспыхнул огромный сигнальный костёр, рыжее пламя которого взметнулось в ночное небо. Это был древний, понятный всем на границе сигнал. "Большая беда. Враг у ворот". Далеко на востоке, на соседней заставе, его увидели и зажгли свой костёр. И так, от заставы к заставе, огненная цепь тревоги покатилась вглубь Руси.
Одновременно с этим из ворот "Волчьего Брода" вылетел второй гонец. Не в ближайший город, а напрямую в Киев. Скакать ему предстояло больше двух недель, загоняя коней, но весть, которую он нёс, была слишком важна.
А дозоры продолжали приносить плохие новости.
– Они поворачивают, сотник! – доложил Верен на следующий день. – Их основные силы движулись на юг, в нашу сторону!
– Сколько их? – сухо спросил Доброгаст.
– Мы не можем сосчитать. Колонна растянулась на полдня пути. Их становится всё больше и больше. Стягиваются мелкие отряды.
Доброгаст взобрался на смотровую башню. Он долго смотрел на запад, на далёкую линию горизонта, где небо уже казалось темнее обычного от дыма далёких костров. Он был старым, опытным воином. Он знал, что его застава, с её тремя десятками бойцов, не продержится против такой армады и часа. Пытаться дать бой здесь – значило совершить бессмысленное самоубийство.
– Собирать всё, что можно унести, – отдал он приказ, спустившись с башни. – Лошадей, оружие, зерно. Остальное – сжечь. Скот выпустить в лес.
– Мы отступаем? – с недоверием спросил Верен. Сторожа не привыкли отступать.
– Мы не отступаем, – твёрдо ответил Доброгаст. – Мы уходим, чтобы сражаться дальше. Живыми мы нужнее Руси, чем мёртвыми. Наша задача сейчас – не геройствовать, а предупредить и укрепить города. Пусть они ломают зубы о стены Перемышля и Владимира, а не перебьют нас поодиночке.
Тревога на границе стала реальностью. Тихая, незаметная война разведчиков и дозорных закончилась. На горизонте появилась настоящая армия. И первые русские воины, увидевшие её, поняли, что на их землю надвигается буря невиданной силы.
Глава 41: Тактическое Отступление
Решение, принятое сотником Доброгастом на заставе "Волчий Брод", не было актом трусости. Это был холодный, взвешенный расчёт старого воина, который ценил жизни своих людей выше бессмысленной славы. И он был не один. Вдоль всей западной границы, от болотистых северных лесов до южных степных окраин, другие командиры пограничных застав, получив тревожные вести от своих дозорных и увидев зловещие огни на горизонте, приходили к тому же выводу.
В "Медвежьем Углу", остроге, затерянном в густых чащобах, сотник Ратша, хмурый и молчаливый охотник, собрал своих людей. Они были мастерами лесной войны, способные неделями жить в чаще, питаясь кореньями и мелкой дичью. Каждый из них стоил троих в лесной стычке. Но они были бессильны против тысяч.
– Враг идёт стеной, – сказал он своим воинам, собравшимся во дворе острога. – Через наш лес ему не пройти, увязнет. Он пойдёт южнее, по большой дороге. Наша задача – идти тенью. Тревожить его обозы, резать отставших, путать следы. Но острог мы оставляем. Мёртвые стены нас не защитят. Наша защита – лес. Разойдитесь малыми группами. Встречаемся через три дня у Лисьего Камня. А оттуда уходим к Владимиру. Городу нужны будут наши глаза и уши.
Он лично поджёг сеновал, и вскоре пламя охватило деревянные стены, которые были ему домом последние десять лет. Лучше сжечь самим, чем оставить врагу на поругание.
Южнее, на "Быстром Перекате", заставе, что стерегла важный брод через реку, молодой и горячий сотник Мстислав поначалу рвался в бой.
– Мы не уступим им ни пяди родной земли! – кричал он своим воинам. – Умрём здесь, но задержим их!
Но его помощник, старый и мудрый дружинник по имени Живота, остудил его пыл.
– И на сколько мы их задержим, княжич? На час? На два? Они переправятся в другом месте, а мы все поляжем здесь зазря. А кто тогда скажет наместнику в Червене, где у врага слабые места? Кто поведёт дружину ему в тыл, когда начнётся осада? Твоя храбрость нужна не здесь, а там, где она принесёт больше пользы.
Мстислав, скрепя сердце, согласился. Его гарнизон, забрав всё оружие и припасы, под покровом ночи отошёл на восток, оставив брод беззащитным, но сохранив отряд, который ещё сыграет свою роль в грядущей войне.
Так, по всей границе началось организованное, тактическое отступление. Это не было паническим бегством. Это была стратегия выжженной земли и сохранения сил. Воины уходили, забирая с собой всё ценное, отравляя колодцы, уничтожая мосты. Маленькие гарнизоны, разбросанные по огромной территории, стекались, как ручейки в большую реку, к стенам ближайших пограничных городов: Владимира-Волынского, Перемышля, Червена, Белза.
Но отступали не только воины. Тревожные вести, разносимые всадниками и беженцами, летели впереди польского войска. Жители приграничных деревень и хуторов, услышав о приближении невиданной рати и о судьбе пруссов, бросали всё.
– Ляхи идут! Лютуют! – неслось из уст в уста.
Люди спешно собирали самое необходимое – мешок зерна, икону, детей – и уходили. Кто-то, понадеявшись на мощь городских стен, тянулся со своими скрипучими телегами к городам, создавая на дорогах заторы. Другие, кто не доверял никому, кроме себя, уходили в леса и болота, в тайные, известные только им "лесные станы", где можно было переждать беду.
Граница пустела. Она превращалась в серую, ничейную зону. Когда авангард польской армии Леха наконец пересёк реку Буг, формальную границу русских земель, их встретила тишина. Пустые, брошенные деревни. Дымящиеся руины пограничных застав. Заросшие, невозделанные поля. Ни добычи, ни врага, с которым можно было бы сразиться.
Это сбивало с толку и злило. Лех рассчитывал на стремительный, ошеломляющий удар, на панику, на богатую добычу с первых же шагов. А вместо этого он шёл по опустошённой земле.
– Они боятся нас! – хвастливо кричали его воины. – Они бегут, как зайцы!
Но Лех и его более опытные вожди понимали, что это не так. Это не было бегством. Это была ловушка. Их заманивали вглубь, утомляя переходом по враждебной земле, лишая провианта и растягивая коммуникации. Они чувствовали, что где-то там, впереди, за стенами этих молчаливых городов, их ждёт организованный, яростный отпор.
Тактическое отступление пограничников выполнило свою главную задачу. Эффект внезапности был потерян. Пограничные города, усиленные прибывшими гарнизонами и предупреждённые о масштабах угрозы, получили драгоценное время на подготовку. Они спешно чинили стены, запасали воду и провиант, собирали ополчение. Граница не пала. Она лишь сжалась, как пружина, готовясь к ответному удару.
Глава 42: Пустые Деревни
Весть о беде летела быстрее самого быстрого всадника. Она передавалась не грамотами и приказами, а паническим шёпотом, тревожным взглядом, преувеличенными слухами, которые разносились от хутора к хутору, от села к селу. Старик-рыбак, видевший на горизонте зарево сожжённой заставы, рассказывал об этом на переправе. Женщина, бежавшая из своей деревни, стучалась ночью в окна соседей, крича: "Ляхи идут! Режут всех!". И страх, древний, как сама земля, гнал людей с насиженных мест.
Деревня Веснянка жила своей тихой, небогатой жизнью у кромки большого верескового болота. Жизнь здесь была трудной, земля – скудной, но люди держались друг за друга и за свои дома, построенные ещё их прадедами. И вот однажды днём, когда женщины полоскали бельё на речке, из леса выехал на взмыленном коне воин-сторож с заставы Мстислава. Он не слезал с седла, лишь крикнул, обводя всех безумным, уставшим взглядом:
– Войско идёт! Невиданное! Уходите! Кто может – в город, кто не может – в лес! Через два дня здесь будут чужие!
И ускакал, оставив за собой волны паники, расходящиеся по воде.
В Веснянке началось то, что творилось в сотнях таких же деревень по всему порубежью. Короткая, судорожная суматоха, в которой здравый смысл боролся с отчаянием.
Старый Прокоп, глава самой большой семьи, пытался призвать к порядку.
– Тихо, бабы! Без крика! Староста, что делать будем?
Местный староста, Игнат, человек пожилой и нерешительный, лишь растерянно теребил бороду.
– В город… в Червень… далеко идти. С детьми да со стариками не успеем. А ну как ляхи на дороге нагонят?
– Значит, в болота, – твёрдо сказал Прокоп. – Как деды наши от печенегов прятались. У нас там заимка есть, на Сухом острове. Ни одна конная тварь не пройдёт.
Решение было принято. И деревня, веками жившая на этом месте, за несколько часов опустела. Это было страшное, горькое зрелище. Люди не брали утварь, мебель, всё то, что наживалось годами. Брали только то, что могли унести на себе.
Женщины спешно ссыпали в мешки остатки муки и зерна. Мужчины выводили из хлевов коров и овец – единственное богатство. Но скотина замедляла ход. После долгих споров и слёз, большую часть животных просто выпустили в лес. "Пусть лучше волки съедят, чем врагу достанется", – с горечью говорил Прокоп, отвязывая свою любимую корову-кормилицу.
Дети, не понимая, что происходит, плакали от страха и суеты. Старики сидели на завалинках, глядя пустыми глазами на свои дома, которые им, возможно, уже не суждено было увидеть. Старуха Маланья до последнего отказывалась уходить.
– Здесь я родилась, здесь и помру, – твердила она, обнимая печку в своей хате.
Сыновьям пришлось силой выводить её из дома.
Перед уходом люди в последний раз заходили в свои избы. Крестились на иконы, кланялись стенам, прося домового уберечь жилище. Некоторые, по старому обычаю, отравляли воду в колодцах – бросали туда ядовитые травы. Это была маленькая, тихая месть.
И вот, на закате, длинная, нескладная вереница людей покинула деревню. Впереди шли мужчины с рогатинами и топорами, в центре – женщины с детьми и узелками, сзади – старики, опиравшиеся на палки. Они уходили не по дороге, а уходили в сторону, к болотам, туда, где начиналось царство трясины и топей. Они шли молча, оглядываясь на свои дома, чьи тёмные силуэты тонули в вечерних сумерках.
Деревня осталась одна. Двери домов хлопали на ветру. Во дворе жалобно блеяла забытая в спешке коза. В колодезном срубе плескалась отравленная вода. Над трубами не вился дымок. Это была уже не живая деревня. Это был призрак, мёртвая оболочка, оставленная своими душами.
Через два дня, как и предсказывал гонец, в Веснянку вошёл передовой отряд польского войска. Всадники в кожаных доспехах с опаской въехали на пустые улицы. Их встретила лишь мёртвая тишина. Они ожидали криков, сопротивления, добычи. А нашли лишь холодные очаги и следы поспешного бегства.
Раздосадованные, они прошлись по домам, забирая то немногое, что осталось, но этого было мало, чтобы утолить их жадность. Один из воинов в ярости от того, что его обманули, поднёс факел к соломенной крыше первой же хаты. Сухая солома вспыхнула мгновенно. Через час вся деревня Веснянка была объята пламенем.
Далеко-далеко, на своём Сухом острове посреди бескрайних болот, беженцы увидели на горизонте багровое зарево, отражавшееся в низких тучах. Никто ничего не сказал. Женщины молча плакали, прижимая к себе детей. Мужчины сжимали в бессильной ярости рукояти своих топоров. Их дома, их прошлое, их мир сгорал там, за стеной топей.
Теперь у них не осталось ничего, кроме жизни и ненависти к тем, кто превратил их в бездомных скитальцев на своей собственной земле.
Глава 43: Умиротворение Духа Дороги
По мере того, как войско углублялось на запад, сама земля, казалось, начинала сопротивляться их продвижению. Дорога, и без того плохая, становилась всё хуже. То посреди пути обнаруживался внезапный оползень, заваливавший проход и заставлявший сапёров часами расчищать завал. То повозки начинали ломаться одна за другой – лопались оси, отлетали колёса, словно невидимая сила испытывала их на прочность. То лошади начинали без видимой причины пугаться, храпеть, отказываясь идти вперёд, особенно в сумерках.
Воины роптали, списывая всё на плохую работу обозников и усталость. Но Радосвет знал истинную причину. Они шли по старым, диким землям, и духи этих мест были недовольны вторжением. Особенно был разгневан Путник – дух-хозяин всех дорог и троп, капризное и сильное существо, которое могло как помочь путникам, так и завести их в непроходимую чащу.
Однажды вечером, когда войско остановилось на привал у перекрёстка двух старых лесных дорог, Радосвет позвал Яромира.
– Сегодня ты поможешь мне, – сказал он без предисловий, и в его голосе слышалась озабоченность. – Путник гневается. Он рвёт наши повозки и пугает коней. Если его не умилостивить, он может завести нас в болота или устроить такой камнепад в ущелье, что мы потеряем половину обоза. Мы должны принести ему дар.
Они отошли от лагеря к самому перекрёстку. Это было древнее, сильное место. Здесь, под корнями огромного вяза, по слухам, лежал древний путевой камень, полностью заросший мхом. Место было пропитано энергией тысяч путников, проходивших здесь за сотни лет.
Радосвет принёс с собой несколько вещей: небольшой глиняный горшок с мёдом, краюху свежего хлеба, который он специально выпросил у княжеского пекаря, моток красной нити и маленький серебряный колокольчик.
– Мне нужны твои глаза, Яромир, – сказал волхв. – Я могу говорить с духами, но я не вижу их так, как ты. Я должен знать, примет ли он наш дар. Ты будешь смотреть.
Радосвет расчистил место у корней вяза, обнажив верхушку поросшего мхом камня. Он поставил на него горшок с мёдом и хлеб. Затем размотал красную нить и начал обвязывать её вокруг ветвей старого вяза, что-то тихо напевая себе под нос.
Яромир встал чуть поодаль и сосредоточился, как учил его волхв. Он расслабил зрение, позволив миру "поплыть", и направил всё своё внимание на изнанку, на мир духов.
И он увидел.
Сначала это была лишь лёгкая рябь в воздухе у перекрёстка, сгущение сумерек. Затем из этой ряби начала формироваться фигура. Она была нестабильной, постоянно меняющей очертания. То это был сутулый старик с длинной бородой и посохом, то юноша в пыльном плаще, то просто бесформенный вихрь из дорожной пыли и опавших листьев. Это и был Путник, дух дороги.
Он был зол. Яромир видел это не по выражению лица, а по его ауре – колючей, серой, беспокойной. Дух кружил вокруг дерева, недоверчиво и гневно косясь на Радосвета и его подношения.
– Чужаки… – пронеслось в голове Яромира. Это не был голос. Это была мысль, эмоция, исходящая от духа, которую мог уловить только он. – Топчете… Ломаете… Шумите…
– Отче, он здесь, – тихо сказал Яромир. – И он очень недоволен.
Радосвет кивнул, не прекращая своих действий.
– Это я знаю. Спроси его, чего он хочет. Не голосом. Мыслью. Сосредоточься на нём и задай вопрос.
Яромир сделал, как ему было велено. Он уставился на мерцающий силуэт духа и мысленно спросил: "Что успокоит твой гнев, Хозяин Дорог?".
Ответ пришёл мгновенно, как порыв ветра, взметнувший пыль.
– Тишины… Покоя… Уважения…
Дух указал бесформенной рукой на лагерь, от которого неслось обычное вечернее бряцание оружия, ржание лошадей и грубая солдатская ругань.
– Они не чтят меня. Они лишь берут… Берут дорогу, не давая ничего взамен…
– Он говорит, что мы не оказываем ему уважения. Слишком много шума и нет даров, – передал Яромир.
Радосвет закончил обвязывать нить. Он взял в руки маленький серебряный колокольчик и несколько раз легонько звякнул им. Звук был чистым, тонким, и, казалось, он прорезал шум лагеря, как острый нож.
Дрожащая фигура духа замерла, прислушиваясь. Беспокойная рябь его ауры немного улеглась.
– А теперь смотри внимательно, – прошептал Радосвет.
Волхв склонил голову.
– Великий Путник, Хозяин всех троп и дорог! – произнёс он вслух, и его голос был полон искреннего почтения. – Прости нас, шумных детей человеческих, за то, что потревожили твой покой. Мы идём не с праздной целью, а исполняем свой долг. Путь наш тяжёл, и мы просим твоей милости. Прими этот скромный дар – сладость мёда и сытность хлеба. И пусть этот звон будет нашей песней для тебя, песней уважения.
Он ещё раз звякнул колокольчиком и повесил его на одну из красных нитей, где тот затрепетал от малейшего дуновения ветерка.
Яромир не отрываясь смотрел на духа. Путник медленно, очень медленно подплыл к камню. Он склонился над горшком с мёдом, и Яромир увидел, как нематериальная дымка, исходящая от него, втянулась в сладкое лакомство. Он попробовал дар. Затем он коснулся хлеба. Его серая аура начала светлеть, обретая более спокойный, коричневато-зелёный оттенок.
Дух поднял свою голову-вихрь и посмотрел на Яромира, потом на Радосвета. Взгляд его уже не был гневным. В нём читалось удовлетворение и принятие.
– Хорошо… – снова пронеслось в голове у Яромира. – Идите. Но помните о тишине…
И с этими словами дух растворился, растаял в сгущающихся сумерках, оставив после себя лишь лёгкое дуновение ветра, которое заставило колокольчик тихо и мелодично звякнуть.
– Он принял дар, – выдохнул Яромир, чувствуя, как с плеч сваливается напряжение. – Он сказал, чтобы мы шли, но помнили о тишине.
Радосвет выпрямился, и на его лице проступило облегчение.
– Ты хорошо справился, кузнец. Очень хорошо. Ты был моими глазами и ушами.
Он повернулся к лагерю.
– Теперь моя часть работы.
Вернувшись в лагерь, Радосвет направился прямиком к воеводам и от имени князя (хотя князь, скорее всего, и не знал об этом) передал приказ: "С сего дня на привалах и в походе блюсти тишину. Пьяные крики и песни – прекратить. Говорить вполголоса. За лишний шум – наказывать".
Воеводы, хоть и были удивлены, но приказу волхва, советника князя, подчинились. И на следующий день войско шло уже иначе – тише, собраннее. Повозки перестали ломаться, а лошади – пугаться. Дорога стала глаже.
Яромир шёл в своей десятине и понимал, что стал участником чего-то важного. Он помог предотвратить беду, о которой никто из тысяч воинов вокруг него даже не подозревал. И это было его первое настоящее дело в той тайной войне, на службу в которой он поступил.
Глава 44: Болотные Огни
Поход становился всё труднее. Войско вошло в край бескрайних Полесских болот. Дорога превратилась в узкую гать – настил из брёвен, проложенный по зыбкой, чавкающей почве. По обе стороны от них простиралась трясина, поросшая чахлыми деревцами, осокой и укрытая зелёным ковром ряски. Воздух был тяжёлым, влажным, пахло тиной и гнилью. По вечерам туманы становились такими густыми, что на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно.
В один из таких вечеров их десятина получила приказ идти в боковом охранении. Основное войско располагалось на ночлег на большой сухой гриве – возвышенности среди болот, а нескольким отрядам, включая их, было велено патрулировать подходы, чтобы предотвратить внезапное нападение каких-нибудь местных лесных племён.
Ратибор вёл их по едва заметной звериной тропе, петлявшей между топкими окнами. Уже спускались сумерки, и видимость ухудшалась с каждой минутой. Они шли в напряжённой тишине, слыша лишь чавканье грязи под ногами и недовольное кваканье лягушек.
– Держитесь ближе! – скомандовал Ратибор. – И смотрите под ноги. Один неверный шаг, и болото вас не отпустит.
Туман сгущался, и скоро тропа стала почти неразличима. Они шли почти на ощупь, ориентируясь по спине идущего впереди. Начался мелкий, моросящий дождь. Настроение было на нуле.
– Проклятое место, – проворчал Микула, едва не поскользнувшись. – Ни зверя, ни птицы. Одна гниль.
И тут впереди, сквозь серую пелену тумана, они увидели огоньки.
Они были неяркими, голубоватыми, и казалось, танцевали в воздухе на высоте человеческого роста, то сближаясь, то разлетаясь. Они были похожи на светлячков, но гораздо крупнее и ярче.
– Глядите! – с облегчением воскликнул Вадим. – Огонь! Может, хутор какой? Или наши дозорные костёр развели?
– Стоять! – резко скомандовал Ратибор. Он с сомнением вглядывался в танцующие огни. Старый воин, он знал, что на болотах не бывает хуторов, а дозорные не стали бы разводить костёр на открытом месте.
– Это добрый знак, – сказал Лютобор, в чьём голосе впервые за долгое время появилась надежда. – Огонь – это тепло. Это люди. Может, там можно переждать дождь?
Все смотрели на Ратибора, ожидая решения. Логика подсказывала, что огонь в такую погоду – это спасение. Тропа, по которой они шли, казалось, вела прямо к этим огням.
Но Яромир смотрел не на огни. Он смотрел на то, что было вокруг них. Его дар, обострённый сыростью и сумерками, показывал ему картину, недоступную остальным. Он видел, что огни были не просто светом. У каждого огонька был свой, едва различимый, полупрозрачный силуэт. Маленькие, сморщенные фигурки с длинными, тонкими ручками, сотканные из болотного газа и гнилушек. Они держали эти огни в своих руках-пальцах, как фонари, и игриво ими помахивали, подманивая их. Это были болотники.
Он видел, как они хихикают беззвучным, пузырящимся смехом, как их глаза-искорки злорадно поблёскивают. А самое главное, он видел, что тропа, которая казалась твёрдой, на самом деле была обманкой. Прямо перед ними, под тонким слоем дёрна, была гибельная, засасывающая трясина. Огни плясали прямо над ней. Они заманивали их в ловушку.
– Стойте! Не ходите туда! – вдруг громко и твёрдо сказал Яромир.
Все обернулись к нему с удивлением. Ратибор нахмурился.
– В чём дело, кузнец?
– Это не огонь. Это обман, – выдохнул Яромир, пытаясь найти правильные слова. Он не мог сказать им, что видит духов. – Отец рассказывал мне про такие. Это блуждающие огни. Болотные. Они заводят путников в топь. Там впереди нет твёрдой земли. Там трясина.
Его слова повисли в возду-хе. Вадим посмотрел на него с недоверием.
– Да брось, Яромир! Какие огни? Это просто свет! Мы промокли до нитки! Там, может, спасение!
– Яромир прав, – вдруг подал голос старый Остап. – Я тоже слышал о таком от старых охотников. Говорят, это нечисть балуется. Верить болотным огням нельзя.
Ратибор стоял в нерешительности. С одной стороны, маячащий впереди свет обещал отдых и тепло. С другой – предупреждение его самого спокойного и рассудительного воина, поддержанное старым следопытом.
– Ты уверен, кузнец? – спросил он, вглядываясь в лицо Яромира.