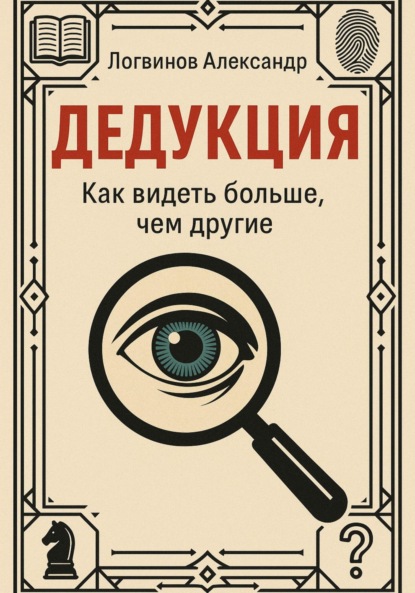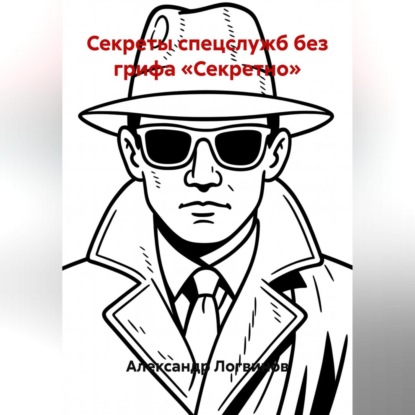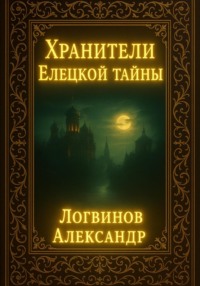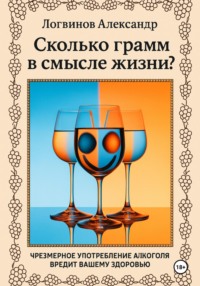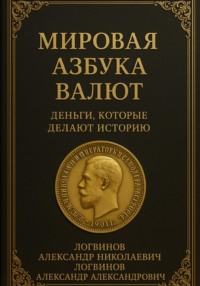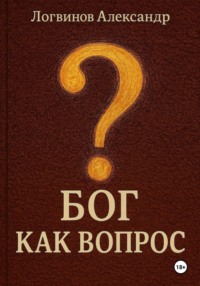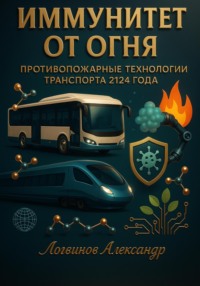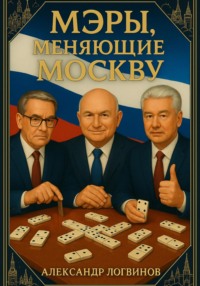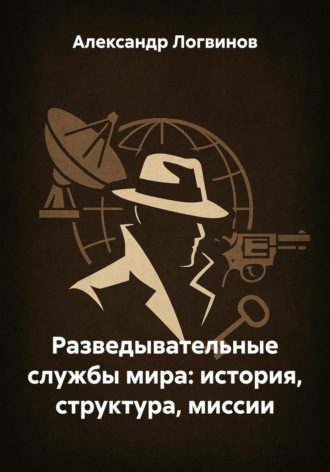
Полная версия
Разведывательные службы мира: история, структура, миссии
Влияние на модели спецслужб. Исторические примеры повлияли и на структурные модели спецслужб в мире. Так, советская модель КГБ (объединенной разведки и госбезопасности) была перенята многими социалистическими странами в период холодной войны – от Штази в ГДР до КГБ в союзных республиках. Ее эхо прослеживается и ныне в авторитарных государстваи, где спецслужбы также объединяют функции (например, Министерство государственной безопасности КНР сочетает внешнюю разведку и контрразведку). Американская модель (разделение функций между разными ведомствами – ЦРУ, военная разведка, ФБР, плюс централизованная координация директором Национальной разведки) – стала ориентиром для многих демократий, стремящихся к checks and balances в этой сфере. Европейские страны после войны зачастую выбрали путь разделения: в Великобритании SIS/MI6 (внешняя) и MI5 (внутренняя), во Франции DGSE и DGSI, в ФРГ – BND и BfV. Это предохраняет от концентрации чрезмерной власти в одних руках (как было у КГБ). При этом все они стремятся улучшать координацию, чтобы не повторять ошибок типа дублирования или конкуренции (как было у Абвера с СС). Создаются совместные координационные центры (в США – Совет национальной безопасности, в ФРГ – ведомство канцлера курирует службы, в ЕС – обмен разведданными между странами-союзниками).
Уроки успехов и провалов. Из успехов прошлых разведок современные службы почерпнули веру в силу информации как оружия. Истории Пенковского или Зорге показали, что один хорошо позиционированный агент может изменить ход кризиса или сражения. Поэтому сегодня огромное внимание уделяется развитию агентурной сети в ключевых точках (будь то террористические группы, враждебные правительства или научные центры). История с Энигмой утвердила идею, что технологическое превосходство в разведке (криптоанализ, кибершпионаж) способно склонить чашу весов – отсюда непрерывная гонка в сфере кибербезопасности, взлома шифров, разработки разведывательных спутников и т. д.
Провалы же научили ценить контроль и анализ. Крах КГБ в предвидении распада СССР подчеркнул важность того, чтобы разведка давала объективную картину, а не ту, которую хочет слышать руководство. В ответ многие страны внедрили практику альтернативного анализа (соревнование мнений внутри агентства), взаимодействия с внешними экспертами, чтобы избежать группового мышления. Провалы Абвера и французской разведки 1940 г. продемонстрировали, что недооценка противника и переоценка своих возможностей чреваты бедой. Сегодня спецслужбы стараются быть самокритичными, проводить разбор своих ошибок (в США после 11 сентября 2001 г. была проведена масштабная реформа разведсообщества, когда выяснились просчеты в обмене информацией).
В целом, исторические спецслужбы заложили основы профессии разведчика – с ее этическими дилеммами, методами работы и профессиональным жаргоном. Их опыт – драматичный, подчас противоречивый – служит богатым материалом для обучения новых поколений. Как сказал однажды бывший директор ЦРУ Уильям Кейси (который, кстати, тоже был ветераном OSS): «История разведки – это история мира тайных сражений, от исхода которых порой зависела судьба народов». Изучая опыт КГБ, OSS, Deuxième Bureau и Абвера, современные специалисты по безопасности стремятся брать лучшее и избегать повторения худшего. Каждая из этих служб – и грозный советский КГБ, и дерзкий американский OSS, и изощренное французское Второе бюро, и трагически просчетный Абвер – внесла свою лепту в искусство разведки, сделав его таким, каким мы знаем его сегодня.
Часть II. Россия
Введение и историческая преемственность
Распад Советского Союза в 1991 году радикально преобразовал бывший монолит КГБ в несколько отдельных спецслужб независимой России. Советский КГБ – одна из самых могущественных спецслужб мира – включал в себя и внешнюю разведку, и внутреннюю безопасность, военную и политическую контрразведку, экономические и технические подразделения. После событий августовского путча 1991 года эта громоздкая структура была разбита на ряд ведомств: на основе Первого главного управления (внешняя разведка) создали Службу внешней разведки (СВР), функции контрразведки и охраны порядка перешли к Министерству безопасности (вскоре преобразованному в Федеральную службу безопасности, ФСБ), а также выделились Федеральная служба охраны (ФСО), Пограничная служба и Агентство правительственной связи (ФАПСИ). Иначе говоря, КГБ трансформировался в СВР и ФСБ – две главные наследницы, отвечающие соответственно за внешнюю разведку и внутреннюю безопасность. Военное разведывательное управление Генштаба, известное как ГРУ, при этом сохранило преемственность с советских времён: военная разведка не подчинялась КГБ и продолжила работу под эгидой Министерства обороны.
Первое десятилетие постсоветской России стало временем перестройки спецслужб. 1990-е годы сопровождались сокращением финансирования, утечкой кадров и попытками демократического контроля, однако к концу десятилетия влияние силовиков вновь начало расти. В 1998 году директором ФСБ был назначен бывший офицер КГБ Владимир Путин, а уже с 2000 года, став президентом, он опирался на опыт и кадры спецслужб для укрепления государственной власти. Многие ветераны советских органов продолжили карьеру в новых структурах. Например, первым директором СВР стал Евгений Примаков – в прошлом руководитель внешней разведки КГБ. Преемственность проявилась и символически: в 2000 году, на 80-летие советской ВЧК–КГБ, Путин посетил штаб-квартиру СВР в Ясеневе вместе с бывшими главами КГБ Крючковым и Шебаршиным, главой СВР Примаковым и другими, подчеркнув непрерывную связь поколений чекистов.
Одновременно с этим новая российская власть стремилась избежать чрезмерной концентрации силы в одних руках, характерной для КГБ. Разделение функций между СВР, ФСБ и ГРУ должно было создать систему сдержек и противовесов. Как отмечал в 2016 году генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, иметь два независимых источника информации – внешнюю разведку и контрразведку – лучше, чем один, к тому же разделение помогает службам контролировать внутреннюю безопасность друг друга, выявлять «кротов» (шпионов) во взаимодействии. Тем не менее полностью устранить конкуренцию не удалось: на протяжении следующих десятилетий между ведомствами иногда возникали споры о разграничении полномочий, наблюдалось и дублирование функций. В то же время перед лицом общих угроз – терроризма, организованной преступности, утечки секретов – спецслужбы учились координировать усилия. Российская модель разведки начала XXI века сложилась как комбинация советского наследия (кадры, традиции, размах операций) и новых реалий (рыночная экономика, открытость страны миру, технологический прогресс). Рассмотрим подробнее три ключевых разведоргана современной России – СВР, ФСБ и ГРУ, их роль, операции и взаимодействие, а также особенности российской модели в сравнении с западной и советской.
Служба внешней разведки (СВР)
СВР России – прямой потомок Первого главного управления КГБ – была образована в декабре 1991 года. Её возглавил опытный востоковед Евгений Примаков, ставший в сложный переходный период своего рода капитаном корабля разведки, взявшим курс на сохранение лучших традиций советской разведшколы. Штаб-квартира СВР расположилась в московском районе Ясенево, на бывшей базе «усадьбы» внешней разведки КГБ. Отсюда – ироничное прозвище «Ясенева» в адрес всей организации. Закон РФ «О внешней разведке», принятый в 1992 году, официально закрепил задачи службы: добывание разведывательной информации за рубежом, проведение активных мер в интересах безопасности России, экономический и научно-технический шпионаж, внешняя контрразведка, защита российских учреждений и граждан за границей и пр.. Примечательно, что закон позволил сотрудникам разведки внедряться под прикрытием в различные министерства, фирмы и организации без раскрытия своей принадлежности – фактически узаконив практику «нелегалов» и скрытых агентов влияния. Таким образом, уже на заре 1990-х СВР получила мандат на широкую деятельность, от классического шпионажа до тайных операций за рубежом.
Структура СВР во многом унаследовала отделы советского ПГУ. В 1990-е в СВР действовали управления по странам (политическая разведка), управление «С» (нелегальная разведка), отвечающее за подготовку и курирование агентов-нелегалов, научно-техническая разведка, экономическая разведка и даже специальное управление «КР» (контрразведка за рубежом), занимающееся внедрением в иностранные спецслужбы и слежкой за своими гражданами за границей. Имеется и собственный Аналитический блок, готовящий ежедневные разведсводки для руководства страны. Интересно, что СВР не ограничивается лишь сбором информации – разведка традиционно участвовала во «влиянии на политику». В отличие от своих коллег из ЦРУ, которые обычно только информируют правительство, российские разведчики могут рекомендовать президенту выгодные для страны меры на основе собранных данных. Эта черта – тесная связь с высшим политическим руководством – досталась в наследство ещё от советских времён. Многие директора СВР становились важными государственными фигурами: Примаков позднее возглавил правительство РФ, Сергей Нарышкин (нынешний директор службы) прежде был спикером парламента, а Владимир Путин вообще является самым знаменитым «выпускником» внешней разведки, служившим под прикрытием в ГДР.
За три десятилетия СВР провела немало операций за рубежом – как успешных, так и провальных, о которых стало известно общественности. О ряде громких эпизодов службы мы узнаём только спустя годы, зачастую из западных источников или в результате скандалов. Так, в 1990-е годы серьёзным успехом российской разведки стала информация, полученная от высокопоставленных агентов в США: завербованные еще КГБ предатели из американских спецслужб, такие как сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс и агент ФБР Роберт Ханссен, передавали Москве тысячи секретных документов. Арест последнего в 2001 году подтвердил, что он 15 лет снабжал советскую, а затем российскую разведку данными о ядерной обороне и спецоперациях США. Эти утечки помогли разоблачить в США нескольких агентов Кремля (некоторые из них были казнены за измену), а российская разведка получила ценнейшие сведения о планах потенциального противника. Однако собственные активные операции СВР не всегда проходили гладко. Самый известный провал – «шпионский скандал 2010 года». В июне 2010-го ФБР арестовало сразу 10 человек, много лет работавших в США под глубоким прикрытием без дипломатического статуса. Среди них были супруги Андрей Безруков и Елена Вавилова (в Америке они жили под чужими именами Дональд Хитфилд и Трейси Фоли), Михал Куцик (Хуан Лазаро), Михаил Семенко, Вики Pelaez и другие – всего пятеро супружеских пар и одна одиночка, рыжеволосая молодая предпринимательница Анна Чапман. Их обвиняли в нелегальной разведдеятельности – попытках проникнуть в политические круги США и собирать информацию о ядерных программах, политике и финансах. Как выяснилось, эту сеть «нелегалов» разоблачил перебежчик – полковник СВР Александр Потеев, бежавший на Запад и выдавший своих подчинённых. Арестованные признали вину в работе на иностранное государство. Через несколько дней, 9 июля 2010 года, состоялся крупнейший со времён холодной войны обмен шпионами: десять агентов СВР были высланы в Россию, а взамен Москва отпустила четырёх заключённых, среди которых находился осуждённый за шпионаж бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль. Эта история прогремела на весь мир, а образ Анны Чапман – эффектной русской шпионки – стал поп-культурной сенсацией. Менее известно, что в состав группы входили и высокопрофессиональные разведчики вроде Вавиловой и Безрукова, которые 25 лет добывали ценную информацию для Кремля, пока их миссия не была прервана предательством. После возвращения на родину все они получили государственные награды, хотя публично прославлять их не стали.
Помимо этой громкой неудачи, СВР продолжает менее заметные операции по всему миру. В начале 2000-х российская внешняя разведка, как сообщали СМИ, активно отслеживала политические процессы на Западе. Например, существует информация, что в середине 2000-х агенты-нелегалы пытались собирать сведения о перспективных американских политиках. В интервью 2019 года бывшая разведчица-нелегал Елена Вавилова упомянула, что в её художественной книге, основанной на реальных событиях, героиня устанавливает прослушку у помощника сенатора Барака Обамы, когда тот ещё представлял штат Иллинойс и лишь начинал задумываться о высоких постах. Хотя Вавилова оговорилась, что это художественный вымысел, пример показывает, какого рода информацию стремились получить российские разведчики: данные о будущих лидерах США, их окружении и планах, чтобы предугадать курс Вашингтона и подготовиться к нему. СВР, как и её предшественники, уделяет большое внимание заблаговременной оценке политической обстановки за рубежом.
Известны и операции СВР в «горячих точках». Так, в начале 2000-х, во время войны США против режима Саддама Хусейна в Ираке, российская разведка, по некоторым данным, развернула секретную группу «Заслон». Эта спецкоманда занималась защитой российских граждан и объектов, а также смогла эвакуировать из Ирака ценные архивы и материалы иракской разведки, чтобы они не достались американцам. Сообщалось, что благодаря этому Кремль получил документы о том, как Багдад финансировал прокитайские и пророссийские движения, что позволило Москве влиять на них в своих интересах. Эти эпизоды зачастую остаются без официальных комментариев, отражая скрытный характер СВР.
В целом СВР за годы существования превратилась в более компактную, чем предшественник, но все еще весьма мощную спецслужбу. Её сильные стороны – богатая школа подготовки кадров (Академия внешней разведки продолжает традиции Краснознамённого института КГБ), широкая агентурная сеть по всему миру и тесная связь с государственным руководством. Российские разведчики-внешники гордятся преемственностью от легендарных предшественников – от советских «разведчиков-нелегалов» времён холодной войны до чекистов 1920-х. В 2020 году СВР отметила свое столетие (ведя отсчёт от создания иностранного отдела ВЧК в 1920 году) и позиционирует себя как «щит и меч» страны на внешнем фронте. При этом службе приходится действовать в новых условиях: глобальная цифровизация, усиленный контроль со стороны контрразведок Запада и санкционное давление в ответ на спорные операции (после скандалов, вроде дела Чапман, ряд сотрудников СВР в других странах были высланы). Эти вызовы заставляют внешнюю разведку балансировать между стремлением получить максимальную информацию и необходимостью осторожничать, чтобы не спровоцировать международные скандалы. Не случайно независимые исследователи отмечают, что корпоративная культура СВР сравнительно осторожна: многие сотрудники ценят долгую карьеру и комфорт жизни дипломата-разведчика и не склонны к неоправданному риску. В следующем разделе мы увидим совсем иной характер работы у внутренней спецслужбы – ФСБ, которой часто достаются более жёсткие методы.
Федеральная служба безопасности (ФСБ)
ФСБ России – главный орган обеспечения внутренней безопасности страны, чьи корни уходят в советскую контрразведку. После 1991 года функции бывшего Второго главного управления КГБ (контрразведка внутри страны), а также ряда других управлений (по борьбе с организованной преступностью, по защите экономики, по охране границы) перешли к новой структуре. Сначала это было Министерство безопасности РФ, затем Федеральная служба контрразведки (ФСК), а с 1995 года – Федеральная служба безопасности. По сути, ФСБ стала преемницей наиболее силовой части КГБ, ответственной за порядок и контроль внутри государства. В конце 1990-х – начале 2000-х ФСБ заметно усилилась: ей передали пограничные войска, часть функций расформированного ФАПСИ (связь и шифрование), расширили полномочия в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. На рубеже веков ФСБ превратилась в самую крупную и влиятельную спецслужбу России, располагающую десятками тысяч сотрудников по всей стране и широкими законодательными правами.
Основные задачи ФСБ закреплены законом: контрразведка (выявление иностранных шпионов и защиту гостайн), борьба с терроризмом, пресечение экстремистской и сепаратистской деятельности, обеспечение экономической и информационной безопасности, борьба с коррупцией и организованной преступностью, охрана государственной границы. Спектр огромный – от оперативной работы «в поле» до аналитики и кибербезопасности. ФСБ имеет разветвлённую структуру региональных управлений во всех субъектах РФ и многочисленные спецподразделения. На слуху у многих группы спецназа ФСБ – легендарные отряды «Альфа» и «Вымпел», предназначенные для антитеррористических операций, освобождения заложников и самых сложных боевых задач. Именно офицеры «Альфы» и «Вымпела» неоднократно оказывались на передовой в трагических эпизодах новейшей российской истории, когда страна сталкивалась с терроризмом.
Самые драматичные испытания выпали на долю ФСБ в начале 2000-х, во время всплеска терроризма, связанного с войной в Чечне и деятельностью радикальных исламистских групп. Так, в октябре 2002 года группа вооружённых боевиков захватила полный зрителей Театральный центр на Дубровке в Москве (теракт известен как захват заложников на мюзикле «Норд-Ост»). Террористы удерживали 916 заложников почти трое суток, заминировав зал. ФСБ возглавила операцию по спасению людей: 26 октября спецназ «Альфа» и «Вымпел» пошёл на штурм, предварительно применив через вентиляцию секретный «усыпляющий газ» неизвестного состава. Все 40 террористов были ликвидированы, и большинство заложников освобождены. Однако ценой победы оказались большие жертвы среди заложников – по официальным данным, погибло 130 человек (по данным общественной организации «Норд-Ост», до 174). Подавляющее число этих смертей наступило от действий газа – люди задохнулись, не получив вовремя медицинской помощи, или не были опознаны врачами как пострадавшие от отравляющего вещества. Эта трагедия вскрыла проблемы: с одной стороны, ФСБ предотвратила взрыв и спасла сотни жизней, с другой – спецоперация вызвала критику за секретность (власти так и не раскрыли формулу применённого газа) и недостаточную подготовку медслужб. Российское общество было шокировано: таких террористических атак в столице ещё не случалось.
Спустя менее двух лет, в сентябре 2004-го, террористы нанесли новый страшный удар – на этот раз в провинции. 1 сентября 2004 года вооружённый отряд из чеченских и ингушских боевиков захватил школу №1 в городе Беслан (Северная Осетия) во время праздничной линейки. В заложниках оказались более 1100 человек, в основном дети и их родители. Террористы заминировали спортзал, удерживая детей без воды и еды три дня. 3 сентября, после серии взрывов в школе, начался хаотичный штурм, в котором участвовали всё, кто мог – силы ФСБ («Альфа», «Вымпел»), милиция, армия, разгневанные вооружённые осетинские жители. Бой превратился в кровавую перестрелку с использованием гранатомётов и танков. Жертвы оказались ужасающими: погибли 333 человека, из них 186 детей. Более 700 были ранены. Это событие стало общенациональной трагедией. Несмотря на уничтожение всех террористов (кроме одного, взятого живым) и очевидную чудовищность самих боевиков, у общества возникли вопросы к властям: почему допустили такой провал в предотвращении атаки, почему не сумели организовать более скоординированный штурм, были ли просчёты ФСБ? Официальное расследование указало на множество факторов, а президент Путин после Беслана провёл масштабные реформы силовых структур (упразднил выборность губернаторов, усилил вертикаль власти). Для ФСБ эта трагедия стала тяжёлым уроком, сформировавшим более жёсткий подход к антитеррору – «ни шагу назад». С тех пор спецслужбы многократно предупреждали теракты на стадии замыслов; Северный Кавказ был буквально напичкан агентурой. Вторая чеченская война (1999–2000) завершилась созданием в республике лояльного федеральному центру режима, а терроризм был постепенно вытеснен точечными спецоперациями.
Помимо открытого терроризма, ФСБ ведёт невидимый фронт контрразведки. В её ведении – выявление и задержание иностранных шпионов, работающих на территории РФ. В 1990–2000-е годы было разоблачено несколько десятков разведчиков из США, Великобритании, Китая и других стран, пытавшихся добыть секреты о российской армии или технологиях. Например, в 2006 году ФСБ задержала в Москве группу сотрудников британского посольства, уличённых в использовании электронного «шпионского камня» – тайника-передатчика для связи с агентами. Этот курьёзный случай получил огласку на российском телевидении, что продемонстрировало навыки контршпионажа ФСБ. В самой ФСБ имеется Управление собственной безопасности, которое занимается поиском «кротів» внутри – на случай, если кто-то из сотрудников пойдёт по стопам предателей типа Ханссена. Ранее, в 1980-е, именно контрразведка КГБ раскрыла группу американского шпиона Адольфа Толкачёва в советском ВПК, а в 1960-е – разоблачила легендарного полковника ГРУ Олега Пеньковского, работавшего на ЦРУ и Ми-6. Теперь эту эстафету приняла ФСБ, продолжая охранять государственные тайны.
Стоит упомянуть и роль ФСБ в обеспечении экономической безопасности и борьбе с коррупцией. В структуре службы есть управление «К» (контроль экономических преступлений), сотрудники которого взаимодействуют с налоговыми органами, Центробанком, ловят крупных взяточников. Некоторые громкие дела против олигархов и высокопоставленных чиновников сопровождались участием ФСБ. Впрочем, критики указывают, что иногда силовики сами используются в корпоративных конфликтах или борьбе за ресурсы, а влияние ФСБ на экономику столь велико, что бывших сотрудников можно встретить в руководстве госкомпаний. Так или иначе, ФСБ позиционирует себя как щит государства не только от террористов, но и от «внутренних врагов» – от радикалов до финансовых махинаторов. В 2016 году к ФСБ были присоединены функции упразднённой Службы по борьбе с наркотиками и миграционной службы, что ещё более расширило зону её ответственности.
Отдельно стоит сказать о секретных операциях ФСБ за рубежом, хотя формально зона деятельности службы – это внутренняя территория. Однако законодательство РФ допускает, что ФСБ может преследовать террористов и преступников вне России, а также вести разведывательную работу в сопредельных государствах (так называемое «оперативное сопровождение» в СНГ). Кроме того, ФСБ исторически курирует охрану высших должностных лиц и важнейших объектов (в сотрудничестве с ФСО) не только внутри страны, но и при зарубежных визитах. Тем не менее, на практике речь идёт и об ofensивных акциях. Наиболее резонансные из них – ликвидация перебежчиков и врагов режима за границей, в которых западные расследования усматривали след именно ФСБ или связанных с ней структур. Так, в ноябре 2006 года в Лондоне был отравлен радиоактивным полонием бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко, открыто обвинивший Путина и спецслужбы в коррупции. Британское следствие установило, что в убийстве участвовали два россиянина – Андрей Луговой (бывший офицер КГБ/ФСБ) и Дмитрий Ковтун. Высокопоставленные источники в Лондоне заявили, что это было «убийство, организованное российскими спецслужбами на государственном уровне». Несмотря на требования экстрадиции, Россия отказалась выдавать подозреваемых (Луговой впоследствии стал депутатом Госдумы). Случай Литвиненко продемонстрировал миру готовность российских органов применять радикальные меры против тех, кого на родине считают предателем. Спустя более десяти лет, в марте 2018 года, в британском Солсбери произошёл ещё один вопиющий инцидент: неизвестные агенты применили боевой нервно-паралитический яд «Новичок» против Сергея Скрипаля (того самого экс-полковника ГРУ, выданного на обмен в 2010-м) и его дочери. Оба едва выжили, но случайный контакт с выброшенным флаконом с ядом стоил жизни британской гражданке Дон Стерджесс. Великобритания обвинила Россию в покушении; расследование установило подозреваемых под именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров», прибывших в страну накануне. Позже независимые расследователи из Bellingcat выяснили, что это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, причём полковник Чепига даже Герой России. Таким образом, отравление Скрипаля оказалось операцией военной разведки, а не ФСБ, хотя мотив (месть изменнику) был схож с делом Литвиненко. В результате инцидента разразился международный скандал: более 20 стран выслали свыше 150 российских дипломатов (многие из которых, вероятно, были сотрудниками СВР и ГРУ под прикрытием). Для российских спецслужб эта история обернулась серьезным провалом имиджа и ударом по агентурной сети за рубежом. Официальные представители Москвы всё отрицают; например, коллеги Скрипаля в СВР заявляют, что Россия не практикует физической ликвидации предателей. Тем не менее факты в нескольких делах (от убийств бывших чеченских боевиков в Европе до отравлений оппозиционеров) свидетельствуют об обратном, указывая на негласные возможности российских служб проводить операции на чужой территории.