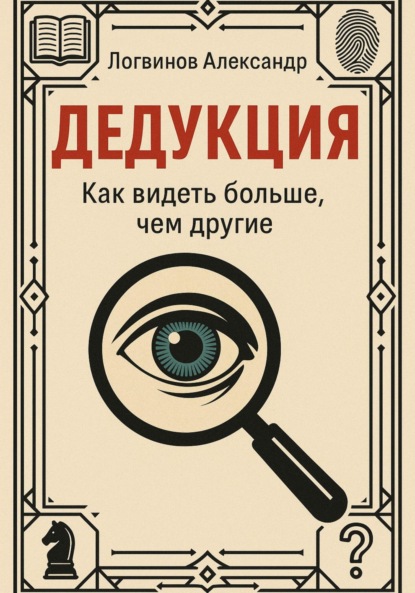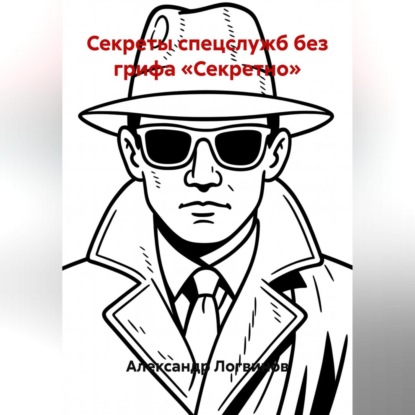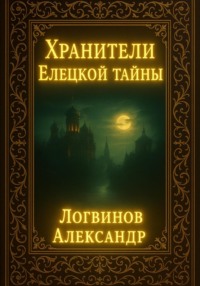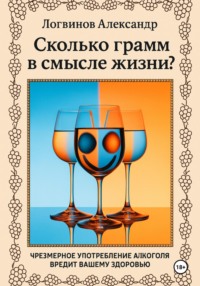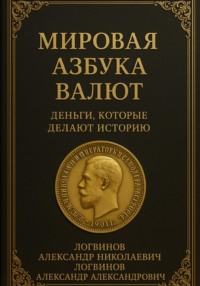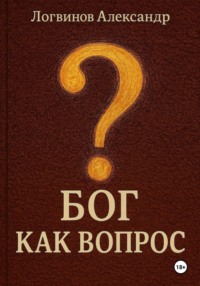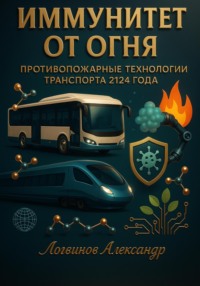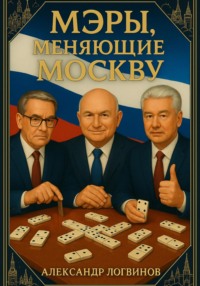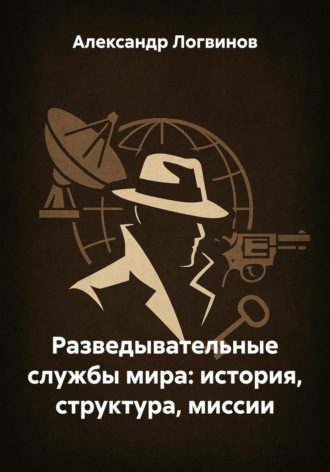
Полная версия
Разведывательные службы мира: история, структура, миссии
Таким образом, ФСБ сегодня выполняет роль многопрофильной спецслужбы внутренней безопасности с элементами разведывательных и силовых функций. Её мощь внутри страны огромна: от слежки за подозреваемыми (в XXI веке – и в киберпространстве) до ведения громких дел против оппозиционных политиков, от координации антитеррористического центра до контроля за стратегическими отраслями. При президенте Путине выходцы из ФСБ и смежных структур заполнили многие позиции во власти – сложился целый класс «силовиков», влияющих на политику и экономику. С одной стороны, это обеспечивает жёсткую стабильность и управление, с другой – вызывает критику за свёртывание демократических свобод. Тем не менее в глазах значительной части общества сотрудники ФСБ остаются продолжателями дела легендарных чекистов, стоящими на страже страны от многочисленных угроз – будь то терроризм, шпионаж или «цветные революции».
Лубянка – историческое здание на Лубянской площади в Москве, с 1920-х гг. в нём размещались органы госбезопасности (ОГПУ, НКВД, КГБ), а ныне это штаб-квартира ФСБ России.
ФСБ часто сравнивают с американским ФБР или британской MI5, но масштабы и сферы влияния российской службы шире. По сути, ФСБ сочетает функции контрразведки, службы госбезопасности и спецназа, и даже частично влияет на внешнюю разведку (через свой «Департамент оперативной информации», ведущий работу в странах СНГ). Эта уникальная роль делает ФСБ центральным звеном всей силовой системы России.
Главное разведывательное управление (ГРУ)
ГРУ, полное название – Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ (ныне официально Главное управление Генштаба, ГУ ГШ, но старое сокращение по привычке используют до сих пор), – это военная разведка России. Учреждённое ещё в 1918 году при Рабоче-Крестьянской Красной Армии, ГРУ имеет славную и грозную историю. В советское время ГРУ конкурировало с КГБ, оставаясь автономной структурой Минобороны, отвечающей за добычу сведений военного характера по всему миру. После распада СССР ГРУ, в отличие от КГБ, не подверглось разделению – оно сохранило преемственность и продолжило работу, хотя и пережило сложные времена реформ. В 1990-е финансирование армии (и ГРУ как её части) сократилось, некоторые операции были свернуты, а влияние военной разведки несколько упало на фоне возвышения ФСБ. Однако уже к 2000-м годам ГРУ восстановило позиции. Российское руководство увидело в нём важнейший инструмент для силовой политики и обеспечения обороны.
ГРУ отличается от СВР и ФСБ не только подчинением (оно в структуре армии), но и задачами. Если СВР добывает политическую и научно-техническую информацию, то ГРУ фокусируется на военных секретах: дислокация войск, планы операций, новейшее вооружение других стран. Кроме того, ГРУ традиционно имеет в своём подчинении силовые подразделения специального назначения (спецназ) – элитные отряды для разведки и диверсий в тылу врага. Советский ГРУ командовал бригадами спецназа, насчитывавшими тысячи бойцов. В постсоветское время часть этих подразделений была переподчинена другим структурам (в 2010-е создали отдельное Командование сил специальных операций), но ГРУ по-прежнему располагает значительными силами «военной элиты». Не случайно штаб-квартира ГРУ в Москве носит неформальное название «Аквариум» – за скрытность и загадочность, а эмблемой службы с советских времён служит летучая мышь, расправившая крылья над земным шаром (символ ночной разведки, охватывающей весь мир).
На практике ГРУ активно участвовало во всех военных конфликтах, в которых была задействована Россия за последние десятилетия. В первой чеченской войне (1994–1996) уровень координации разведки с войсками оставлял желать лучшего, что стало одной из причин неудач той кампании. Однако во вторую чеченскую войну (1999–2000) и последующие контртеррористические операции в Чечне и Дагестане ГРУ уже сыграло заметную роль. Группы спецназа ГРУ проводили глубокие рейды в горных районах, уничтожали базы боевиков, наводили авиацию на цели. Эти операции были опасны и нередко приводили к потерям. Так, известно о трагическом эпизоде в феврале 2000 года: при попытке блокировать крупный отряд боевиков в Аргунском ущелье сразу 33 бойца спецназа ГРУ погибли в ожесточённом бою на высоте 947,0 – эта «чёрная страница» долгое время оставалась малоизвестной. Тем не менее опыт, накопленный в Чечне, сделал ГРУшников закалёнными профессионалами горно-пустынной войны.
В августе 2008 года, во время кратковременной войны с Грузией (конфликт в Южной Осетии), ГРУ также выполнило свой фронт работы. Военная разведка заранее предупреждала о планах Тбилиси силой восстановить контроль над Южной Осетией, а в ходе боевых действий российский спецназ и беспилотные аппараты ГРУ осуществляли разведку целей для авиации и артиллерии. Итог – грузинская армия была за несколько дней разгромлена, а операции ГРУ остались за кадром, хотя, вероятно, внесли вклад в эффективность действий. После войны 2008 года, впрочем, произошли кадровые перестановки: руководитель ГРУ был отправлен в отставку, что некоторые связывали с разбором полётов – мол, не всё сработало идеально. В любом случае, роль ГРУ как источника данных поля боя и организатора спецопераций только возросла.
Новым вызовом для военной разведки стала гибридная война на Украине. В 2014 году Россия тайно ввела войска без опознавательных знаков в Крым – знаменитые «вежливые люди» или «зелёные человечки», как окрестили их жители полуострова. Эти профессионалы в зелёной форме без знаков различия заняли ключевые объекты и блокировали украинские части, обеспечив бескровную аннексию Крыма. Лишь позже президент Путин признал, что это были российские военные. По данным источников, среди «зелёных человечков» были бойцы Сил специальных операций и спецназа ГРУ. Операция прошла блестяще с тактической точки зрения, продемонстрировав синхронную работу разведки, спецназа и информационного прикрытия (операция велась под прикрытием заявлений об «самообороне Крыма»). Одновременно на востоке Украины в 2014 году начались пророссийские выступления в Донбассе. И хотя изначально там действовали в основном местные ополченцы и добровольцы, роль ГРУ вскоре проявилась: ряд фигур руководства сепаратистов оказались прямо связаны с российскими спецслужбами. Например, Игорь Гиркин (Стрелков), возглавивший оборону Славянска, ранее служил в органах ФСБ; был известен и Игорь Безлер – бывший подполковник ГРУ, координатор отрядов в Горловке. Российская военная разведка снабжала повстанцев данными, а, вероятно, и планировала ключевые операции. Одна из версий трагедии с малайзийским «Боингом» MH17 над Донбассом указывает, что офицеры ГРУ могли быть причастны к транспортировке зенитного комплекса «Бук», из которого по ошибке сбили пассажирский самолёт. Это привело к новым санкциям и репутационному удару по Москве.
В сирийской кампании (2015–н.в.) ГРУ также проявило себя. Официально Россия ограничилась авиаударами по террористам, однако на земле действовали советники и силы спецназначения. Бойцы ГРУ осуществляли целеуказание для авиации, проводили разведку и ликвидировали полевых командиров ИГИЛ. Известен случай под Пальмирой в 2016 году, когда офицер Александр Прохоренко, будучи окружённым исламистами, вызвал огонь артиллерии на себя, пожертвовав жизнью – посмертно ему присвоено звание Героя России. Это напоминает подвиги спецназа ГРУ времён Чечни. Официально Минобороны не всегда раскрывает принадлежность погибших в Сирии, но по открытым данным, не менее десятка офицеров ГРУ и КСО погибли на сирийской земле в 2015–2018 годах, выполняя опасные задания. Российские ЧВК (частные военные компании), такие как «Вагнер», тоже тесно координировались с ГРУ – нередко ветераны разведки становились командирами этих формирований. Иными словами, ГРУ оказалось инструментом проекции силы за рубежом при относительном скрытии прямого участия государства.
Особая глава в деятельности ГРУ – кибершпионаж и информационные операции. В XXI веке военная разведка России активно вышла в цифровое пространство. Мир узнал название хакерской группы Fancy Bear (она же APT28, Pawn Storm, «Софаси»), которую западные спецслужбы однозначно связывают с ГРУ. Эта группа, по данным компаний кибербезопасности, действовала с середины 2000-х и осуществила ряд громких взломов. Именно Fancy Bear приписывают взлом серверов Демократической партии США в 2016 году и утечку переписки, призванную повлиять на исход президентских выборов в США. Американское следствие в 2018 году предъявило обвинения ряду офицеров ГРУ, назвав конкретные воинские части 26165 и 74455, ответственные за кибератаки. Кроме выборов, хакеры ГРУ атаковали разные цели по всему миру: парламенты Германии и Норвегии, штаб-квартиру НАТО, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Еlysée (компанию Эммануэля Макрона во Франции). В 2017 году, по данным разведок, именно группа ГРУ запустила разрушительный вирус NotPetya против инфраструктуры Украины, который затем поразил и глобальные компании – ущерб исчислялся миллиардами. ГРУшные хакеры не гнушаются и дезинформацией: известна подразделение 54777 (официально Центр ГУ по информационным операциям), занимающееся пропагандистскими кампаниями в интернете. Например, разоблачённые в 2018 году планы взломать сеть Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге – тоже дело рук сотрудников ГРУ: тогда нидерландские спецслужбы задержали на месте группу российских специалистов с оборудованием в машине у здания ОЗХО. Все эти случаи создали ГРУ образ «грозной, но порой неуклюжей» организации: с одной стороны, она способна проникнуть в самые защищённые сети, с другой – её агентов за рубежом начали вычислять и публично позорить, как это произошло после Солсбери. Эксперты отмечают, что после 2014 года ГРУ взяло курс на рискованные активные мероприятия (кибератаки, покушения, саботаж), что привело к успехам вроде Крыма, но и к провалам, ставшим ударом по престижу российской разведки.
Тем не менее ГРУ остаётся ключевым элементом российского разведсообщества. Его сильная сторона – подчинённость военному командованию, что означает способность быстро использовать данные на практике. В армейских операциях, как показал опыт, прямое взаимодействие разведчиков и командиров приводит к выигрышу времени и эффективности ударов. Недаром перед крупными военными действиями роль ГРУ возрастает: например, накануне вторжения в Украину в 2022 году разведгруппы ГРУ, по сообщениям, пытались провести диверсии и подготовить почву, а киберподразделения атаковали украинские сети связи. Но одновременно проявились и слабости – если аналитическая оценка обстановки была неверной, то армия попадает в просчёт. Некоторые наблюдатели полагают, что российские спецслужбы недооценили волю украинцев к сопротивлению, возможно, давая Кремлю чересчур оптимистичные прогнозы. Это могло быть следствием как межведомственных конкуренций, так и давления сверху, когда никто не рискнул донести неприятные сведения.
Таким образом, на примере ГРУ видно, что военная разведка РФ за последние десятилетия трансформировалась: от классического шпионажа времён холодной войны к широкому набору инструментов – спецназ, кибервойска, информационные операции. По масштабу ГРУ сравнимо с объединённым разведсообществом министерства обороны США (DIA + спецсилы + киберкомандование), но при этом более централизовано. Девизом ГРУ мог бы служить принцип: «Если надо провести операцию – будем проводить, риск нас не остановит». В следующем разделе разберём, как все эти службы – СВР, ФСБ, ГРУ – взаимодействуют между собой, дополняя или соперничая друг с другом.
Взаимодействие и конфликты спецслужб
Российские спецслужбы официально провозглашают цель единым фронтом защищать безопасность страны, каждый на своём участке. На практике отношения между ними складываются непросто – сказывается различие в ведомственной принадлежности, задачах и даже корпоративной культуре. Тем не менее бывают как примеры успешного сотрудничества, так и свидетельства конкуренции и споров о влиянии.
Начнём с координации и совместной работы. В сферах, где угрозы явно общие, спецслужбы действуют заодно. Например, в борьбе с терроризмом: после серии терактов 2000-х был создан Национальный антитеррористический комитет (НАК) под руководством директора ФСБ, куда входят представители всех силовых органов. Если поступает информация о террористической угрозе за рубежом, СВР старается добыть данные через партнерские разведки или свою агентуру, ГРУ – через военные каналы разведки, а ФСБ – через свою сеть информаторов и связи с Интерполом. В идеале вся полученная информация стекается в НАК, где анализируется совместно. Так, были случаи, когда ФСБ и ГРУ совместно планировали операции против международных террористов. По некоторым данным, в Сирии российская военная разведка получала ценные сведения от ФСБ о россиянах, вступивших в ряды ИГИЛ, и затем спецподразделения ликвидировали этих боевиков точечными ударами. В обратную сторону – СВР взаимодействует с ФСБ при задержании шпионов: внешняя разведка может «подыграть» контрразведке, если нужно дезинформировать противника или поддержать легенду «двойного агента». Также практика показывает, что при крупных международных событиях (например, Олимпиада в Сочи-2014, чемпионат мира по футболу-2018) все спецслужбы объединялись ради обеспечения безопасности: ФСБ отвечала за общий режим и контртеракты, СВР добывала предупреждающие сигналы о возможных угрозах за границей, ГРУ мониторило военную обстановку вокруг. Подобное сотрудничество, как правило, остаётся за кадром, но оно есть.
Однако нередко между ведомствами возникают и терки по поводу полномочий. Исторически КГБ и ГРУ соперничали за масштаб и приоритетность операций (существует даже анекдотичный рассказ, как в 1980-е КГБ арестовал «крота» Пеньковского из ГРУ, одновременно выгораживая своих). В новой России повторилась часть старых проблем. Например, в середине 1990-х президент Ельцин разрешил ФСБ вести оперативную работу в странах СНГ, мотивируя это тем, что на постсоветском пространстве остаются общие угрозы. Но СВР восприняла это как вторжение на свою территорию – возник негласный спор, кто курирует «ближнее зарубежье». В результате ФСБ действительно создала «Департамент оперативной информации» (ДОИ) для работы в странах бывшего СССР, и время от времени информация оттуда дублировала данные СВР или даже шла вразрез. Аналитики отмечали, что двойная разведструктура вела к путанице и параллельным каналам. Тем не менее руководству страны такая избыточность даже выгодна – как сказал генерал Михайлов, «иметь два источника лучше, чем один». В итоге ДОИ ФСБ и СВР вынуждены были установить механизмы обмена информацией, но дух конкуренции никуда не делся.
Другой тип конфликта – за сферы влияния и ресурсы. ФСБ, будучи мощнейшей службой, нередко имела преимущество в доступе к первому лицу (директор ФСБ – постоянный член Совета безопасности, в то время как глава СВР тоже входит, а вот ГРУ прямо представлено через начальника Генштаба). В начале 2000-х ходили слухи о попытках подмять ГРУ под ФСБ, создав некое подобие советского МГБ (министерства госбезопасности, объединяющего внешнюю и внутреннюю разведку). Подобные идеи действительно муссировались – в 2016 году газета «Коммерсантъ» писала о проекте создания Министерства государственной безопасности (МГБ) на базе ФСБ, куда войдёт и СВР. Но эту идею раскритиковали ветераны: мол, «не зря разделяли, не надо снова сливать», лучше два независимых канала информации. В итоге реформу не осуществили – по крайней мере до сих пор СВР остаётся отдельной. Что касается ГРУ, то его пытались реформировать внутри Минобороны. В 2010–2011 гг. министр обороны Анатолий Сердюков провёл сокращения в ГРУ, убрал у него часть спецназа (создав КСО), сменил начальника ГРУ. Говорили, что ФСБ лоббировала ослабление военной разведки, опасаясь её чересчур самостоятельной роли. После отставки Сердюкова в 2012 году новая команда МО, напротив, усилила ГРУ – при Сергее Шойгу штат ГРУ расширился, многие спецназы вернули под его крыло. Тем самым маятник качнулся обратно. Внутренняя конкуренция иногда проявляется и курьёзно: в 2018 году, после скандала с «Новичком», неизвестные лица с инсайдерской информацией стали сливать в интернет данные о сотрудниках ГРУ (паспорта, автомобили, адреса). Есть версия, что это могли быть коллеги из других служб, решившие наказать ГРУ за провал – хотя доказательств нет, а альтернативная версия винит западные спецслужбы. В любом случае, налицо признаки терок между ведомствами, особенно когда дело касается чувствительных провалов.
Что до культурных различий, то об этом интересно высказывались исследователи спецслужб Ирина Бороган и Андрей Солдатов. По их словам, к 2022 году сложились три разные корпоративные культуры в трёх разведслужбах. СВР – более осторожная, бюрократичная, ценящая комфорт долгосрочной работы за рубежом, старающаяся избегать авантюр, чтобы не получить скандальный провал с высылкой (как сами говорили вербовщики СВР студентам: думайте, что делаете, чтобы вас не выгнали из страны навсегда). Внешняя разведка ФСБ (то есть тот самый ДОИ и другие подразделения) – напротив, исторически более агрессивная и рискованная, заточена на борьбу с политическими противниками режима за границей (эмиграцией, оппозицией) и склонна к жёстким методам. ГРУ же всегда было особняком: военные разведчики – «семейный бизнес» династий, как и СВР, но при этом готовность к риску у них даже выше, ведь военные понимают, что играют по крупному (особенно после реформ 2016 года, когда ГРУ набрало множество спецназовцев и поставило ставку на активные силовые операции). Приводился такой пример: офицеры СВР в целом не стремятся лезть на рожон, а вот в ГРУ культивируется установка «если надо – выполняй, как бы опасно ни было». Эта разница в подходах стала явной в последнее десятилетие: ГРУ осуществило ряд дерзких операций и попало в международные скандалы, тогда как СВР старается работать тише и держаться в тени (хотя и она, конечно, не застрахована от провалов, как было с нелегалами). ФСБ же в своём поле внутри России действует практически без конкурентов – здесь скорее возникает вопрос об отношениях с другими силовыми структурами, например с МВД (полиция). В 2000-е ФСБ получила кураторство над многими делами, что вызывало иногда трения между генералами МВД и ФСБ из-за подсудности дел. Но эту конкуренцию власть решала в пользу ФСБ, усиливая её.
Тем не менее, единое поле деятельности требует от спецслужб РФ взаимодействовать. Существует практика обмена кадрами: нередки случаи, когда офицеры, начавшие в одном ведомстве, переходят в другое на высокие должности – особенно между ФСБ и СВР (пример – Сергей Беседа, генерал ФСБ, который возглавлял 5-ю службу ФСБ – зарубежную разведку по СНГ, или случаи, когда выходцы из ФСБ становились замдиректорами СВР по линии контрразведки). Это создает личные связи между службами. Кроме того, стратегические решения принимаются наверху, на уровне президента и Совбеза, где сходятся все потоки информации. Там конкуренция трансформируется в коллективный доклад руководству: разные службы могут дать разную оценку, а президент выслушивает и делает выводы. Известно высказывание, что Путин порой поощряет неявное соперничество разведок – чтобы получать более полную картину и избегать зашоренности одного источника. В то же время он же требует от них сплочённости, особенно перед внешними угрозами.
Одним из символов единства стало общее профессиональное сообщество. День чекиста 20 декабря празднуют вместе и разведчики, и контрразведчики, и военные разведчики. Ветеранские организации стараются не разделяться: Союз ветеранов спецслужб включает представителей всех ведомств. Поддерживается и идеологическая преемственность – культ «ВЧК–КГБ» как общего предка. Например, в 2017 году в центре Москвы под аплодисменты многих силовиков восстановили памятник Феликсу Дзержинскому (правда, пока на территории внутреннего двора СВР, а не на Лубянке). Это показывает, что несмотря на ведомственные разногласия, существует единая чекистская корпорация.
Подводя итог, можно сказать: взаимодействие российских спецслужб – это сложная смесь сотрудничества и конкуренции. С одной стороны, они обмениваются данными, участвуют в совместных операциях (особенно когда речь о громких делах – вспомним обмен 2010 года: СВР вернула своих агентов, а ФСБ предоставила осуждённых шпионов для обмена, включая Скрипаля, что потребовало тонкого согласования). С другой стороны – каждое ведомство борется за доверие руководства, бюджет, победы на своём фронте, и не всегда спешит делиться лаврами. Внутренние конфликты, к счастью, не доходят до открытой вражды – в истории новой России не было случаев, чтобы спецслужбы вступали в прямое противостояние (как это бывало в некоторых странах). Но «территориальные споры» (в переносном смысле) случаются. Пока что система разделения (СВР–ФСБ–ГРУ) сохраняется, так как, как отмечают эксперты, она выполняет важную функцию: взаимный контроль. Разные службы могут следить, чтобы коллеги не «зарвались». В советское время, например, военная разведка опасалась, что КГБ следит за её сотрудниками – и это было правдой. Сейчас выявление кротов и защита секретов друг от друга тоже присутствует: разобщённость органов, помимо внутренних конфликтов, препятствует концентрации чрезмерной власти и способствует внутренней безопасности системы. Таким образом, российская модель сохраняет баланс между сотрудничеством во имя безопасности и соперничеством за влияние.
Аналитический вывод
Разведывательно-силовая система современной России представляет собой своеобразный гибрид советской и постсоветской моделей, со своими сильными сторонами и недостатками. Рассмотрим основные особенности российской модели разведки в сравнении с западной и наследием СССР.
Преемственность и сила традиций. Российские спецслужбы унаследовали от КГБ и ГРУ богатейший опыт и школы подготовки. Это даёт им огромное кадровое преимущество – династийность в СВР и ГРУ способствует сохранению навыков, а культ чекистов обеспечивает престиж профессии. Например, как отмечалось, в СВР многие приходят целыми семьями поколениями, ценя комфорт и длительную карьеру за рубежом. В ГРУ тоже хватает семейных династий военных разведчиков. Эта преемственность позволила России не терять компетенции даже в лихие 90-е. Кроме того, традиции широкого размаха операций сохранились: Москва по-прежнему ведёт разведдеятельность глобально – от США до Азии – напоминая о временах холодной войны, когда «не было уголка планеты, куда ни ступала бы нога офицера КГБ». С этой точки зрения российские спецслужбы остаются одними из самых мощных в мире. Их успехи – глубокие проникновения (нелегалы, источники вроде Ханссена), кибероперации, военные спецоперации – подтверждают высокий потенциал.
Централизация и гибкость. В отличие от многих западных стран, где функции разведки распределены между множеством независимых агентств, российская система довольно централизована. По сути, три столпа (СВР, ФСБ, ГРУ) охватывают почти все аспекты, и все они подотчётны президенту и Совету безопасности. Это позволяет при необходимости быстро объединять усилия и принимать решения без долгих бюрократических согласований. Например, проведение спецоперации за границей (такой как в Крыму 2014-го) включало в себя элементы политической, военной и контрразведки – и решение принималось в узком кругу, оперативно. В западной практике подобное потребовало бы одобрения нескольких ведомств и, возможно, парламентариев. Российская модель более «монолитна»: президент – бывший чекист – может лично отдавать закрытые поручения спецслужбам, не раскрывая деталей публично. Это даёт гибкость и внезапность действий, чего опасаются оппоненты (пример – неожиданное появление «вежливых людей» в Крыму). Кроме того, силовики интегрированы во власть: глава СВР, директор ФСБ, начальник ГРУ – все входят в близкое окружение президента и участвуют в выработке политики. Такая сцепка разведки и политики является сильной стороной: информация не теряется на пути к вершине, а наоборот – разведчики могут сами влиять на курс, предлагая меры.
Активные меры и наступательность. Российские спецслужбы, особенно ГРУ и в некоторой мере ФСБ, продемонстрировали готовность вести наступательные операции, выходящие далеко за рамки традиционного сбора информации. Это и кибервмешательства (в выборы, в критическую инфраструктуру), и политические влияния (поддержка определённых партий или движений за рубежом, кампании дезинформации), и точечные устранения врагов. Такая стратегия во многом наследует советской практике «активных мероприятий», проводившихся КГБ – тогда это были подрывные акции против НАТО, поддержка коммунистических движений, ликвидация «изменников Родины». Теперь идеология другая, но инструментарий остался. Сильной стороной этого подхода является эффективность в асимметричной борьбе: не обладая экономической мощью соперников, Москва использует «острые когти» разведки для достижения целей (вмешаться в политический процесс противника, ослабить его единство, ликвидировать опасного лидера экстремистов и т.п.). Многие западные наблюдатели признают высокий уровень русских хакеров и оперативников, умеющих находить уязвимости.