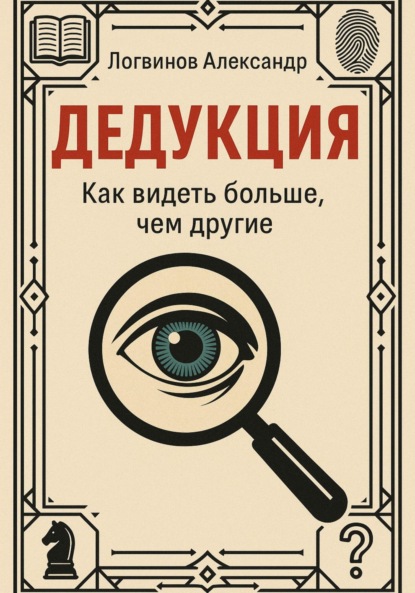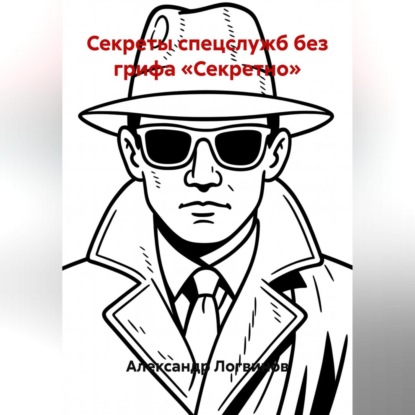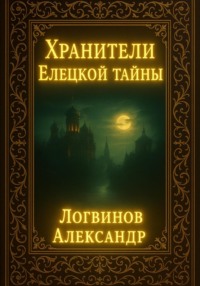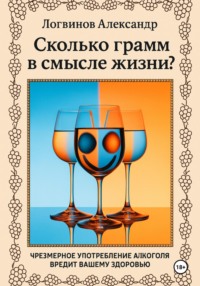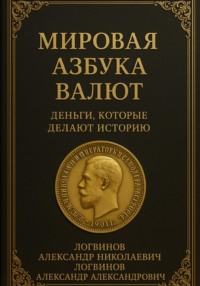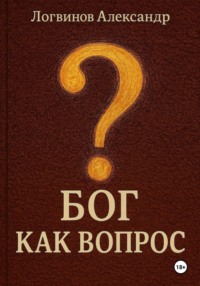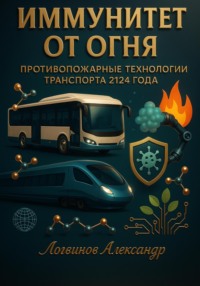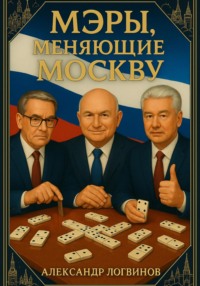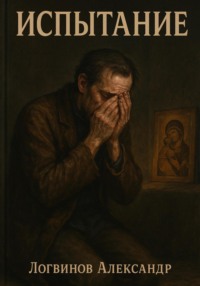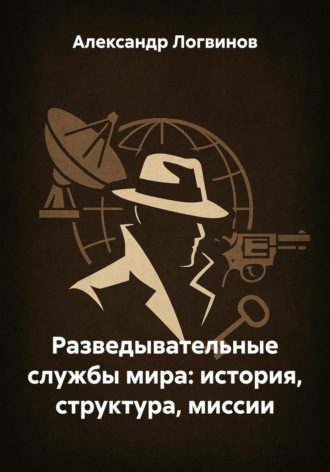
Полная версия
Разведывательные службы мира: история, структура, миссии
Организационные изменения. В 1930-е структура французской разведсообщества претерпела путаницу. Поскольку военная контрразведка оставалась под МВД, возникла проблема обмена информацией между военными и полицией. В 1937 году правительство Леона Блюма попыталось упорядочить систему безопасности метрополии, создав в МВД Центральное разведывательное бюро (BCR) под руководством полковника Луи Риве. BCR должно было координировать сведения между Сюрте (внутренней безопасностью) и Генштабом. Однако соперничество ведомств никуда не делось: военные ревниво относились к вмешательству полиции в свои дела, и обмен данными оставался несовершенным. Накануне войны, в 1938–1939, Франция усилила наказания за шпионаж, сведя воедино все разрозненные законы по государственной безопасности.
Разведка в колониях
Французская колониальная империя между мировыми войнами простиралась от Северной и Экваториальной Африки до Ближнего Востока (мандаты в Сирии и Ливане) и Юго-Восточной Азии (Индокитай). Управление этими территориями требовало тщательно выстроенной системы колониальной разведки и безопасности. На местах действовали: военная разведка (Service de Renseignement, SR) армейских частей, отвечавшая за внешние и внутренние военные сведения, и гражданская Сюрте (политическая полиция), контролируемая Министерством колоний или местной администрацией. Эти структуры должны были предупреждать мятежи, собирать информацию о настроениях населения, противодействовать иностранному влиянию.
В условиях, когда европейские колонизаторы сталкивались с сильным сопротивлением местных народов, роль разведслужб в удержании власти резко возрастала. Как отмечают историки, колониальное государство фактически превращалось в «государство-разведчика», где весь административный аппарат занимался сбором информации и контролем за туземным населением. Например, во французском мандате Сирия (1920–1940) и протекторате Марокко (с 1912 г.) местное общество было хорошо организовано и зачастую враждебно к чужеземному владычеству. Это требовало от Франции опоры на мощный репрессивно-разведывательный аппарат. Французская Сюрте тщательно отслеживала деятельность националистических движений, лидеров племен, религиозных общин, используя информаторов и подкуп. Военная разведка SR в колониях занималась агентурой среди местных войск, перехватом переписки, иногда – провокациями, чтобы выявить заговорщиков.
Ярким примером значимости разведки стала ситуация во Французском Индокитае. 10 февраля 1930 года произошел мятеж в Йен-Бай – восстание солдат-вьетнамцев против французских офицеров. Несмотря на то что заговор готовился тайно, он свидетельствовал о провале французской разведки, не разглядевшей настроения в колониальных частях. После подавления восстания французские власти провели разбор полетов. Были введены реформы, направленные на предотвращение подобных инцидентов. В частности, усилена координация между военной разведкой и гражданской администрацией: создан механизм обмена сведениями о настроениях среди туземных частей, либерализованы правила увольнения ненадежных солдат из армии. Французских офицеров обязали изучать язык и культуру местных народов, чтобы лучше понимать подчиненных. Также было решено разбавить вьетнамские подразделения солдатами из других этносов (лаосцев, кабильцев, африканцев), чтобы снизить риск сговора. Эти меры демонстрируют, что опыт восстания вынудил французов признать необходимость более эффективной разведки и контрразведки в колониальной армии.
В Северной Африке (Алжир, Тунис, Марокко) французские спецслужбы также играли ключевую роль. Они внедряли осведомителей в среду националистов, отслеживали контакты местных активистов с врагами Франции (например, с итальянскими или немецкими агентами, пытавшимися подогревать антиколониальные настроения). Во время Рифской войны (1920-е) в Марокко против повстанцев Абдель-Крима французская разведка взаимодействовала с испанскими коллегами, чтобы пресечь поставки оружия и разбить повстанческую коалицию.
Однако, несмотря на все усилия, полностью удержать ситуацию под контролем было сложно. Колониальные спецслужбы нередко недооценивали степень народного недовольства или переоценивали лояльность туземных элит. К концу 1930-х по империи прокатилась волна протестов и восстаний (например, восстание Друзов в Сирии в 1925–1927, где французам потребовалось два года жестких мер для его подавления). Это показало пределы возможностей разведки: силовое подавление очагов сопротивления порой лишь загоняло проблему внутрь, а не решало ее. Тем не менее информация, собранная Deuxième Bureau и Сюрте в межвоенный период, стала основой для послевоенных действий – как в плане репрессивных мер, так и в плане возможных компромиссов с национальными движениями.
Разгром 1940 года. Когда в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, французская разведка в целом правильно оценивала численность и дислокацию вермахта. Тем не менее весной 1940 года Франция потерпела сокрушительное поражение от нацистской Германии всего за шесть недель. Частично это было связано с просчетами разведки: французский Генштаб, полагаясь на имевшиеся сведения, ожидал главного удара немцев через Бельгию на севере, тогда как на самом деле немецкие танковые колонны прорвались через Арденнские горы – участок, считавшийся труднопроходимым и слабо прикрытый войсками. Такая стратегическая внезапность стала возможна, потому что враг сумел ввести в заблуждение союзников насчет направления главного удара. Возможно, французская военная разведка недостаточно настойчиво предупреждала о концентрации немецких сил в Арденнах или ее предупреждения тонули в общей уверенности командования в непригодности тех лесистых районов для массированной атаки. Как бы то ни было, капитуляция Франции в июне 1940 года означала конец Второго бюро в его довоенном виде – с падением Третьей республики эта структура была распущена вместе со всем прежним Генштабом.
После разгрома Франции часть кадров Deuxième Bureau примкнула к движению Свободной Франции генерала де Голля, создав на базе 2-го бюро Службу разведки (Service de Renseignement, SR) штаба де Голля в Лондоне. Другая часть специалистов оказалась в подчинении режима Виши (коллаборационистского правительства) или ушла в тень. В 1943 году де Голль и генерал Жиро объединили свои разведывательные структуры, сформировав Общее управление специальных служб (DGSS), которое затем эволюционировало в Главное управление исследований (DGER). После освобождения Франции в 1944–45 гг. DGER было преобразовано в новую спецслужбу – Службу внешней документации и контршпионажа (SDECE). Она стала наследницей Второго бюро и свободнофранцузской разведки, а позднее, в 1982 г., превратилась в современную Генеральную дирекцию внешней безопасности (DGSE).
Таким образом, Deuxième Bureau сыграло важную роль в становлении французской разведки. В межвоенные годы оно накопило ценные уроки: необходимость разделения военной разведки и политической полиции; значение шифровальной войны и агентурной работы; важность координации с союзниками. Его провалы – например, скандал с Дрейфусом или неожиданность блицкрига 1940 – привели к выводам, которые повлияли на послевоенную реформу французских спецслужб. А успехи – такие как история с «Энигмой» – вошли в историю разведки как пример дальновидности и интернационального сотрудничества разведсообщества.
Абвер (Германия)
Деятельность в годы Второй мировой
Статус и задачи. Абвер (Abwehr) – военная разведка Германии – формально был создан еще в 1920 году в рамках рейхсвера, однако наибольшего размаха достиг при нацистском режиме. С 1935 года Абвер возглавил адмирал Вильгельм Канарис, при котором эта служба действовала в составе Вермахта (ОКВ) и отвечала за военную разведку и контрразведку во время Второй мировой войны. Организационно Абвер делился на три основных отдела:
Абвер I – разведка (шпионаж) против внешних врагов: сбор информации о вооруженных силах противника, экономике, политической обстановке;
Абвер II – диверсии и подрывная деятельность: организация саботажа, поддержка сепаратистских или антибританских движений за рубежом (например, связи с ирландскими, индийскими националистами), подготовка специальных подразделений (таких как полк «Бранденбург», совершавший рейды в тылу врага в форме противника);
Абвер III – контрразведка: защита германских военных объектов от проникновения шпионов, дезинформация врага, выявление саботажа на территории Рейха.
Абвер имел разветвленную сеть полевых бюро – абверштелле (Ast) – в каждом военном округе Германии. Каждое «Аст» отвечало за работу в своем регионе и имело секции I, II, III (разведка, диверсии, контрразведка). За границей сотрудники Абвера часто работали под прикрытием дипломатических миссий или торговых представительств, называвшихся «военные организации» (KO). К началу войны Абвер накопил немалый опыт: он установил контакты с украинскими националистами против СССР, с индийскими националистами против Британской империи, обменивался информацией с японской разведкой. Еще до войны немецким разведчикам удалось получить определенные сведения о промышленном и военном потенциале США, а также завести информаторов в некоторых соседних странах.
Успехи первых лет. В начале Второй мировой войны Абвер добился ряда успехов. В 1940–41 годах его агенты собрали информацию, способствовавшую стремительным победам Вермахта в Европе. Так, немецкая разведка сумела частично деморализовать нидерландское сопротивление, запустив операцию «Englandspiel» в Нидерландах: совместно с гестапо были захвачены почти все забрасываемые британские агенты SOE, которых немцы использовали для передачи дезинформации обратно в Лондон. Эта «игра» позволила Абверу обмануть англичан относительно настоящего положения дел в Голландии. В Югославии и Греции в 1941 году разведданные Абвера помогли выявить слабые места в обороне, и страны были быстро покорены.
Абвер активно задействовал диверсионные группы «Бранденбург», которые внедрялись в тыл врага перед наступлением немецких войск. Например, в 1941 году «бранденбуржцы» захватывали мосты в Польше и на Украине, переодевшись в форму польской или советской армии, и удерживали их до подхода основных сил. Эти операции считались весьма успешными.
В Советском Союзе поначалу Абвер также добыл ценные сведения, используя антисоветски настроенных перебежчиков. До войны Канарис наладил контакты с некоторыми белоэмигрантскими кругами и украинскими националистами. Однако уже вскоре после начала операции «Барбаросса» выяснилось, что действовать против СССР куда сложнее, чем против западных демократий. Советские органы (НКВД и ГРУ) сумели провести против Абвера эффективные радиоигры. Классический пример – операция советской военной контрразведки «Монастырь»: в 1941 году агент Александр Демьянов убедил Абвер, что он представитель антисталинского подполья, и начал снабжать немцев ложными сведениями. В частности, осенью 1942 года Демьянов, внедренный к Абверу под псевдонимом «Макс», дезинформировал немцев о положении на советско-германском фронте. Он убедил немецкое командование, что советские войска под Москвой слишком слабы, чтобы наступать, благодаря чему вермахт недооценил риск контратаки под Сталинградом. В итоге 6-я армия Паулюса оказалась окружена. Этот эпизод – лишь один из примеров, когда двойные агенты ввели Абвер в заблуждение, стоившее Германии дорого.
Еще одной слабостью Абвера стала ставка на количество агентов в ущерб качеству. Отчеты указывают, что набор агентов часто проводился поспешно, без достаточной проверки, поэтому в ряды немецкой агентуры попадали случайные люди. Многие быстро проваливались: например, немецкие шпионы, высаженные в Англии, совершали грубые ошибки – платили за еду немецкими купюрами, неправильно пользовались английскими мерами и весами, допускали ляпы в документах. Практически всех их британская контрразведка быстро вылавливала. С осени 1940 по весну 1941 г. 21 немецкий агент был отправлен в Великобританию – 20 из них были схвачены или сами сдались, один покончил с собой при поимке. Поставленные перед выбором – сотрудничать или виселица – многие согласились стать двойными агентами на службе у британцев. В результате германское командование до конца войны получало из Лондона в основном тщательно подделанные сведения, что привело к крупным стратегическим просчетам, например, касательно места высадки союзников в 1944 году.
Конфликт с гестапо
Внутри Третьего рейха Абвер постоянно соперничал с другими спецслужбами, прежде всего с СД и гестапо – организациями безопасности нацистской партии (СС). Глава СС Генрих Гиммлер и его подчиненный Рейнхард Гейдрих с подозрением относились к Канарису и военной разведке. Они стремились сосредоточить всю разведывательную деятельность в своих руках. С 1939 года СД (служба безопасности СС) тоже занялась внешней разведкой, а гестапо – контрразведкой в оккупированной Европе, порой дублируя и перехватывая функции Абвера. Между ведомствами развернулась «война разведок». Гейдрих организовывал слежку за сотрудниками Абвера, собирал компромат. Он, например, обвинял Канариса в пессимизме и «пораженческих настроениях» после неудач на Восточном фронте.
В 1943 году напряжение достигло пика. 10 сентября 1943 года гестапо провело операцию против группы антинацистски настроенных интеллектуалов в Берлине – так называемый «чаепитие у госпожи Зольф» (Solf Circle). Среди присутствующих на том роковом собрании был агент гестапо под прикрытием, который донес на участников. В результате гестапо арестовало ряд людей, близких к оппозиции; некоторые из них имели связи с офицерами Абвера. Например, среди казненных по этому делу оказался Отто Кипп, знакомый ряда сотрудников Абвера. Это дало повод Гиммлеру обвинить Абвер в соучастии в заговоре.
В это же время несколько сотрудников Абвера за рубежом дефектировали на сторону союзников, опасаясь репрессий. В феврале 1944 года в Стамбуле муж и жена Эрих и Элизабет Вермеерены, агенты абверштелле, узнав об арестах в Берлине, решили бежать и сдались британцам. Аллен Даллес (OSS) докладывал в Вашингтон, что Вермеерены передали ценную информацию. Он же сообщил, что Абвер вот-вот будет подчинен СД. Эти прогнозы вскоре подтвердились.
После провала покушения на Гитлера 20 июля 1944 года отношения между Абвером и СС завершились катастрофой для разведки. Выяснилось, что ключевые фигуры заговора (генерал Тресков, полковник Остер и др.) были связаны с Абвером или служили в нем. Адмирал Канарис уже в феврале 1944 года был отстранен от должности, а его ведомство – расформировано. Официально 18 февраля 1944 года Абвер вошел в состав Главного управления имперской безопасности (RSHA) под руководством Гиммлера. Многие сотрудники Абвера были переведены в новое VI управление РСХА (внешняя разведка СС) под командование Вальтера Шелленберга. Других подозреваемых в нелояльности арестовали. Сам Канарис был помещен под домашний арест, а после расследования его участие в антигитлеровском заговоре стало очевидным для нацистов. В апреле 1945 года, за несколько недель до падения рейха, Канарис и ряд его ближайших коллег (Ганс Остер, Ганс Дёница и др.) были казнены по личному приказу Гитлера в концлагере Флоссенбюрг.
Таким образом, конфликт с гестапо привел не только к институциональной ликвидации Абвера, но и к физическому уничтожению значительной части его руководства. Эта внутренняя вражда сильно ослабила германскую разведку в решающие годы войны, когда единство командования и точность информации были особенно важны.
Провалы и ликвидация
Несмотря на отдельные успехи в начале войны, в целом деятельность Абвера оценивается историками как неэффективная и полная провалов. Немецкая разведка проиграла своим противникам информационную войну практически на всех фронтах. На Западе британская контрразведка полностью перехватила сеть Абвера: к 1944 году все шпионы, которых Берлин считал своими «глазами» в Британии, на деле работали под контролем MI5, снабжая немцев продуманной смесью правды и лжи. Это привело, к примеру, к тому, что нацистское командование до последнего ожидало основного удара союзников в районе Па-де-Кале, а не в Нормандии, и держало там крупные силы даже после начала высадки.
На Востоке Абвер катастрофически недооценил советскую контрразведку. СССР провел против немцев ряд блестящих радиоигр, дезинформировав о планах крупных операций (как в случае Сталинграда и Курской дуги). Немецкие аналитики (отдел Fremde Heere Ost под руководством Рейнхарда Гелена) часто получали искаженные данные, в том числе через советских подставных «белогвардейцев», поддерживавших радиосвязь с Абвером. Например, сеть фиктивных радиостанций «Max», созданная НКВД, в 1944 году дезориентировала немецкое командование относительно советских планов на центральном участке фронта, что способствовало успеху советского наступления летом 1944 года. Как признавалось впоследствии, доверие Абвера к таким источникам обернулось тяжелыми поражениями.
Серьезным провалом стала неспособность Абвера выявить крупные шпионские сети союзников на оккупированных территориях. Например, в Австрии действовала антинацистская группа священника Генриха Майера (шпионская сеть «CASSIA»), которая передавала через OSS ценные сведения о немецком оружии – ракетах Фау-1 и Фау-2, танках «Тигр», самолетах – и даже сообщила данные о нацистских концлагерях. Абвер пропустил деятельность этой сети у себя под носом; раскрыли ее лишь усилиями гестапо, что стало большим позором для военной разведки. Хотя гестапо арестовало Майера и коллег (более 20 человек были казнены), даже под пытками немцы не смогли уяснить полный масштаб утечки и ущерб, нанесенный их секретным проектам.
Наконец, идеологические разногласия внутри Третьего рейха стали причиной скрытой подрывной деятельности части сотрудников Абвера. Адмирал Канарис и его ближайшее окружение были монархистами и патриотами старой школы; ужасы нацистского режима вызывали у них отвращение. В тайне некоторые офицеры Абвера, такие как полковник Ханс Остер, поддерживали связь с движением Сопротивления внутри Германии. Через Аллена Даллеса (американскую разведку в Швейцарии) они пытались зондировать почву для сепаратного мира при условии устранения Гитлера. Эти контакты не привели к успеху (союзники настаивали на безоговорочной капитуляции), но сам факт показывает, насколько далеко зашли сомнения в нацистском руководстве даже среди разведчиков. Конечно, такая «двойная игра» подточила эффективность Абвера: трудно усердно служить режиму, которому внутренне не сочувствуешь. СС воспользовалось этим, обвиняя разведку в предательстве и саботаже на благо поражения Германии.
Подводя итог, можно сказать, что Абвер был поглощен собственной несостоятельностью и интригами. В критический момент он пал жертвой врагов внутри государства: в начале 1944 года Абвер прекратил существование как самостоятельная сила, уступив место службе СД. Его ликвидация, совпавшая с угасанием военных успехов Рейха, подчеркнула общий вывод: спецслужба, раздираемая внутренними конфликтами, неспособная обеспечить надежность агентов и адекватный анализ, не может принести победы, даже имея значительные ресурсы.
После войны опыт Абвера был учтен при создании спецслужб ФРГ: например, формированием новой западногерманской разведки (BND) занялся Рейнхард Гелен – бывший руководитель подразделения «Иностранные армии Востока» Вермахта, входившего в состав Абвера. Под контролем американцев он собрал оставшиеся агентурные сети против СССР и к 1956 году возглавил BND, которую возглавлял до 1968 года. Таким образом, некоторый оперативный костяк и опыт Абвера перешли в новую эпоху, хотя организация и методы были кардинально перестроены по стандартам демократического государства.
Сравнительный анализ и влияние на современные спецслужбыРассмотренные исторические разведслужбы – КГБ, OSS, Deuxième Bureau и Абвер – сформировались в разных условиях и преследовали разные цели, но каждая из них оставила наследие, повлиявшее на последующие поколения спецслужб по всему миру. Проведем краткое сравнение их организационных моделей, успехов и ошибок, а также проследим, какие уроки были извлечены и как они отразились на современных разведывательных структурах.
Структура и подчиненность.
– КГБ СССР представлял собой модель централизованной политической полиции, совмещавшей внешнюю разведку, контрразведку и внутреннюю безопасность под партийным контролем. Его преемники (ФСБ, СВР и др.) продолжают функционировать в схожей парадигме: сильная централизация, широкий мандат от кибершпионажа до внутреннего надзора. Современная Россия унаследовала от КГБ не только кадры (влияние «силовиков» и бывших чекистов), но и философию приоритета госбезопасности над правами личности. При этом практика КГБ показала и риски: чрезмерная идеологизация и подавление инакомыслия могут приводить к деградации аналитических способностей службы и неспособности предвидеть политический крах. Многие современные спецслужбы (особенно в демократических странах) стараются избежать такой политизации, отделяя разведку от прямого политического давления.
– OSS США стала прототипом современной разведки, интегрированной в государственный аппарат. Урок OSS – необходимость объединения разных функций (анализ, агентурная разведка, спецоперации) для достижения синергии. Сегодняшнее ЦРУ прямо ведет свою историю от OSS: как институционально (треть сотрудников ЦРУ на старте были из OSS), так и концептуально (единый центр, работающий на политическое руководство страны). Более того, американские Силы специального назначения бережно хранят наследие OSS: многие тактики «джедбургов» и отрядов OG легли в основу тренировок «зеленых беретов» и Navy SEALs. OSS продемонстрировала важность инноваций и гибкости – черты, которые ныне считаются краеугольными в работе западных спецслужб. Также опыт OSS подчеркнул ценность аналитических центров, наполненных специалистами из академической среды – эта традиция с тех пор укрепилась (в ЦРУ существуют обширные аналитические подразделения, staffed by профессионалы разных наук). Пример OSS показал и обратную сторону: по окончании войны военные и полицейские бюрократии могут ревниво отнестись к новой спецслужбе (как ФБР и Пентагон настояли на роспуске OSS). В ответ в США и других странах после войны внедряли системы парламентского и межведомственного контроля над разведкой, чтобы избежать межведомственной грызни.
– Deuxième Bureau (Франция) иллюстрирует модель военной разведки, встроенной в Генштаб, и сложности совмещения военной и политической (внутренней) разведки. Французский опыт привел к тому, что после Второй мировой войны Франция окончательно разделила функции: внешняя разведка (SDECE, затем DGSE) стала отдельным гражданским ведомством, а внутренняя безопасность – в другом (DST, затем DGSI). Уроком Deuxième Bureau стало понимание, что контрразведка и политическая полиция лучше изъять из-под военных, чтобы избежать повторения «дела Дрейфуса» и политических скандалов. Кроме того, французская разведка в колониях продемонстрировала значимость локальной специфики: незнание языка и культуры подопечного народа влекло провалы (как в Йен-Бай). Современные спецслужбы стараются учитывать культурный фактор – активно готовят специалистов по региону, нанимают аналитиков с соответствующим бэкграундом. Еще одно наследие французской разведки – ставка на сигнальную разведку и дешифровку. Случай с «Энигмой» и роль французов в ее раскрытии напомнили миру о ценности криптоанализа. Сейчас все крупные агентства имеют мощные подразделения радиоэлектронной разведки, а вопросы шифрования и кибербезопасности стали приоритетными (в том числе во французской DGSE, где есть сильное криптологическое направление).
– Абвер послужил примером того, как делать не надо. Его разобщенность с партией (нацистскими структурами) и конфликт с конкурирующими службами (СД, гестапо) привели к катастрофе. В послевоенной Германии, разделенной на ФРГ и ГДР, учли эти уроки по-разному. В ГДР органы госбезопасности (Штази) построили по модели КГБ – всеобъемлющий контроль и слияние функций. В ФРГ же, наоборот, создали раздельные службы: внешнюю разведку (BND), внутреннюю контрразведку (BfV) и военную разведку (MAD), подотчетные демократическим институтам. Причем BND возглавил бывший офицер Абвера Рейнхард Гелен – но работал он уже под надзором парламента и при тесном сотрудничестве с США. Опыт Абвера показал ценность качества над количеством в агентурной работе – этот принцип сегодня разделяют все разведки: тщательный отбор агентов, многократная проверка, аналитическая оценка достоверности сведений. Также Абвер стал уроком по части контрразведки: нельзя недооценивать противника. Британская операция Double-Cross, перехватившая всех агентов, – хрестоматийный пример успешной контригры. Современные службы безопасности (включая немецкие BfV и британскую MI5) строят свою работу на принципе тотального мониторинга иностранных разведок, чтобы предотвратить проникновение и манипуляции. Кроме того, Абвер наглядно показал, что политическая надежность персонала – не абстракция: если сотрудники не разделяют ценности режима, они могут саботировать его изнутри. Потому современные спецслужбы при наборе обращают внимание как на профессионализм, так и на благонадежность кандидатов (хотя в открытых обществах это решается проверкой на лояльность конституции, а не идеологии).