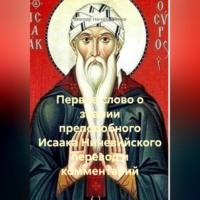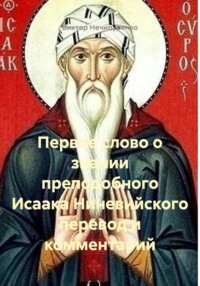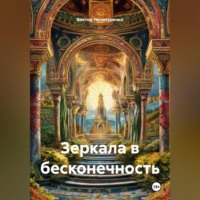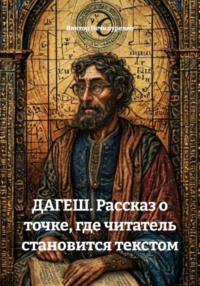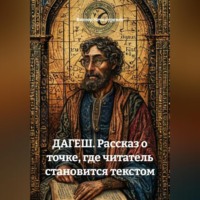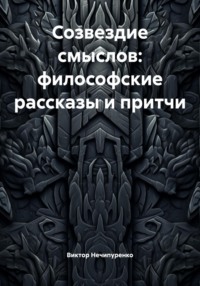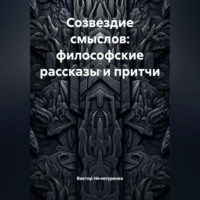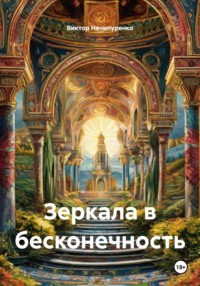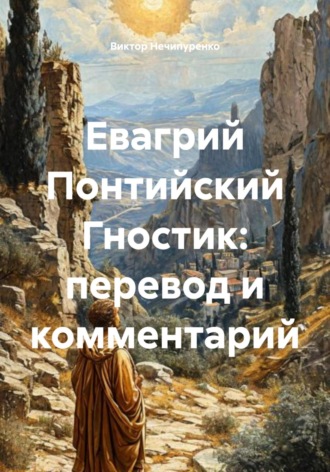
Полная версия
Евагрий Понтийский Гностик: перевод и комментарий
2. Необходимость гармонии добродетелей
В качестве противоядия Евагрий предлагает принцип гармонии: «пытаться в равной степени (ἐπίσης) всегда успешно осуществлять (κατορθοῦν) все добродетели».
Катортóо (κατορθόω) – «исправлять», «делать прямым», «успешно совершать». Это указывает на постоянное, сознательное усилие.
Принцип симфонии. Евагрий использует стоическую идею о взаимосвязи (ἀκολουθία) добродетелей. Они не существуют изолированно, а образуют единую систему, подобно струнам лиры. Если одна струна ослаблена или перетянута, вся гармония нарушается. Снисходительность без мужества – это малодушие. Милосердие без справедливости – это попустительство.
3. Уязвимость ума: «Ум предается… через ослабевающую добродетель»
Это кульминация афоризма и его психологическая основа.
«…τὸν νοῦν ὑπὸ τῆς ἐλαττουμένης προδίδοσθαι» (…ton noun hypo tēs elattoumenēs prodidosthai).
προδίδοσθαι (prodidosthai) – «предаваться», «выдаваться врагу». Ум (νοῦς), который должен быть крепостью, сдается врагу.
τῆς ἐλαττουμένης ([добродетели], tēs elattoumenēs) – «ослабевающей», «уменьшающейся», «той, которой недостает».
Духовный враг (бесы) всегда атакует самое слабое место в обороне души. Если подвижник развивает одни добродетели в ущерб другим, он создает «брешь» в своей духовной броне. Через эту брешь враг проникает и захватывает цитадель – ум. Например, если подвижник усерден в посте и молитве, но пренебрегает негневливостью, то именно через гнев враг и погубит все его труды. Если он милосерден, но не имеет рассудительности, его милосердие станет вредным.
Анализ сирийского перевода
Сирийский переводчик вновь показывает глубокое понимание.
Συγκατάβασις он передает как (mettaḥtaynūṯā), что буквально означает «уничижение себя», «помещение себя ниже». Это прекрасно передает идею смиренного снисхождения.
Опасность превращения в привычку он выражает ярким образом: «чтобы он не ошибся и не погрузился/окрасился (neṣṭba') в нее». Глагол ṣba' означает «погружать, красить, крестить», что создает образ полного пропитывания этой привычкой, потери своей изначальной «окраски» – трезвения.
Идею предательства ума он передает так: «ибо ум склонен (mekkan) быть преданным (neštlam) через ту [добродетель], которая умаляется (metbaṣṣrā)». Это точная и адекватная передача греческого оригинала.
Афоризм является важнейшим уроком духовного рассуждения. Он учит, что ни одна добродетель, даже самая благая, не может практиковаться в отрыве от других. Духовная жизнь – это симфония, требующая гармонии и баланса. Любой дисбаланс создает уязвимость, через которую враг получает доступ к самому сердцу духовной жизни – к уму.
Богословско-философский комментарий
В этом афоризме (6) Евагрий Понтийский переходит от рассмотрения отдельных добродетелей к их синтезу и гармонии. Он обращается к гностику – духовно опытному наставнику – с предостережением об одной из самых тонких опасностей пастырского служения. Речь идет о снисхождении (συγκατάβασις), добродетели, которая без должного трезвения может превратиться из лекарства в яд, открывая врагу доступ к самой цитадели души – уму.
1. Снисхождение: Добродетель на грани порока
Термин συγκατάβασις (букв. «со-схождение») имеет в святоотеческой письменности богатое значение. Он описывает и кенотическое снисхождение Бога к человеку в Воплощении, и пастырскую практику духовного наставника, который «спускается» на уровень немощного ученика, чтобы поднять его. Как отмечает преподобный Антоний Великий, иногда необходимо «давать послабление братии», чтобы не сломить их чрезмерным напряжением. В этом смысле снисхождение – это проявление высшей любви и мудрости.
Однако Евагрий, следуя за Климентом Александрийским, указывает на скрытую опасность: когда этот осознанный педагогический акт превращается в неосознанную привычку (ἕξις). Снисхождение из средства помощи становится состоянием расслабленности и компромисса. Учитель, вместо того чтобы вести ученика вверх, начинает незаметно для себя потакать его слабостям и, в конечном счете, сам скатывается на его уровень. Сирийский переводчик передает эту опасность ярким образом: гностик рискует «погрузиться» или «окраситься» (nṣṭbʿ) в эту привычку, полностью утратив свою духовную трезвость.
2. Симфония добродетелей как противоядие
В качестве лекарства от этой духовной болезни Евагрий предлагает принцип гармонии: «в равной степени всегда совершать все добродетели». Эта идея, восходящая к стоическому учению о взаимосвязи (ἀκολουθία) добродетелей, приобретает у Евагрия глубокий аскетический смысл. Добродетели не могут существовать в изоляции. Они подобны струнам лиры, которые должны быть настроены в унисон, чтобы создавать божественную мелодию в душе.
Снисходительность без мужества и правдолюбия превращается в малодушие.
Милосердие без рассудительности становится вредным попустительством.
Пост без негневливости порождает гордыню и осуждение.
Как учит преподобный Максим Исповедник, все добродетели, по сути, являются различными проявлениями единой любви. Поэтому ослабление одной из них – это симптом болезни всей духовной жизни.
3. Ум, предаваемый через «брешь» в обороне
Евагрий завершает свою мысль пронзительным психологическим наблюдением: «ибо ум по своей природе предается [врагу] через ослабевающую [добродетель]». Душа гностика подобна крепости, а ум (νοῦς) – ее правителю. Добродетели – это стены и башни этой крепости. Если какая-то часть стены (одна из добродетелей) ослабевает или разрушается, именно через эту «брешь» и проникает враг.
Этот принцип является ключом ко всей аскетической стратегии Евагрия. Духовный враг всегда ищет самое слабое место. Если подвижник горд своей нестяжательностью, но при этом тщеславен, его погубит тщеславие. Если он кроток, но склонен к унынию, именно акедия станет его погибелью. Гармоничное развитие всех добродетелей – это не перфекционизм, а жизненная необходимость, вопрос духовной безопасности.
Бдительность как условие пастырства
Этот афоризм Евагрия – вечный урок для всех, кто несет ответственность за других. Он учит, что любовь и милосердие должны быть соединены с трезвением и духовной твердостью. Гностик, или духовный наставник, должен быть подобен опытному врачу, который применяет разные методы лечения в зависимости от состояния больного, но никогда не теряет из виду конечную цель – полное исцеление.
Евагрий призывает к симфонии добродетелей, где каждая поддерживает другую, и все вместе они охраняют ум от предательства. Снисхождение полезно, пока оно остается сознательным актом любви, но становится губительным, когда превращается в привычку, разрушающую духовную крепость. В этом заключается высшая мудрость пастыря – найти царский путь между жесткостью и попустительством, между строгостью и расслабленностью.
7. Гностик пусть всегда побуждает (nadrōš) свою душу к милости (l-raḥmē) и будет готов к благотворению. Если же он нуждается в деньгах, пусть приведет в движение орудие (mānā) своей души. Ибо гностик способен (mekkan) творить милость даже и без денег; [этой милости] лишены были те пять дев, светильники которых угасли.
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Созерцатель пусть всегда упражняет свою душу в милосердии и будет готов творить добрые дела. Если же у него нет материальных средств, пусть он задействует духовные инструменты своей души. Ибо созерцатель по своей природе способен творить милость даже и без денег; именно этого [масла милости] и не хватило тем пяти неразумным девам, светильники которых угасли.
Филологический и богословский анализ (на основе сирийского текста)
Этот фрагмент раскрывает деятельную, «экстравертную» сторону жизни гностика. Ведение (гносис) не замыкается в себе, а естественно изливается в милосердии, которое является не просто одной из добродетелей, а сущностным свойством преображенной души.
1. (nadrōš nafšēh l-raḥmē) – «Пусть побуждает/упражняет свою душу к милости»
Глагол (dǝraš) имеет богатый спектр значений: «искать», «исследовать», «изучать», «упражнять», «побуждать». Здесь он указывает на постоянное, сознательное усилие, на духовное упражнение. Гностик не просто пассивно обладает милостью, он активно возделывает ее в своей душе.
(raḥmē) – ключевое сирийское слово, производное от корня, означающего «лоно», «утроба». Оно передает идею глубокой, сострадательной, почти материнской любви и милосердия. Оно может означать и внутреннее состояние (милость, сострадание), и внешнее действие (милостыня).
2. (mānā d-nafšēh) – «Орудие своей души»
(mānā) – «сосуд», «инструмент», «орудие», «утварь». Это очень многозначный термин. В данном контексте он противопоставляется (kespā) – «деньгам», «серебру». Если нет внешнего, материального инструмента (денег), гностик должен использовать внутренний, духовный инструмент.
Что это за «орудие»? Исходя из святоотеческого контекста, это весь арсенал духовных средств:
Молитва за ближнего.
Слово утешения, наставления, ободрения.
Сострадание и сопереживание.
Телесные труды ради других (уход за больными, помощь немощным). Как верно указано в вашем материале, представление о теле как об «орудии души» (греч. ὄργανον) было широко распространено и позволяет включить и этот аспект.
3. Отождествление милости и масла (ἔλεος и ἔλαιον)
Хотя мы работаем с сирийским текстом, за ним почти наверняка стоит греческая игра слов. Весь пассаж строится на толковании притчи о десяти девах (Мф. 25:1-13).
У неразумных дев угасли светильники, потому что у них не хватило масла (ἔλαιον).
Евагрий утверждает, что гностик обладает тем, чего им не хватило, а именно – милостью (ἔλεος).
Созвучие слов ἔλεος (милость) и ἔλαιον (масло) позволяло отцам Церкви (например, Клименту Александрийскому, Иоанну Златоусту) напрямую отождествлять их. Милость – это то масло, которое питает светильник веры и ведения.
4. «Умозритель по природе своей является милостивым»
Это интерпретация сирийской фразы «ибо гностик способен творить милость даже и без денег». Смысл в том, что для гностика милость – это не внешнее предписание, а внутреннее, сущностное свойство. Почему? Потому что, гностик через аскезу и благодать восстанавливает в себе изначальную чистоту естества, неповрежденного грехом. А это естество, созданное по образу милостивого Бога, само по себе милостиво. Милость – это не то, что он делает, а то, чем он является.
Афоризм утверждает неразрывную связь между ведением (гносисом) и милостью (агапэ). Истинное созерцание не может быть холодным и отстраненным. Оно по своей природе деятельно и изливается в мир через милосердие – материальное или, что еще важнее, духовное. Отсутствие этого «масла милости» превращает гностика в неразумную деву, чей светильник ведения неизбежно угаснет.
Богословско-философский комментарий
В этом афоризме, сохранившемся только в сирийском переводе, Евагрий Понтийский раскрывает деятельную и экзистенциальную сторону гносиса. Он утверждает, что истинное ведение неразрывно связано с милостью (сир. raḥmē), которая является не просто одной из добродетелей, а сущностным проявлением преображенной души. Этот текст, отсылающий к евангельской притче о десяти девах, становится ключом к пониманию единства созерцания и деятельной любви в учении Евагрия.
1. Милость как естественное состояние гностика
Евагрий начинает с императива: гностик должен постоянно «упражнять» (naḏrōš) свою душу в милосердии. Это не разовый акт, а постоянное делание, внутреннее возделывание. Однако далее он раскрывает, что для истинного гностика милость – это не столько усилие, сколько естественное состояние. Гностик «по природе своей является милостивым». Это следует понимать в том смысле, что через подвиг очищения и Божественную благодать он восстанавливает в себе первозданное, неискаженное грехом естество, созданное по образу милостивого Бога. Милосердие становится для него таким же естественным, как дыхание.
Эта идея находит глубокий отклик в святоотеческой традиции. Святитель Иоанн Златоуст называет милостыню «средоточием» и «главой» всех добродетелей. Преподобный Исаак Сирин учит, что милость без промедления вводит душу в «общение с единым сиянием славы Божества». Милость – это не просто этический долг, а онтологический мост, соединяющий человека с Богом.
2. Духовная милостыня: «Орудие души»
Фундаментальный тезис Евагрия заключается в том, что милость не зависит от материальных средств. «Если же он нуждается в деньгах (kespā), пусть приведет в движение орудие своей души (mānā d-nafšēh)». Это «орудие души» – весь арсенал духовных даров гностика:
Молитва за ближних и за весь мир.
Слово утешения, наставления и ободрения.
Сострадание, способность разделить чужую боль.
Телесные труды ради немощных, где тело становится инструментом (греч. ὄργανον) милосердной души.
Тем самым Евагрий расширяет понятие милостыни до его пределов, показывая, что ее источник – не кошелек, а чистое сердце. Эта мысль перекликается со словами преподобного Исаака Сирина: «Если ты не имеешь золота, дай брату слово утешения, ибо оно дороже золота».
3. Притча о десяти девах: Милость как масло для светильника ведения
Ссылка на «пять дев, светильники которых угасли» (ḥammesh bǝṯulāṯā d-da'ḵu lampāḏayhen) является смысловым ключом ко всему афоризму. В святоотеческой экзегезе масло (ἔλαιον) в светильниках традиционно толковалось как добродетели, и в первую очередь – как милость (ἔλεος). Евагрий, несомненно, опирается на эту традицию, основанную на созвучии греческих слов.
Светильник – это ум (νοῦς) гностика, его способность к созерцанию.
Пламя – это само ведение (γνῶσις), свет божественного познания.
Масло – это милость (ἀγάπη, ἔλεος), которая питает это пламя.
Пять неразумных дев символизируют тех, кто обладает «знанием без милости» – холодной, бесплодной, тщеславной схоластикой. Их светильники гаснут, потому что их гносис не укоренен в любви и сострадании. Истинный гностик, подобно мудрым девам, постоянно пополняет сосуд своей души маслом милости, и потому его свет не угасает. Как подчеркивают современные исследователи (Л. Дайсинджер, Г. Бунге), Евагрий системно отрицает разрыв между практикой и теорией: утративший милость теряет и чистоту созерцания, ибо его ум неизбежно помрачается самолюбием (φιλαυτία).
Единство гносиса и агапэ
Этот афоризм Евагрия – мощное утверждение неразрывного единства ведения (гносиса) и любви-милости (агапэ). В неоплатонических терминах, гностик, будучи причастным к Источнику блага, не может не изливать это благо вовне. Если светило не излучает свет, оно перестает быть светилом. В христианских терминах, познание Бога неотделимо от уподобления Ему в Его главном свойстве – милосердии.
Таким образом, Евагрий ставит милость в самый центр гностической жизни. Она не является дополнением к созерцанию, а его необходимым условием и естественным плодом. Без масла милости любой, даже самый яркий, светильник ведения обречен угаснуть в час пришествия Жениха.
8. Для гностика постыдно (αἰσχρόν) судиться, как будучи обижаемым, так и обижая: будучи обижаемым – потому что не претерпел, а обижая – потому что совершил несправедливость.
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Для созерцателя позорно вступать в судебную тяжбу, вне зависимости от того, является ли он жертвой несправедливости или ее виновником. В первом случае [это позорно], потому что он не смог снести обиду; во втором – потому, что он сам нанес ее.
Филологический и богословский анализ
Этот афоризм – образец лаконичности и духовной бескомпромиссности Евагрия. Он построен на строгом параллелизме и раскрывает абсолютную несовместимость состояния гностика с мирскими спорами.
1. Αἰσχρὸν γνωστικῷ τὸ δικάζεσθαι (Aischron gnōstikōi to dikazesthai) – «Для гностика постыдно судиться»
Αἰσχρόν (Aischron) – «постыдное», «позорное», «безобразное». Это сильное этическое слово. Оно указывает не просто на ошибку или грех, а на действие, которое унижает высокое достоинство гностика, делает его «безобразным» в духовном смысле.
Γνωστικῷ (Gnōstikōi) – «гностику», «созерцателю». Как и прежде, это не просто знающий человек, а тот, кто достиг апатии и стоит на пороге или уже в состоянии теории (созерцания). Его ум должен быть чистым зеркалом, а тяжба – это грязь, которая пачкает это зеркало.
Τὸ δικάζεσθαι (To dikazesthai) – «судиться», «вести тяжбу». Это не просто спор, а именно обращение к суду, формальная тяжба. Как показывают исторические данные, монахи в Египте действительно иногда судились, и Евагрий выступает против этой практики, считая ее абсолютно несовместимой с монашеским идеалом.
2. Разбор двух сценариев: ἀδικουμένῳ… ἀδικοῦντι (adikoumenōi… adikounti) – «обижаемому… обижающему»
Евагрий гениально уравнивает обе стороны конфликта, показывая, что с точки зрения гностической жизни оба проигрывают. Он не интересуется, кто прав по закону; он смотрит на духовное состояние.
ἀδικουμένῳ μὲν ὅτι οὐχ ὑπέμεινεν (adikoumenōi men hoti ouch hypemeinen) – «будучи обижаемым – потому что не претерпел».
Не претерпел (οὐχ ὑπέμεινεν). Глагол ὑπομένω («терпеть», «переносить», «оставаться под») – ключевая христианская добродетель терпения. Отказ от терпения – это провал в практике (πρᾶξις). Это значит, что страсти (гнев, обида, самолюбие, жадность) все еще господствуют над душой. Для гностика, который должен был достичь апатии, это позорный регресс. Он провалил экзамен на бесстрастие. Его реакция показывает, что он все еще привязан к земному и не уповает полностью на Бога.
ἀδικοῦντι δὲ ὅτι ἠδίκησε (adikounti de hoti ēdikēse) – «обижая – потому что совершил несправедливость».
Этот случай еще более очевиден. Совершить несправедливость – значит напрямую нарушить заповедь любви к ближнему. Это действие, исходящее из страстей (жадности, гнева, ненависти), что в принципе несовместимо со статусом гностика. Если в первом случае гностик «провалил экзамен», то здесь он даже не был к нему допущен, так как сам стал источником зла.
Евагрий переводит фокус с внешней, юридической правоты на внутреннее, духовное состояние. В мире суда есть правый и виноватый. В мире гносиса есть только два состояния: терпение (соответствующее гностику) и страсть (несоответствующая ему), которая проявляется и в неспособности стерпеть, и в желании обидеть. Любая тяжба – это манифестация страсти.
Анализ сирийского перевода
Сирийский переводчик следует за оригиналом с поразительной точностью:
(šǝḵīrā hī) – «позорно это», «мерзко это». Точно передает αἰσχρόν.
(d-ḏīnā nēmar) – «чтобы он говорил суд», т.е. «чтобы он судился».
('en meṭṭlam w-'en ṭlam) – «будь он обижаем, будь он обижает».
(d-lā saybar) – «потому что не стерпел». Saybar – идеальный эквивалент ὑπομένω.
Структура и смысл переданы безупречно.
Этот афоризм – радикальный призыв к жизни по евангельским заповедям, а не по законам мира. Для гностика не существует «справедливой тяжбы». Любой конфликт, дошедший до суда, свидетельствует о духовном поражении. Это не просто этический совет, а гносеологический принцип: ум, вовлеченный в тяжбу, помрачается страстями и становится неспособным к чистому созерцанию Бога. Путь гностика лежит не через залы суда, а через Голгофу терпения и прощения.
Богословско-философский комментарий
Это лаконичное изречение из «Гностика» (8) представляет собой одну из самых радикальных этических и аскетических формул Евагрия. На первый взгляд, это максима, призывающая к полному отказу от мирских разбирательств. Однако в контексте учения Евагрия она раскрывается как глубокий гносеологический принцип: состояние ума, необходимое для созерцания, абсолютно несовместимо с состоянием тяжбы. Евагрий переносит оценку поступка с юридической плоскости («кто прав?») на духовную («в каком состоянии душа?»).
1. «Позор» как маркер духовного падения
Евагрий начинает с сильного слова «постыдно» (αἰσχρόν). Это не просто «неправильно» или «греховно». Это «безобразно», «унизительно» для высокого достоинства гностика. Гностик – это тот, кто достиг бесстрастия (ἀπάθεια) и чей ум (νοῦς) призван быть чистым зеркалом Божества. Участие в судебной тяжбе – это признание того, что зеркало покрылось грязью страстей, что духовный аристократ добровольно спустился на уровень мирских склок. Как показывают исторические свидетельства, Евагрий выступал против реальной практики судебных разбирательств среди монахов, видя в этом полное извращение монашеского идеала.
2. Равенство обиженного и обидчика перед лицом апатии
Гениальность формулы Евагрия – в уравнивании обеих сторон конфликта. С точки зрения гносиса, неважно, кто инициировал несправедливость. Важно, что оба участника тяжбы оказались во власти страстей.
Для обиженного (ἀδικουμένῳ) позор в том, что он «не претерпел» (οὐχ ὑπέμεινεν).
Здесь – прямая отсылка к евангельскому идеалу непротивления (Мф. 5:39) и несения креста. Неспособность претерпеть обиду – это ясный диагноз: душа все еще больна гневом, самолюбием, привязанностью к материальному. Гностик, ищущий суда, показывает, что его упование не на Бога, а на человеческую справедливость, и что его бесстрастие было мнимым. Как учит преподобный Иоанн Лествичник, такой человек демонстрирует отсутствие веры в Божий Промысл.
Для обидчика (ἀδικοῦντι) позор в том, что он «совершил несправедливость» (ἠδίκησε).
Этот случай еще более очевиден. Сам акт несправедливости – это прямое действие страсти (жадности, зависти, ненависти), что является полной противоположностью состоянию гностика. Он не просто не выдержал испытания, он сам стал источником зла и соблазна.
Таким образом, Евагрий ставит знак равенства не между поступками, а между их духовными корнями. И в нетерпении обиженного, и в действиях обидчика он видит один и тот же корень – страсть, которая делает ум слепым.
3. Философский контекст: Отказ от мира мнений
В неоплатонической традиции, особенно у Плотина, душа, стремящаяся к Единому, должна подняться над миром множественности, конфликтов и мнений (δόξα). Судебная тяжба – это квинтэссенция жизни в сфере доксы, горизонтальной плоскости мирских столкновений. Гностик же призван жить в вертикальном измерении, где его ум (νοῦς) обращен к Богу. Участие в суде – это добровольный уход с этой вертикали, возвращение в пещеру теней.
4. Гностик как образ Христа
В конечном счете, призыв Евагрия основан на христологии. Гностик должен быть образом Христа, «Который, будучи злословим, не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2:23). Суд – это прерогатива Бога. Задача гностика – терпеть, молиться за обидчиков и являть миру образ кротости и любви. Как было сказано ранее, гностик должен быть «солью» и «светом». Тяжба же делает его пресным и темным, лишая его духовной силы и свидетельства.