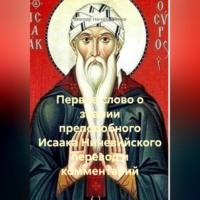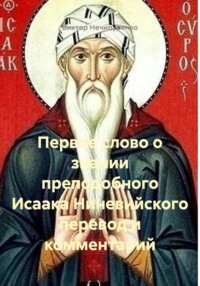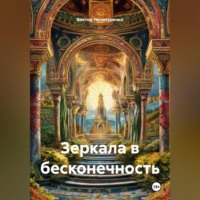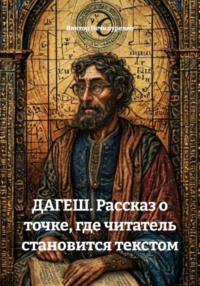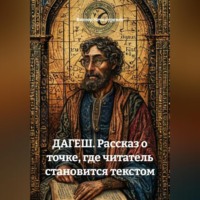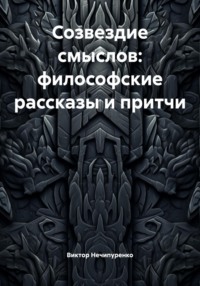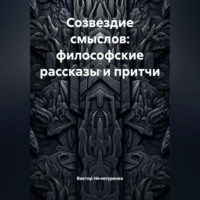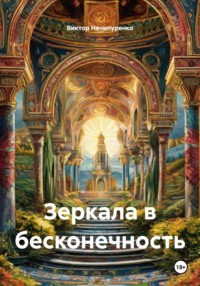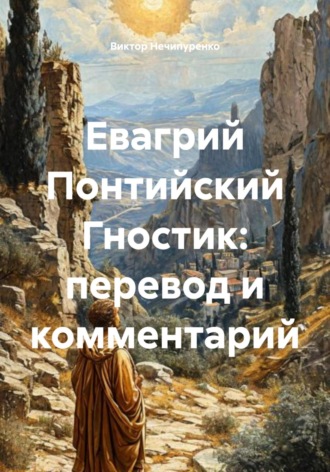
Полная версия
Евагрий Понтийский Гностик: перевод и комментарий
1. Первое ведение: Внешнее, дискурсивное, опосредованное
Ἡ ἔξωθεν… γνῶσις (hē exōthen… gnōsis) – «Ведение, [приходящее] извне». Это знание, получаемое через обучение, чтение, слушание, то есть через внешние каналы. Это «школьное», научное, философское знание.
διὰ τῶν λόγων (dia tōn logōn) – «посредством логосов». Здесь λόγος употребляется в своем первоначальном значении: «слово», «определение», «рассуждение». Это знание, которое оперирует концепциями, определениями, категориями.
ὑποδεικνύειν… τὰς ὕλας (hypodeiknyein… tas hylas) – «указывать на материи». Глагол ὑποδεικνύω означает «указывать», «намекать», «показывать в общих чертах». ὕλη здесь не просто «материя», а «предмет», «тема», «сущность вопроса». Это знание не схватывает вещь напрямую, а лишь указывает на нее через словесную конструкцию.
Вывод о первом ведении. Это знание о вещах, а не знание самих вещей. Оно всегда опосредовано языком и концептуальным аппаратом. Оно похоже на чтение описания горы, а не на пребывание на ее вершине.
2. Второе ведение: Внутреннее, интуитивное, непосредственное
Ἡ ἐκ Θεοῦ χάριτος ἐγγινομένη (hē ek Theou charitos enginomenē) – «[Ведение], рождаемое [в нас] по благодати Божией». Источник этого знания – не внешний учитель, а Сам Бог. Это дар, а не результат интеллектуальных усилий.
αὐτοψίᾳ… παρίστησι τὰ πράγματα (autopsiāi… paristēsi ta pragmata) – «представляет сами вещи для непосредственного созерцания». Αὐτοψία (букв. «само-видение») – ключевой термин. Он означает прямое, непосредственное видение, без посредников. Это знание-свидетельство, знание-опыт. Объект – τὰ πράγματα, «сами вещи», их реальность как она есть, а не ее описание.
πρὸς ἃ βλέπων ὁ νοῦς, τοὺς αὐτῶν λόγους προσίεται (pros ha blepōn ho nous, tous autōn logous prosietai) – «ум, взирая на них, принимает их логосы». Здесь λόγος употребляется уже в его метафизическом смысле: «внутренний смысл», «божественный принцип». Ум (νοῦς) не конструирует эти смыслы, а принимает (προσίεται) их в себя, пассивно и интуитивно, в акте чистого созерцания.
Вывод о втором ведении. Это прямое, благодатное созерцание истинной природы вещей, которое даруется очищенному уму. Это знание самих вещей в их божественных смыслах.
3. Противоположности: Что препятствует каждому виду знания?
Евагрий завершает афоризм, указывая на то, что мешает каждому виду познания. И это самое важное для аскетической практики.
Первому ведению противостоит ἡ πλάνη (hē planē) – заблуждение. Так как внешнее знание строится на логике и рассуждениях, его главный враг – интеллектуальная ошибка, ложный вывод, софизм, ересь. Это ошибка на уровне рассудка.
Второму ведению противостоит ὀργὴ καὶ θυμός (orgē kai thymos) – гнев и ярость. Почему? Потому что благодатное созерцание возможно только в состоянии апатии и совершенной тишины ума. Гнев, ярость и другие страсти яростной части души (раздражительность, злопамятство, ненависть) – это самые сильные возмущения, которые делают ум слепым к Божественному свету. Они создают «шум» и «дым», которые полностью блокируют способность к созерцанию.
Вывод. Чтобы не ошибаться в науках и философии, нужно развивать интеллект и логику. Чтобы обрести божественное ведение, нужно очистить сердце от страстей, в первую очередь – от гнева. Евагрий переводит фокус с интеллектуальных упражнений на аскетический подвиг как на необходимое условие истинного богопознания.
Анализ сирийского перевода
Сирийский переводчик вновь демонстрирует глубокое понимание. Он передает ὕλη как (mallewāh) – «наполнение», «содержание», что очень точно. Αὐτοψία он переводит наречием (ḥtītā'īt) – «точно», «тщательно», «воистину», что хорошо передает идею прямого, неискаженного видения. Различие между двумя логосами также уловлено: в первом случае это (melle) – «слова», во втором – он сохраняет тот же термин, но в контексте видения «самих вещей», что подразумевает уже их «смыслы».
В этом афоризме раскрывается мистическая эпистемология Евагрия. Он утверждает превосходство благодатного, созерцательного знания над дискурсивным, научным. Но, что более важно, он указывает путь к этому высшему знанию: не через накопление информации, а через очищение сердца (κάθαρσις) от страстей. Путь к истинному богословию лежит через аскезу.
Богословско-философский комментарий
Евагрий Понтийский проводит фундаментальное различие между двумя типами знания, определяя их источник, метод и то, что им противостоит. Тем самым он не просто описывает два способа познания, но выстраивает иерархию и указывает путь от низшего к высшему.
1. Внешнее знание: Мир концепций и слов
Первый тип знания Евагрий называет «приходящим извне» (ἔξωθεν). Это знание, которое мы получаем через наши чувства, через обучение, чтение книг и слушание учителей. Его метод – дискурсивный: оно оперирует «логосами» в значении слов, определений и понятий. Его цель – «указывать на материи» (ὑποδεικνύειν τὰς ὕλας), то есть описывать и классифицировать реальность.
Это знание по своей природе опосредованное. Оно не дает нам саму вещь, а лишь ее концептуальную модель, словесную икону. Это подобно изучению подробной карты местности вместо того, чтобы путешествовать по ней. Такое знание ценно и необходимо на своем уровне, но оно всегда остается знанием о вещах, а не знанием самих вещей. Его главный враг – заблуждение (πλάνη): логическая ошибка, неверный вывод, ложная посылка. Борьба с заблуждением ведется на поле интеллекта.
Важно отметить, что Евагрий, в отличие от многих других отцов, не обесценивает полностью «внешнее знание». Если святитель Афанасий противопоставляет «внешнюю мудрость» богочестию преподобного Антония, то Евагрий придает этому знанию положительное, хотя и низшее, значение. Ему противостоит заблуждение, а не истина, что указывает на его относительную ценность. Это знание можно соотнести с «естественным созерцанием» (φυσικὴ θεωρία), так как оно постигает тварный мир посредством логосов-понятий. Как отмечает святитель Григорий Палама, такое знание – это «естественный дар», дарованный Богом через природу, но его не следует путать с «духовным даром» благодати.
2. Внутреннее знание: Благодатное созерцание реальности
Второму, высшему типу знания, противостоит знание, «рождаемое в нас по благодати Божией» (ἐκ Θεοῦ χάριτος ἐγγινομένη). Его источник – не внешний мир, а Сам Бог, просвещающий очищенный ум. Его метод – непосредственное созерцание (αὐτοψία). Это прямое, интуитивное видение «самих вещей» (τὰ πράγματα), реальности как она есть, без посредничества слов и понятий.
В этом акте созерцания ум (νοῦς) не конструирует, а «принимает» (προσίεται) внутренние «логосы» вещей – их божественные смыслы, вложенные в них Творцом. Это знание-опыт, знание-встреча. Если внешнее знание – это чтение меню, то внутреннее знание – это вкушение самой пищи. Это вершина познания, которую Евагрий именует «естественным созерцанием» (φυσικὴ θεωρία), предваряющим высшее созерцание Самого Бога.
Неоплатонический контекст
Различие между дискурсивным мышлением (διάνοια) и интуитивным созерцанием (νόησις) является фундаментальным для неоплатонизма. Плотин и Прокл учили, что дискурсивное знание всегда опосредовано, оно движется от одного понятия к другому, в то время как высшее познание – это мгновенное, целостное и прямое постижение умом (νοῦς) истинно-сущих форм.
Евагрий, христианизируя эту структуру, утверждает, что очищенный ум (νοῦς) способен к непосредственному созерцанию (αὐτοψία) – видению вещей такими, как они есть в Боге. Это видение «умным оком», о котором говорит и святитель Григорий Нисский. В этом процессе ум не просто анализирует, но интуитивно «принимает» (προσίεται) логосы-смыслы вещей, которые становятся для него прозрачными. Этот процесс сродни платоновскому анамнезису (припоминанию), но переосмысленному в христианском ключе: истинное знание – это не интеллектуальное припоминание, а благодатное откровение, даруемое душе, вернувшейся в свое естественное, чистое состояние.
Внутреннее ведение, о котором говорит Евагрий, – это опытное переживание истины. Такое знание:
Не рассуждает, а вкушает.
Не описывает, а пребывает.
Не анализирует, а созерцает.
Это знание сродни видению Моисея на горе или прозрению апостолов на Фаворе. Оно не может быть «получено» усилием интеллекта; его можно только принять в дар, вынашивая в безмолвии и чистоте сердца, и родить по благодати.
3. Аскетический поворот: Главный враг – гнев
Самый важный, поистине революционный тезис Евагрия заключается в определении того, что препятствует этому высшему, благодатному знанию. Его враг – не интеллектуальное заблуждение, а гнев, ярость (ὀργὴ καὶ θυμός) и сопутствующие им страсти (злопамятство, ненависть, раздражительность).
Почему именно гнев? Потому что страсти яростной части души, согласно психологии Евагрия, являются самым мощным возмущением, которое ослепляет ум и делает его неспособным к тонкому духовному восприятию. Гнев создает внутренний «шум», «дымку», «бурю», которая полностью блокирует зеркало ума, не давая ему отразить Божественный свет. Чистота сердца, и в первую очередь умиротворение яростной части души, является необходимым условием (conditio sine qua non) для созерцания.
От эллинской мудрости к христианской аскезе
Этим афоризмом Евагрий совершает кардинальный сдвиг от классической античной эпистемологии к христианской мистической. Для платоника путь к истине лежал через диалектику и очищение интеллекта. Для Евагрия путь к истинному ведению лежит через аскетический подвиг (πρᾶξις) и очищение сердца (κάθαρσις). Он утверждает, что богословом становится не тот, кто больше всех знает, а тот, кто больше всех молится и борется со страстями. Путь к истинному познанию Бога и творения лежит не через библиотеку, а через келью; его главный инструмент – не силлогизм, а молитва и бесстрастие. Этот тезис стал краеугольным камнем всей последующей исихастской традиции.
Евагрий противопоставляет два пути познания: внешний, словесный, и внутренний, благодатный. Последний открывает уму не просто информацию о вещах, но их сокровенные смыслы (логосы) в самом их бытии. Это ведение не преподается, а рождается; ему не обучают, а его созерцают. И путь к нему лежит не через преодоление интеллектуальных заблуждений, а через победу над страстями. Таким образом, Евагрий утверждает фундаментальный принцип всего восточного исихазма: истинным богословом является не тот, кто много знает, а тот, кто чист сердцем, ибо только чистые сердцем Бога узрят.
5. Все добродетели прокладывают путь (ὁδοποιοῦσιν) гностику, но превыше всех – негневливость (ἀοργησία). Ибо тот, кто коснулся ведения и при этом легко подвизается на гнев, подобен тому, кто железным шилом пронзает себе глаза.
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Все добродетели подготавливают путь для созерцателя, но превыше всех [из них] – негневливость. Ибо тот, кто [уже] соприкоснулся с [даром] ведения, но при этом легко приходит в состояние гнева, подобен тому, кто раскаленным шилом (или иглой) выкалывает себе собственные глаза.
Филологический и богословский анализ
Этот афоризм – один из самых ярких и практически ориентированных в «Гностике». Он утверждает иерархию добродетелей и с помощью шокирующего образа показывает губительные последствия гнева для духовного зрения.
1. Πᾶσαι… αἱ ἀρεταί (pasai… hai aretai) – Все добродетели
Евагрий начинает с общего утверждения: все добродетели (ἀρεταί) важны. Они – инструменты практики (πρᾶξις), которые очищают душу и «прокладывают путь» (ὁδοποιοῦσιν) для гностика. Глагол ὁδοποιέω буквально означает «делать дорогу», «готовить путь». Добродетели – это не самоцель, а средство, подготавливающее душу к принятию высшего дара – гносиса.
2. Ὑπὲρ δὲ πάσας ἡ ἀοργησία (hyper de pasas hē aorgēsia) – Но превыше всех – негневливость
Здесь Евагрий вводит иерархию. Хотя все добродетели полезны, одна из них имеет исключительное, первостепенное значение именно для гностика, то есть для того, кто уже находится на ступени созерцания.
Ἀοργησία (aorgēsia) – «негневливость», «отсутствие гнева». Это состояние, противоположное страсти гнева (ὀργή). Это не просто подавление гнева, а искоренение самой склонности к нему, достижение глубокого внутреннего мира. Эта добродетель принадлежит к состоянию апатии, но Евагрий выделяет ее особо, потому что она напрямую связана с чистотой ума (νοῦς).
3. Ὁ γὰρ γνώσεως ἐφαψάμενος (ho gar gnōseōs ephapsamenos) – Ибо тот, кто коснулся ведения
Это очень важная деталь. Евагрий говорит не о новичке, а о том, кто уже «коснулся» (ἐφαψάμενος) гносиса. Глагол ἐφάπτομαι означает легкое, неполное соприкосновение. Это указывает на то, что гносис – это не стабильное, раз и навсегда приобретенное состояние, а хрупкий дар, который можно легко потерять. Человек мог получить момент благодатного озарения, но еще не утвердился в нем.
4. Καὶ πρὸς ὀργὴν ῥᾳδίως κινούμενος (kai pros orgēn radiōs kinoumenos) – И при этом легко подвизается на гнев
Это описание духовной неустойчивости. Ῥᾳδίως («легко», «без труда») и κινούμενος («подвигаемый», «приводимый в движение») показывают, что страсть еще не побеждена и может легко взять верх. Здесь Евагрий описывает парадоксальную, но реальную духовную опасность: человек может достичь высоких духовных состояний и при этом оставаться уязвимым для базовых страстей, особенно для гнева.
5. Ὅμοιός ἐστι τῷ σιδηρᾷ περόνῃ τοὺς ἑαυτοῦ ὀφθαλμοὺς κατανύττοντι (homoios esti tōi sidērāi peronēi tous heautou ophthalmous katanyttonti) – Подобен тому, кто железным шилом пронзает себе глаза
Это кульминация афоризма – мощный и жестокий образ.
σιδηρᾷ περόνῃ (sidērāi peronēi) – «железным шилом/иглой/булавкой». Περόνη – это острый инструмент. В некоторых переводах встречается «раскаленное железо», что усиливает образ, хотя в греческом тексте этого эпитета нет. Сам материал – железо – уже указывает на нечто жесткое и безжалостное.
τοὺς ἑαυτοῦ ὀφθαλμοὺς (tous heautou ophthalmous) – «свои собственные глаза». Акцент на том, что вред причиняется самому себе. Гнев – это акт духовного самоповреждения.
κατανύττοντι (katanyttonti) – «пронзающему», «прокалывающему». Этот глагол (от которого происходит слово «катексис» или «умиление» – κατάνυξις) имеет здесь свое прямое, физическое значение.
Богословская суть образа:
Глаза – это, конечно, ум (νοῦς), «око души», орган духовного созерцания.
Гнев – это шило, которое ослепляет этот орган.
Гнев не просто «затуманивает» или «искажает» духовное зрение – он его уничтожает, делает ум слепым к Божественному свету. Это объясняет, почему негневливость так важна: она защищает сам орган богопознания.
Анализ сирийского перевода
Сирийский переводчик вновь демонстрирует точность и понимание.
Он передает ὁδοποιοῦσιν как (maddīlān 'urḥā) – «указуют/прокладывают путь», что очень точно.
Περόνη он переводит как (maḥṭā) – «игла», что является одним из правильных значений.
Глагол κατανύττω передан как (mǝda''ēṣ) – «вонзать», «пронзать», что также передает силу образа.
Весь строй фразы и ее смысл сохранены идеально.
Этот афоризм устанавливает практический приоритет в духовной жизни гностика. Путь к ведению вымощен всеми добродетелями, но само здание ведения стоит на фундаменте негневливости. Любой приступ гнева – это не просто шаг назад, а акт прямого разрушения уже достигнутого, акт духовного самоубийства.
Богословско-философский комментарий
В пятой главе своего «Гностика» Евагрий Понтийский переходит от теоретических основ познания к его практическим условиям. Этот афоризм устанавливает четкую иерархию добродетелей, выдвигая на первый план негневливость (ἀοργησία) как ключевое и незаменимое условие для созерцательной жизни. Через поразительно сильный образ самоослепления Евагрий демонстрирует не просто вред, а абсолютную несовместимость гнева с духовным ведением.
1. Добродетели как «путепрокладчики» гносиса
Евагрий начинает с утверждения, что «все добродетели прокладывают путь (ὁδοποιοῦσιν) гностику». В его аскетической системе добродетели – это не самоцель и не просто моральные качества. Это активные духовные практики, инструменты «делания» (πρᾶξις), которые очищают душу от страстей и подготавливают ее к принятию ведения (γνῶσις). Они подобны рабочим, которые расчищают и выравнивают дорогу, по которой сможет пройти Царь. В духе платонизма, добродетели очищают душу и уподобляют ее высшему Благу, но Евагрий наполняет эту идею христианским содержанием: добродетели – это не только человеческое усилие, но и синергическое действие с Божественной благодатью, открывающее душу для Святого Духа.
2. Негневливость – вершина и страж добродетелей
Однако, признавая ценность всех добродетелей, Евагрий немедленно выделяет одну из них как наиважнейшую: «но превыше всех – негневливость». Почему именно она? Потому что если другие добродетели строят и украшают дом для души, то негневливость охраняет сам «глаз» души – ум (νοῦς), орган богопознания.
Евагрий здесь не одинок. Преподобный Антоний Великий включает негневливость в число наиглавнейших добродетелей наряду с любовью, верой и рассудительностью. Позднейшие отцы, как преподобный Феогност, видят в ней незаменимого хранителя чистоты сердца. Но Евагрий делает особый акцент на ее гносеологической функции. Он тесно связывает негневливость с двумя другими ключевыми добродетелями.
Любовь (ἀγάπη). В «Слове о духовном делании» Евагрий называет любовь «уздой ярости». Любовь усмиряет и преображает страстную часть души, делая негневливость возможной.
Кротость (πραύτης). В своих письмах Евагрий именует кротость «матерью ведения». Кротость – это не пассивная мягкость, а активное, благодатное состояние внутреннего мира, которое и рождает способность к созерцанию.
Негневливость, таким образом, – это не просто отсутствие гнева, а плод любви и синоним кротости, состояние, отражающее евангельский идеал Христа, «кроткого и смиренного сердцем» (Мф. 11:29).
3. Гнев как акт духовного самоослепления
Кульминацией афоризма является его вторая часть, где Евагрий рисует страшную картину: «Ибо тот, кто коснулся ведения и при этом легко подвизается на гнев, подобен тому, кто железным шилом пронзает себе глаза».
Этот образ раскрывает несколько важнейших истин.
Хрупкость гносиса. Евагрий говорит о том, кто лишь «коснулся» (ἐφαψάμενος) ведения. Это подчеркивает, что духовные дары, особенно на начальных этапах созерцания, не являются постоянной собственностью. Их можно легко утратить.
Гнев – это самоубийство для ума. Образ самоослепления показывает, что гнев – это не внешний враг, а акт внутреннего саморазрушения. Гневаясь, подвижник сам уничтожает в себе способность видеть Бога.
Гнев – не просто помеха, а уничтожитель. Гнев не «затуманивает» и не «искажает» зрение – он его уничтожает. В платонической традиции ум (νοῦς) – это «око души». Гнев, по Евагрию, – это раскаленное шило, которое выжигает это око, делая его абсолютно слепым. Он радикально несовместим с состоянием созерцания.
Этот образ перекликается с учением всей исихастской традиции, от Исаака Сирина до Григория Паламы, которые единодушно утверждали, что умная молитва и созерцание божественного света возможны только в состоянии полного бесстрастия и мира.
Радикальный выбор подвижника
Пятая глава «Гностика» ставит перед подвижником радикальный выбор. Путь к Богу требует возделывания всех добродетелей, но в центре этого делания должна стоять неустанная борьба за негневливость. Каждый приступ гнева для того, кто уже вкусил сладость ведения, – это не просто падение или ошибка, а сознательный (или безрассудный) акт самоослепления, отказ от уже дарованного света.
Евагрий синтезирует здесь христианскую и философскую мудрость, показывая, что негневливость – это не просто стоический самоконтроль, а плод божественной любви и благодати, преображающий душу и восстанавливающий ее богоподобие. Для современного человека, живущего в мире, провоцирующем гнев на каждом шагу, напоминание Евагрия звучит особенно остро: мир сердца – это не роскошь, а необходимое условие для того, чтобы видеть Бога и оставаться человеком.
6. Пусть гностик соблюдает бдительность (ἀσφαλιζέσθω) в [своих] снисхождениях, чтобы снисхождение не стало для него неосознанной привычкой (ἕξις); и пусть он старается всегда в равной степени совершать все добродетели, чтобы они следовали друг за другом в нем, ибо ум по своей природе предается [врагу] через ослабевающую [добродетель].
Вариант с пояснениями (раскрывающий смысл):
Пусть созерцатель будет тверд и осторожен в проявлении снисходительности, дабы она незаметно для него не превратилась в [пагубную] привычку [расслабленности]. Он должен стремиться всегда равномерно преуспевать во всех добродетелях, чтобы они гармонично следовали одна за другой в его душе, ибо ум имеет свойство быть преданным [врагу] через ту добродетель, которая ослабевает.
Филологический и богословский анализ
Этот афоризм – блестящий пример пастырской мудрости Евагрия. Он предостерегает от тонкой духовной опасности, когда добродетель, вырванная из общего контекста, превращается в свою противоположность. Текст построен на трех ключевых идеях: опасность снисхождения, необходимость гармонии добродетелей и уязвимость ума.
1. Συγκατάβασις (synkatabasis) – Снисхождение и его опасность
Значение термина. Συγκατάβασις (букв. «со-схождение вниз») – это важнейший пастырский и богословский термин. Он может означать:
Снисхождение Бога к человеку, кульминацией которого является Воплощение (Кенозис).
Снисхождение духовного наставника к немощи ученика. Это осознанный педагогический акт, как у апостола Павла: «для всех я сделался всем» (1 Кор. 9:22). Это не слабость, а проявление любви и мудрости.
Опасность. Евагрий предупреждает, что эта добродетель может стать ἕξις (hexis) – устойчивой привычкой, навыком. ἕξις – аристотелевский термин, обозначающий прочное качество души. Но если снисхождение из осознанного акта любви превращается в неосознанную, привычную мягкость, оно становится расслабленностью, попустительством, компромиссом с грехом. Учитель перестает вести ученика вверх, а сам начинает скатываться вниз вместе с ним.
Λάθῃ αὐτόν (lathēi auton) – «незаметно для него». Опасность усугубляется тем, что этот переход происходит неосознанно. Подвижник теряет трезвение и перестает различать, где он помогает, а где потакает.