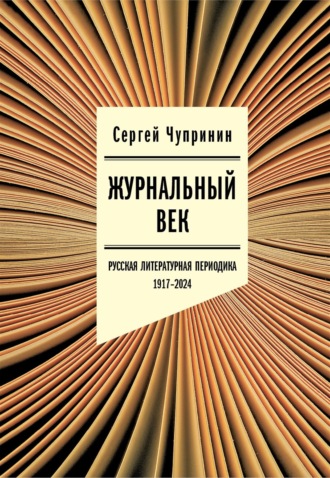
Полная версия
Журнальный век. Русская литературная периодика. 1917–2024
А командовать «Звездой» был назначен Александр Еголин «с сохранением за ним должности заместителя начальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б)», и он, – по словам Андрея Арьева, – «катался еженедельно из Москвы в Ленинград и обратно в течение четырех месяцев»140, пока не передал бразды правления проверенному питерскому критику Валерию Друзину (1947–1957).
И они с поставленными задачами справились отлично. Уже в тот же сдвоенный № 7/8, который открывался публикацией постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», успели поставить статью Л. Плоткина «Проповедник безыдейности – М. Зощенко»141, в следующий 9-й номер заверстали перепечатанную из газеты «Культура и жизнь» (30 августа) статью И. Сергиевского «Об антинародной поэзии А. Ахматовой»… И за короткое время бичующих опусов набралось столько, что они были собраны даже в отдельную книгу «Против безидейности в литературе: Сб. статей журнала „Звезда“» (Л.: Сов. писатель, 1947).
Дули на воду, и отмываясь от прежних грехов, и чуть позже без паузы включившись в борьбу со злокозненными космополитами, буржуазными националистами, прочими «знаменосцами безыдейности». Хотя, конечно, без промашек, без неприятностей и тут не обходилось.
То начнут в 1-м номере за 1949 год, когда вовсю уже шла охота на людей с еврейскими фамилиями, печатать повесть «Подполковник медицинской службы» Юрия Германа, заведовавшего, кстати, в это время журнальным отделом прозы. Но во 2-м номере обещанного продолжения не последует, а в 3-м появится покаянное письмо автора, которому, мол, «было указано, что главный герой повести доктор Левин живет замкнувшимся в своем ограниченном мирке, целиком погружен в свои страдания, что такой человек не имеет права называться положительным героем». А раз так, – сказано в письме, – то, осознав эти ошибки, я не считаю возможным печатать продолжение повести в журнале «Звезда», так как она нуждается в коренной переработке с первой главы до последней.
То в 1950 году власть распорядится изъять из библиотек142 и уничтожить мартовский номер журнала за 1947 год и сдвоенный октябрьский-ноябрьский за 1948-й, где был упомянут расстрелянный вождь ленинградских большевиков А. Кузнецов.
То «Правда» уже 2 июля 1951 года редакционной статьей «Против идеологических извращений в литературе» ударит по переведенному А. Прокофьевым и напечатанному в «Звезде» (№ 5) стихотворению Владимира Сосюры «Люби Украину» – мол, под ним «подпишется любой недруг украинского народа из националистического лагеря, скажем Петлюра, Бандера и т. п.».
В общем, как ни старались, а жили все одно будто на вулкане. Хотя, право слово, старались отчаянно – уже зловещий 1946 год закрыв (№ 12) антиамериканской пьесой Константина Симонова (или, как сам автор говорил, «памфлетом публицистического порядка») «Русский вопрос», – и власть одарила его Сталинской премией. На следующий год появился роман Веры Кетлинской «В осаде» (№ 6–10) – и опять удача: Сталинская премия третьей уже, правда, степени. А писателем номер один на все мрачное семилетие стал для «Звезды» входивший в силу Всеволод Кочетов: повести «На невских равнинах» (1946, № 1–2/3), «Предместье» (1947, № 3), «Нево-озеро» (1948, № 11), романы «Под небом Родины» (1950, № 10–11), «Журбины» (1952, № 1–2), «Молодость с нами» (1954, № 9–11).
Этим романам тоже бы, конечно, по Сталинской премии, но она со смертью кормчего всех искусств была прикрыта, а сам Кочетов, возглавляя городскую писательскую организацию, своей идейной упертостью и дурным нравом настолько осточертел подопечным литераторам, что со временем вынужден был перебраться в Москву и в «Звезде» спустя годы напечатался лишь единожды, зато хлестко – романом «Секретарь обкома» (1961, № 7–9). Свято место пусто, однако, не бывает – его на журнальных страницах заполнили Н. Вирта, С. Воронин, Б. Папаригопуло, Ю. Лаптев, В. Дружинин, Ю. Помозов, Н. Асанов, Д. Еремин и тутти кванти.
Хотя не они одни, впрочем, так как едва ли не в параллель кочетовской на питерский небосклон всходила еще одна крупная литературная величина – Даниил Гранин, появившийся в «Звезде» с рассказом «Вариант второй» (1949, № 1), а громкую всесоюзную славу обретший с романом «Искатели» (1954, № 7–8).
За него схватились, и как было не схватиться: пристойный литературный уровень, отсутствие наглядного конъюнктурного сервилизма, интерес к теме научно-технического прогресса и – главное – умение вести повествование по самой грани между безусловно приемлемым и в идеологическом плане рискованным.
Так и прожил журнал все дальнейшие советские десятилетия – будто на грани, а еще вернее – будто на качелях между унылой казенной серостью и публикациями, держащими честь литературы, но не пересекающими пресловутую красную линию. Такова была и тактика, и стратегия Георгия Холопова, который – надо думать, неожиданно для себя – еще 25-летним побывал главным редактором «Звезды» в 1939–1940 годах, а в 1957-м пришел руководить ею на добрые тридцать с лишком лет.
Политически, – рассказывает Геннадий Николаев, – он всегда был в высшей степени благонадежным, верил, как и многие в ту пору, в торжество коммунизма, в правильность и незыблемость партийного руководства. Диссидентов и критиков режима считал антисоветчиками, без сомнений и колебаний подписывал коллективные письма против них143.
Однако вкус к литературе имел, хорошее от притворявшегося хорошим и откровенно дурного отличал. Поэтому, едва придя в редакцию, реабилитировал Юрия Германа, опубликовав роман «Дело, которому ты служишь» (1957, № 11–12). Вернул в жизнь после почти тридцатилетней опалы зощенковскую «Повесть о разуме» (1972, № 3), что должна была завершить книгу «Перед восходом солнца». Печатал Федора Абрамова, Александра Володина, Даниила Гранина, Вениамина Каверина, Виктора Конецкого, Александра Кушнера, Виктора Соснору, Вадима Шефнера – вплоть до явного маргинала Рида Грачева, чей рассказ «Ничей брат» нечаянно проскочил в декабрьском номере за 1965 год.
Неприятности и при Холопове случались, конечно, причем неожиданные. Заверстали, например, в первый номер 1964 года повесть идейно проверенного Михаила Алексеева «Хлеб – имя существительное» и даже предварили публикацию бравурным анонсом:
Отлично написанные характеры, выразительный язык, идейная глубина и целеустремленность повести – все это, по мнению редакции журнала «Звезда», делает повесть М. Алексеева достойной высокой награды – Ленинской премии.
А цензура бац – и тормознула: «Во многих новеллах этой повести содержится критика на колхозное строительство в прошлом и настоящем, на мероприятия властей и партийных органов, описывается в мрачных тонах жизнь крестьянина», поэтому, каким бы автоматчиком партии ни был М. Алексеев, его повесть «ни в какой мере не способствует укреплению колхозного строя. Наоборот, она может сыграть роль „ушата холодной воды“, обрушенного на головы людей, воодушевленных решениями декабрьского пленума ЦК»144.
Потребовалось, понятное дело, «перекосы» срочно выправлять и с тех пор на все хоть сколько-нибудь рискованное смотреть с особым бдением. Уже не только надеясь на Ленгорглавлит, но и напрямую запрашивая санкцию товарищей из ленинградского УКГБ, и те неизменно приходили на помощь. Так, после запроса Холопова – процитируем цензорскую справку, – серьезной переработке были подвергнуты главы романа Германа «Я отвечаю за все» (№ 5–6, 1965 г.), в которых речь шла о деятельности органов КГБ в годы культа личности Сталина, о многочисленных репрессиях, о тех зверствах и истязаниях, которым подвергались заключенные старые большевики со стороны работников КГБ. Эти главы были посланы в органы КГБ, по указанию которых текст был переработан.
Вот и вышло, – еще раз сошлемся на мнение Г. Николаева, не один год проработавшего в редакции, – что «Звезда» при Холопове «приобрела репутацию журнала хотя и интеллигентного, в целом прогрессивного, но крайне робкого, противоречивого, уклончивого, без своего ярко выраженного лица»145.
И, едва развернулась перестройка, эта межеумочность стала для сотрудников редакции нестерпимой. Холопова и его первого заместителя Петра Жура146 вынудили уйти в отставку, а в мае 1988 года по моде тех лет общее собрание ленинградских писателей выбрало из трех кандидатов на пост главного редактора «Звезды» Геннадия Николаева. В ноябре он был утвержден решением бюро секретариата правления СП СССР, да и как не утвердить: перестройка ведь, демократия на марше. К тому же месяцем ранее в «Правде» появилась красноречиво скупая информация:
…Политбюро рассмотрело обращения в ЦК КПСС Союза писателей СССР и Ленинградского обкома КПСС об отмене постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Отмечено, что в указанном постановлении ЦК ВКП(б) были искажены ленинские принципы работы с художественной интеллигенцией, необоснованной, грубой проработке подверглись видные советские писатели. Проводимая партией в условиях революционной перестройки политика в области литературы и искусства практически дезавуировала и преодолела эти положения и выводы, доброе имя видных писателей восстановлено, а их произведения возвращены советскому читателю. Политбюро отменило постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» как ошибочное147.
Зловещий морок, десятилетиями висевший над журналом, рассеялся, «28 ноября, в понедельник, я появился в „Звезде“ в новом качестве», – рассказывает Г. Николаев, и новая редколлегия, в которую вошли Андрей Арьев, Яков Гордин, Юрий Карякин, Александр Кушнер, Валерий Попов, Борис Стругацкий, Сергей Тхоржевский и Адольф Урбан, взялась за работу.
К такой «Звезде» потянулись, и первым среди многих Николаев называет будущего главу правительства Егора Гайдара с концептуальной статьей «Соблазн простых решений». Полумертвый Ленинградский обком и полумертвая цензура еще вставляли или пытались вставить палки в колеса. Но процесс уже пошел: обширные главы из «Красного колеса» Александра Солженицына, книга «Мир, прогресс, права человека» Андрея Сахарова и его интервью иностранным корреспондентам, романы «Над потаенной строкой» Вениамина Каверина, «Семейный календарь, или Жизнь от начала до конца» Леонида Лиходеева, воспоминания генерала Петра Григоренко и былых узников ГУЛАГа, публицистика Антона Антонова-Овсеенко и Роя Медведева, публикации из архива Анны Ахматовой, Евгения Шварца, Александра Галича, Владимира Тендрякова…
И, конечно, Бродский. Конечно, Довлатов. Конечно, выбравшиеся из андеграунда Виктор Кривулин, Елена Шварц, Петр Кожевников, Владимир Уфлянд, иные многие.
Принципиально значимые традиции «Звезды» закладывались уже тогда, и выделить стоило бы, во-первых, подготовку целевых номеров, начатую еще ахматовским выпуском в июне 1989 года, а во-вторых, преимущественный интерес к истории Отечества и отечественной литературы, взгляд с классических (в том числе потаенно классических) позиций и на то, что творится в сегодняшней словесности. Появились новые рубрики, и вели их первые перья: «Философский комментарий» – Борис Парамонов, «Книжный угол» – Иван Толстой, «Уроки изящной словесности» – их читателям давали сначала Петр Вайль и Александр Генис*148, затем Самуил Лурье.
При редакции, на манер Московской, стала действовать «Ленинградская трибуна», собирающая прорабов перестройки. Возникли многообещающие планы собственного книгоиздания. Мало ли!..
Однако, – в последний раз сошлемся на воспоминания Николаева, – по официальным итогам подписки на 1992 год тираж «Звезды» со 140 тысяч экземпляров упал до 62-х. Более чем в два раза! Такая же картина наблюдалась и по другим «толстым» журналам. Обвальное падение тиражей продолжалось и далее. Вздорожала бумага, полезли вверх цены на услуги по хранению, пересылке, перевозке. Над журналом нависла угроза банкротства…
И Николаев, решив, что его миссия выполнена, свой пост покинул, а коллектив «Звезды», ставшей к тому времени независимым изданием, летом 1992-го избрал соредакторами Андрея Арьева и Якова Гордина.
Сама идея соредакторства, нигде более не повторенная, на первых порах многих изумила. Тем не менее годы идут, сменяются десятилетиями, но Арьев и Гордин все так же сражаются с безденежьем и прочими угрозами, все так же держат репутацию журнала, может быть, и не самого «продвинутого» в эстетическом отношении, зато, возможно, самого интеллигентного, филологически грамотного из всех существующих. И проза, в том числе яркая, и стихи тоже, и актуальная эссеистика, разумеется, на месте, но есть отчетливое впечатление, что здесь прежде всего заботятся о наполнении журнальных книжек архивными публикациями, новонайденными историческими документами и выразительными мемуарами. Они-то и определяют сейчас необщее выражение лица журнала, только что отметившего свое столетие.
«Дружба народов»: от вчера к сегодня
Крестным отцом журнала «Дружба народов» обычно называют Горького, который еще 22 августа 1934 года в заключительной речи на Первом съезде писателей заявил, что «необходимо издавать на русском языке сборники текущей прозы и поэзии национальных республик и областей в хороших переводах».
И, конечно, Сталина – это его словами в марте 1939 года открылся первый номер пока еще альманаха:
Дружба между народами СССР – большое и серьезное завоевание. Ибо пока эта дружба существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы. Никто не страшен нам, ни внешние, ни внутренние враги, пока эта дружба живет и здравствует.
Предназначение и стартовые установки нового издания, таким образом, понятны.
Не очень, правда, понятно, почему с введением в строй постоянно действующей трибуны (и витрины!) многонациональной советской литературы мешкали так долго: до двадцать второго года Октябрьской революции как-никак. Попытки заглянуть на иноязычные окраины державы если и предпринимались раньше, то очень какие-то неуверенные, робкие, во всяком случае, без большевистского фанатизма и большевистской последовательности. То в 1927 году затеют альманах художественной литературы и искусства народов СССР «Советская страна» – и на третьем же номере это начинание бросят. То вознамерятся заменить его серией переводных книг в Госиздате, выпуском, как тогда выражались, «братских могил» типа «Дагестанской антологии» и «Таджикского сборника», «Узбекистана» и «Казахстана», «Антологии грузинской прозы» и «Поэзии горцев Кавказа» – но и тут без особого азарта и должной систематичности. Что говорить, если даже с одобренным на Первом съезде писателей планом издавать альманах, а еще лучше журнал «Творчество народов СССР» валандались добрых 5 лет: нет классных переводчиков, нет толковых организаторов-энтузиастов, нет, наконец, неотступного хозяйского догляда со стороны директивных органов149.
Прошли, однако же, и эти годы, первый номер альманаха с названием «Дружба народов» на обложке увидел-таки свет, заявив своей главной темой всенародное празднование 125-летия Тараса Шевченко: его стихи в новых переводах, стихи, новеллы и статьи, ему посвященные, повесть М. Зощенко «Тарас Шевченко». Однако то ли материала, связанного с украинским классиком, на весь выпуск не хватило, то ли демонстрация национального многоцветья с самого начала входила в число задач, но тут же были представлены и другие культуры: стихами Г. Леонидзе, С. Чиковани, П. Маркиша, С. Вургуна, главами из романа С. Зорьяна, армянским, грузинским, туркменским и таджикским фольклором.
И все бы ладно, но где же набрать переводчиков, не просто владеющих языками, но еще и талантливых? И в начале 1940-го Президиум ССП принимает постановление, фактически легализующее переводы по подстрочникам:
Так как подготовка кадров, владеющих языками, <…> потребует известного (и немалого) времени, а потребность советского читателя в художественных переводах с языков народов СССР должна удовлетворяться безотлагательно, может допускаться как временная мера практика художественного перевода путем организации предварительного подстрочного перевода.
Само собой разумеется, что эта временная мера на все последующие десятилетия становится нормой, и в оглавлениях дружбинских номеров уже к 1941 году появились имена Б. Пастернака, М. Цветаевой, Н. Тихонова, С. Липкина, П. Антокольского, В. Державина.
Дела тем не менее шли ни шатко ни валко. И с периодичностью, и с тиражом, и с кандидатурой главного редактора власть никак не могла определиться. Планировались сначала шесть, потом 4 номера в год, но в 1939-м появилось всего 3 номера, первый из которых был подписан заместителем главного редактора Гослитиздата Георгием Ржановым, а еще два вышли под редакцией Петра Павленко. В мае 1941-го выходит 8-й номер альманаха. Затем на два с половиной года пауза. С октября 1943 по 1946 год ежегодно выходит по одному номеру, который фактически готовил редактор Гослитиздата Аркадий Деев, так как официально числившийся главным редактором П. Павленко в это время безвылазно лечился в Крыму.
Очередной рывок был предпринят уже при амбициозных редакторах Петре Скосыреве (1947–1949), и Викторе Гольцеве (1949–1955): альманах стал выходить 6 раз в год, тираж поднялся до 20 тысяч, в составе редколлегии появились значимые писательские имена, да и напечатанные в «Дружбе народов» романы туркмена Берды Кербабаева «Решающий шаг», адыгейца Тембота Керашева «Дорога к счастью», казаха Мухтара Ауэзова «Абай», повесть украинца Ивана Рябоклича «Золототысячник», отмеченные Сталинскими премиями в 1948–1949 годах, привлекли благосклонное внимание начальства.
Тем не менее до преобразования альманаха в регулярный журнал было пока что далече. И только в 1955-м Виктор Гольцев успел увидеть свое детище в статусе литературно-художественного и общественно-политического ежемесячника, но в конце того же года скончался, а сменивший его на этом посту Борис Лавренев, оставаясь, что ему льстило, членом редколлегии «Нового мира», своей должностью в «Дружбе народов» явно манкировал. Тираж то поднимался, то снова падал до минимального, и начинанием, себя оправдавшим, явился, вероятно, только выпуск многотомного книжного приложения «Библиотека классиков литератур народов СССР»150.
Что же касается самого журнала, то он не то чтобы хирел, но никак не мог выбиться в высшую лигу отечественной литературной периодики. Тогда Лавренева «по состоянию здоровья» все-таки отправили в отставку, создали редакционный совет числом аж в сорок литературных генералов, а его председателем и, соответственно, главным редактором в ноябре 1957 года был, – как вспоминает Лариса Лебедева, – назначен «человек „выше критики“ – А. А. Сурков. В редакции он появлялся редко, в самых необходимых случаях, но „крыша“, как говорят теперь, была надежная»151.
Пробыл Сурков в этой роли всего два с небольшим года. Но за это время – по его ли инициативе, его ли попечением – журнал заметно обновился. Возникли постоянные рубрики – и, например, «Новые переводы» открылись главами из «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели в переложении Николая Заболоцкого. Раздел критики и библиографии стал впечатляюще обширным. Журнал даже попытался зайти на смежную территорию «Иностранной литературы», печатая стихотворные переводы не только с грузинского, татарского, литовского и казахского, но и с арабского, китайского, корейского, хинди, французского, испанского, шведского языков.
Сколько-нибудь устойчивой эта практика, впрочем, не стала. Зато истинно счастливым стало решение представлять русских авторов не только их переводческой деятельностью, но и их оригинальными произведениями. А что, ведь русская литература – такая же неотъемлемая часть многонациональной, и внимания она требует соответственного. Так что «своими» в «Дружбе» стали поэты Николай Асеев, Александр Яшин, Евгений Евтушенко, тогдашние дебютанты Иван Лысцов, Дмитрий Сухарев, Олег Чухонцев, а постепенно начала подтягиваться и русская проза.
У Василия Смирнова, который в феврале 1960 года сменил Суркова на посту главного редактора, представление о русской литературе было, однако же, своеобразным. Писателей-евреев и полукровок, равно как и тех, кто отметился публикациями в «Новом мире» и «Юности», он, мягко говоря, не жаловал. Поэтому если многонациональный ландшафт при нем был вполне достойным – романы Алеся Адамовича «Война под крышами», Юозаса Балтушиса «Проданные годы», пьесы Мухтара Ауэзова «Зарницы», Иона Друцэ «Каса-маре», то за русскую прозу отвечал унылый роман Николая Вирты «Степь да степь кругом», а за переводы с чужеземного – контрпропагандистский роман Карло Марзани «Уцелевший» о «разгуле ФБР и ему подобных реакционных организаций в США».
А в январе 1964 года главный редактор и вовсе отличился, напечатав в «Дружбе народов» письмо «Атака в одиночку», подписанное врачом из Пензы Б. Механовым, где оскорбительно резко были оценены и поэма Твардовского «Теркин на том свете», и литературная позиция «Нового мира», который Смирнов и раньше прилюдно называл «сточной трубой нечистот».
Поскольку это письмо появилось на журнальных страницах без ведома не только членов редколлегии, но и большинства сотрудников редакции, заявивших о своем протесте, то было назначено следствие. И выяснилось, что читательское письмо пришло, на самом деле, в журнал «Октябрь», оттуда было передано в «Дружбу народов», где его основательно переписали и идеологически заострили. С этой целью в Пензу был даже командирован сотрудник редакции А. Богданов, который получил половину гонорара, причитавшегося за публикацию, хотя свою подпись под нею не поставил.
В разборе этого инцидента на писательском секретариате Твардовский принимать участие отказался. Тогда как Смирнов, для порядка признав «допущенное им отступление от принципов коллегиальности», тут же перешел в атаку на поэму, которая, напомним, была опубликована лишь по личному распоряжению Н. С. Хрущева. И более того, заявил:
Неужели потому, что тов. Хрущеву понравилась эта вещь, то нельзя ее и покритиковать? <…> Я не понимаю Твардовского как редактора и считаю, что он ведет ошибочную и вредную для советской литературы линию в журнале152.
Будь Хрущев по-прежнему силен, смельчаку не сносить бы головы. Однако до «малой октябрьской революции» оставалось всего 7 месяцев, так что Смирнова лишь по-товарищески пожурили и оставили у журнального кормила еще на год. Пока в феврале 1965-го на эту должность не пришел детский писатель Сергей Баруздин, и пришел на добрую четверть века.
Срок, что и говорить, изрядный, случалось всякое, и поэтому воспоминания о редакторской стратегии Сергея Алексеевича существенно разнятся. Кто-то считает, что он во всем полагался на проверенных первых заместителей Акопа Салахяна, затем Леонарда Лавлинского (с 1970), Леонида Теракопяна (с 1977) или – сошлемся на небесспорное мнение Геннадия Красухина – вел журнал строго по советам своей либеральничавшей жены Розы Сафаровой153. Тогда как Лев Аннинский утверждает, что лучшего редактора я до того не знал… а после – все другие варианты редакторства неизменно сопоставлял с его стилем. Благотворный, щедрый, неиссякаемый строй ценностей, вынашиваемый в уникально-многонациональной стране. Для меня это великое время, и оно неотделимо от памяти о Сергее Алексеевиче Баруздине154.
Все, кто печатался в баруздинской «Дружбе народов», вспоминают, что откликом даже на самую пустяковую публикацию было благодарственное письмо главного редактора, самолично отстуканное дома на пишущей машинке и непременно завершавшееся просьбой прислать свои книги в дар библиотеке Нурекской ГЭС, над которой шефствовала редакция155.
Вот вроде и пустяк, но единственный в своем роде и оттого значимый, передающий личное отношение к делу, которое Баруздин понимал как главное в собственной жизни.
Не всё, разумеется, из появившегося в те годы на журнальных страницах выдержало испытание временем. Но связанные с журналом имена Нодара Думбадзе, Абдижамила Нурпеисова, Гранта Матевосяна, Яана Кросса, Максуда и Рустама Ибрагимбековых, Миколаса Слуцкиса, Чабуа Амирэджиби, Светланы Алексиевич, Отара и Тамаза Чиладзе, Анара, Мустая Карима, других национальных классиков и сейчас многое говорят русскому читателю. Особенно в силу того, что их произведения публиковались в одном ряду, в едином контексте с «Уроками Армении» (1969, № 9) Андрея Битова, «Бедным Авросимовым» (1969, № 4–6), «Мерси, или Похождениями Шипова» (1971, № 12), «Путешествием дилетантов» (1978, № 9–10), «Свиданием с Бонапартом» (1983, № 7–9) Булата Окуджавы, «Разными днями войны» (1973, № 1, 2; 1974, № 4, 5, 6, 11, 12; 1975, № 1) Константина Симонова, «Домом на набережной» (1976, № 1), «Стариком» (1978, № 3), «Временем и местом» (1981, № 9) Юрия Трифонова, «Полутора квадратными метрами» Бориса Можаева (1982, № 4).
И со стихами картина не менее выразительна. Сменявшие друг друга редакторы поэтического раздела Ярослав Смеляков, Анатолий Жигулин, Наталья Иванова и Татьяна Бек выбирали лучшее у Андрея Вознесенского, Расула Гамзатова, Владимира Соколова, Юстинаса Марцинкявичюса, а когда цензура помягчела и жить стало попросторнее, в печать пошли и Геннадий Айги, Всеволод Некрасов, иные нарушители эстетического спокойствия.

