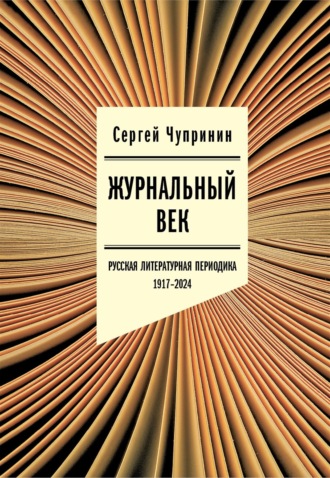
Полная версия
Журнальный век. Русская литературная периодика. 1917–2024
Пришли иные времена, и на журнальных страницах взошли иные имена: Илья Глазунов с записками художника «Дорога к себе» (1965, № 10–12), Владимир Солоухин с «Письмами из Русского музея» (1966, № 9–10)109, Дмитрий Балашов с историческим романом «Господин Великий Новгород» (1967, № 6–7). Что же касается самой редакции, то вес в кругу советчиков Никонова набрали критик Виктор Чалмаев, ставший в 1966-м заместителем главного редактора после ухода Ганичева на пост заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, поэт Сергей Викулов, а с 1968-го в роли первого заместителя заявил о себе еще и романист Анатолий Иванов. А главным идеологом стал Михаил Лобанов.
Он еще 20 августа 1964 года напечатал в «Литературной газете» статью «О „веселых эскападах“ на критической арене», где в пух и прах разнес молодогвардейские колонки В. Турбина (Литературная газета. 1964. 20 августа). Ему не возразили, но, против ожидания, «позвонили из „Молодой гвардии“ и по поручению главного редактора Анатолия Никонова попросили что-нибудь написать для журнала»110.
Выждав год, Лобанов написал, и в ответ на его пламенный фельетон «Нахватанность пророчеств не сулит…» (1965, № 9) о поэме Е. Евтушенко «Братская ГЭС», – как он сам вспоминает, – «в редакцию журнала хлынули письма в защиту Евтушенко, с яростными нападками и руганью в мой адрес»111, а сам суровый зоил проснулся знаменитым.
Еще бы! Конечно, Евтушенко в ту пору не одними молодогвардейцами воспринимался как мальчик для битья, но впервые строй мысли шестидесятников был оспорен не с позиций классической литературы или ортодоксального марксизма советской выделки, а с точки зрения, которую назовут «почвеннической» или «неославянофильской». Слова «русофобия» в ходу еще не было, но автор поэмы был уже обрисован как ненавистник России и всего русского, национального:
Евтушенко разговаривает с историей, как с какой-нибудь поклонницей стихов на читательской конференции… Один из авторов в восторге от главки «Стенька Разин», тут сплошные восклицания: «этого Стеньку забыть нельзя», «это зрело» и проч… А чем восхищаться? Один выдавливает прыщ, другой прет, «треща с гороху», девки под хмельком «шпарят рысью – в ляжках зуд» и т. д. Автору кажется, что это хорошо, а ведь это отвратительно!..
Отныне программные статьи Лобанова пошли одна за другою: «Чтобы победило живое» (1965, № 12), «Внутренний и внешний человек» (1966, № 5), «Творческое и мертвое» (1967, № 4), «Просвещенное мещанство» (1968, № 4), «Боль творчества и словесное самодовольство» (1969, № 11) – и в каждой из них все настойчивее доказывалось, что «нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия» и что «не только высшие, образованные сословия, так называемая интеллигенция, но и народ в целом подвержен разлагающему влиянию…»112
Чьему?
Про «образованщину», как и про «русофобию», тогда еще и слуху не было, о «малом народе» и «пятой колонне» речи тоже пока не шло, так что в соответствии с лексиконом тех лет Лобанов рассуждал о «просвещенном мещанстве», давая понять, что врагом (своим и народа) он считает городскую интеллигенцию, пораженную «американизмом духа»113, и что фамилии у этих «разлагателей народного духа»114, «у этой ядовитой, поистине инородной публики»115 по большей части еврейские.
Так – выступлениями Лобанова и следовавших в его кильватере В. Чалмаева, А. Ланщикова, С. Котенко, В. Петелина, О. Михайлова, других молодогвардейцев – обнаружила себя третья, помимо «Нового мира» и «Октября», идеологическая, и, по сути, тоже оппозиционная, сила в литературе, да только ли в литературе? И, естественно, встретила решительный отпор: как со стороны октябристов (см., например, статью заместителя главного редактора П. Строкова «О „народе-Саврасушке“, о „загадках“ русского характера и исканиях „при свете совести“» в декабрьском номере «Октября» за 1968 год), так и со стороны новомирцев (см. статьи И. Дедкова «Страницы деревенской жизни» в мартовском и А. Дементьева «О традициях и народности» в апрельском номере «Нового мира» за 1969 год).
Удар со стороны классово близкого «Октября» молодогвардейцы пропустили, а вот И. Дедкову и Дементьеву ответили предельно резко – открытым письмом «Против чего выступает „Новый мир“?» («Огонек». 1969. № 30. С. 26–27), которое было подписано тремя главными журнальными редакторами М. Алексеевым («Москва»), С. Викуловым («Наш современник»), Н. Шундиком («Волга»)116, первым секретарем Ленинградской писательской организации А. Прокофьевым, авторитетными у власти литераторами П. Проскуриным, В. Закруткиным, А. Ивановым, С. Ворониным, В. Чивилихиным, С. В. Смирновым, С. Малашкиным117.
Конечно, эта полемика – как со стороны новомирцев, так и со стороны молодогвардейцев – была, будто битым стеклом, пересыпана цитатами из основоположников и партийных постановлений, клятвами в преданности единственно верному курсу начальства. О многом приходилось говорить обиняками, однако читать между строк все тогда были обучены. Так что власть, свято блюдущая правила «не колыхай» и «не высовывайся», забеспокоилась, и над спорщиками нависла тень скорой расправы.
«Новому миру» дали пожить всего несколько месяцев – до февраля 1970 года, но не поздоровилось и «Молодой гвардии». Причем, – вспоминает М. Лобанов, – «травили нас, русских патриотов, не столько КГБ, сколько литературная сионистская банда, засевшие в ЦК русофобы, агенты влияния»118. Попытки ведущих молодогвардейских авторов заступиться за своего главного редактора перед секретарем ЦК КПСС П. Демичевым и Е. Тяжельниковым, сменившим С. Павлова на посту первого секретаря ЦК ВЛКСМ, к успеху не привели. Журналу вменили в вину отступление от ленинских принципов партийности, внеклассовое толкование народности, идеализацию дореволюционной России, прочие прегрешения, и в декабре 1970 года Секретариат ЦК КПСС отрешил Никонова от должности. Вернее, перевел его главным редактором в тихий журнал «Вокруг света», где он и прослужил, ничем заметным себя более не проявив, до самой своей смерти.
А руководить «Молодой гвардией» направили инструктора ЦК КПСС Феликса Овчаренко, и он не то чтобы навел в журнале идеологический порядок, но самых дерзких «крикунов» все-таки присмирил. На время, впрочем, потому что спустя полтора года скончался от тяжелой болезни, и сменивший его в конце 1971 года Анатолий Иванов тотчас же вернул ультрапатриотическую и ксенофобскую риторику на молодогвардейские страницы. К той поре она успела вдобавок расползтись и по другим изданиям – еженедельникам «Огонек» и «Литературная Россия», журналам «Дон», «Север», «Сибирские огни» и, в особенности, «Наш современник», где еще в 1969-м на многолетнюю вахту заступил Сергей Викулов.
Так что угроза националистического реванша сохранялась, и чрезвычайно своевременно прозвучала публикация статьи «Против антиисторизма» исполняющего обязанности заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС Александра Яковлева. Разверстанная 15 ноября 1972 года на две полосы в «Литературной газете», эта статья, – как вспоминает ее автор, – тоже, разумеется, была выдержана в стиле марксистской идеологии. Я обильно ссылался на Маркса и Ленина, и все ради одной цели – в острой форме предупреждал общество о нарастающей опасности великодержавного шовинизма, местного национализма и антисемитизма119.
И эта риторика, и высокая должность автора должны были вроде бы гарантировать прочтение статьи «Против антиисторизма» как установочной. Тем более что Яковлев еще и советовался, показывал, – по его словам, – статью академику Иноземцеву, помощнику Брежнева Александрову, заведующему сектором литературы ЦК Черноуцану, главному редактору «Комсомолки» Панкину, давал почитать и секретарю ЦК Демичеву! И обкатал текст, еще 6 ноября, – как рассказывает В. Ганичев, – «выступая с ним перед всем комсомольским активом страны»!120 И, – прибавляет первый заместитель главного редактора В. Сырокомский, – «мы в „ЛГ“ трижды ставили ее в номер и трижды снимали. Вел статью я – в порядке исключения, старался что-то отшлифовать, обезопасить автора»!121
Не помогло. Гром все равно грянул, «народ, – если верить Г. Ганичеву, – поднялся в стране, тысячи писем пришло…»122, и в том числе самое раздраженное от М. Шолохова, заступившегося за своих заединщиков – «честных патриотов»123. Своевольную статью, нарушившую непреложное аппаратное правило поперед батьки не высовываться, обсудили на Секретариате, на Политбюро ЦК, и Брежнев будто бы сказал: «Убрать этого засранца!»124
Его и убрали – в конечном счете, не очень унизительно: послом в Канаду. Тогда как Анатолий Иванов на своем месте остался125, и государственно-почвеннический дискурс сохранился тоже. Правда, – вспоминает Лобанов, – в журнале стало больше осторожности по части «русскости», и когда моя статья попадала к новому главному редактору, он тяжеловатым, испытующим взглядом уставлялся на меня и спрашивал: «О чем статья? Вонять не будут?» От каждой моей статьи, вызывавшей всегда нападки в печати, он ждал для себя, как главного редактора, неприятностей и, называя нападки вонью, все-таки остерегался вызывать ее126.
Однако спустя еще десятилетие грянула перестройка, скрепы распались, и молодогвардейцы перестали чего-либо остерегаться. Помню, как Анатолий Степанович Иванов неистовствовал на совещании в уже горбачевском Центральном комитете, требуя немедленно закрыть «Московские новости», «Огонек» и «Знамя», обуздать клеветников России, положить конец оплевыванию славной советской истории и, прежде всего, лично генералиссимуса Победы. О том же, впрочем, шла речь и буквально в каждом номере вверенного его попечению журнала, так что «Молодая гвардия» даже и на фоне расплодившихся антиперестроечных изданий отличалась особой упертостью и особой черносотенностью.
Спрос на такой строй мысли в обществе, разумеется, держался, и в 1990-м, когда журнальный бум достиг своего максимума, тираж «Молодой гвардии» взлетел до 750 тысяч экземпляров, а в 1991-м хоть и упал, но все же до внушительной цифры в 410 тысяч. Было, словом, кому читать сталинистские стихи Вал. Сорокина, Ф. Чуева, В. Фирсова, статьи М. Любомудрова, И. Шевцова, А. Кузьмича, Ст. Куняева, В. Бушина, А. Севостьянова, направленные против «жидов», «масонов» и попыток демократического реформирования страны, или антисемитский роман Александра Байгушева «Хазары» (1989) и, наконец, впервые легально напечатанные в Москве приснопамятные «Протоколы сионских мудрецов» (1993, № 10)127.
Вполне понятно, что в дни августовского путча ГКЧП, – как рассказывает Валерий Хатюшин, – в редакции «Молодой гвардии» сотрудники пребывали в приподнятом настроении и ожидали ареста Ельцина. Однако ничего не происходило, толпы ельциноидов полезли на танки и бэтээры, бесцельно стоявшие в центре столицы, стали собираться у Белого дома и перед ними развязно и самоуверенно выступил пьяный Ельцин. Вечером 21-го все гэкачеписты были арестованы. Жулики, подонки, русофобы и все аферисты, объединенные одним названием «демократы», праздновали свою пиррову победу. Журналу со всех сторон посыпались угрозы, в том числе и с экрана ТВ128.
В. Хатюшин, заведовавший тогда в редакции отделами критики и публицистики, по поручению главного редактора откликнулся на это событие громокипящей статьей «Ответ погромщикам» (1991, № 9), а на следующий политический кризис уже в октябре 1993-го еще более неистовыми памфлетами «Москва, кровью умытая» и «Ритмы расстрела», а в журнале на целый год утвердилась специальная рубрика «Черный октябрь», где слов для обличения антинародного режима уже не выбирали.
В этой позиции «Молодая гвардия» и окаменела – как при Анатолии Иванове, с начала 1990-х годов постепенно уходившем от редакторских обязанностей и полномочий, так и при его сменщиках – прозаике Александре Кротове (1995–1999)129 и поэте Евгении Юшине (1999–2009).
И от других литературных изданий, даже таких им вроде бы идейно близких, как «Наш современник», решительно отстранились: в совместных акциях не участвовали, за финансовой и какой-либо иной поддержкой к «оккупационным» властям не обращались, не были представлены ни в корпоративных сетевых агрегаторах типа «Журнального зала» или «Читального зала», ни в работе Форума молодых писателей, ни в деятельности АСПИР, то есть возникшей в 2020 году Ассоциации союзов писателей и издателей России.
Такой выбор – сознательное одиночество в журнальном мире, так что и с падением тиражей, и с обрушившимся на все редакции безденежьем, и с бюрократическим произволом руководителям «Молодой гвардии» пришлось справляться без чьей-либо помощи. В итоге, – рассказывает В. Хатюшин, – в 2009 году бывший главный редактор (и одновременно генеральный директор ЗАО) испугался больших неприятностей на свою голову и решил журнал ликвидировать. Но я ему прямо сказал: закрыть старейший в стране журнал с такой литературной историей – не позволю. «Если решил уходить – уходи»130.
Так и порешили: Юшин ушел, а журнал стал безраздельной собственностью Хатюшина, который, за исключением технических сотрудников – бухгалтера, верстальщика, корректора, его теперь в одиночку, собственно говоря, и выпускает, горделиво замечая, что, мол, моя «миссия звучит так: один в поле воин»131. Стоит заметить, что «Молодая гвардия», в отличие от других толстяков, не обзавелась даже официальным сайтом: и свежие номера, и архив за 2008–2024 годы размещены на персональном сайте главного редактора hatushin.ru.
Заслуживает внимания и личность самого Хатюшина. Он как стихотворец стал членом Союза писателей СССР в 1986 году по рекомендациям О. Чухонцева, Вал. Сорокина и И. Шкляревского, окончил Высшие литературные курсы и с 1990 года служит в «Молодой гвардии». Автор более 30 книг стихов, прозы и публицистики. Был уличен в плагиате, дважды перепечатав под своим именем стихотворения петрозаводской поэтессы Елены Сойни, и когда ее брат критик Владимир Бондаренко рассказал об этом на страницах газеты «Завтра», Хатюшин в ответном письме, разумеется, назвал все обвинения политическим заказом и попыткой оклеветать русского патриота за бескомпромиссность его убеждений.
Что же до убеждений, то они, отраженные в бесчисленных публикациях, наиболее, может быть, ярко переданы появившимся в газете «Московский литератор» стихотворным откликом на крупнейшие в истории теракты 11 сентября 2001 года, когда в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались самолеты, управляемые пилотами-камикадзе:
С каким животным, иудейским страхомС экранов тараторили они.Америка, поставленная раком,Единственная радость в наши дни.И не хочу жалеть я этих янки,В них нет к другим сочувствиям ни в ком.И сам готов я, даже не по пьянке,Направить самолет на Белый дом.Того же строя мыслей придерживаются в новом веке и авторы «Молодой гвардии», которая ныне выходит восемью, включая сдвоенные, номерами в год не разглашаемым тиражом. Поэтов и прозаиков с опознаваемыми именами в годовых комплектах совсем не много, поэтому центральное место во всех выпусках занимают публицисты, особенно оживившиеся после начала специальной военной операции в Украине.
Чтобы в этом убедиться, достаточно, не комментируя, перечислить названия некоторых статейных публикаций 2023 года: «В противостоянии с извечным врагом», «Миссия русских», «Провал Украины», «Тупики мирового правительства», «Сталин показал выход из тупика», «Иноагенты „Литгазеты“», «Им не место на российском телевидении», «От Куликова поля до Бахмута», «Украина как химера», «Что высветил мятеж» и, конечно же, «Капкан хазарского каганата»…
Так журнал, уже отметивший свой столетний юбилей, сейчас и живет. Изгоем, будто Северная Корея в современном мире.
Путеводная «Звезда»
Став первенцем советской литературной периодики, журнал «Красная новь» был запущен в январе 1921 года, а уже весной 1923-го в Петроград с заданием и там открыть на государственные деньги аналогичное издание командировали Ивана Михайловича Майского, на ту пору заведовавшего отделом печати в Наркомате иностранных дел.
И дело пошло споро. В декабре того же года первый номер «Звезды», датированный, правда, уже январем 1924-го, увидел свет.
Там есть чему изумиться – например, тому, что рядом со статьями В. Ленина, Г. Зиновьева, Л. Рейснер еще вполне себе мирно соседствовали рассказ Ал. Толстого, только что вернувшегося из эмиграции, и стихи В. Ходасевича, в эту эмиграцию уже убывшего. Так оно и дальше пойдет – и при И. Майском, который в начале 1924 года был, впрочем, отозван на дипломатическую работу, и при его преемниках – безупречных, казалось бы, большевиках Г. Горбачеве (1925–1926) и П. Петровском (1926–1928)132.
В разделе критики, разумеется, крошили попутчиков и эмигрантов, грозно заявляли, что «Эренбурги же, Серапионы, Пильняки и т. д. – это враги, хотя бы и легальные» (1928, № 3), зато в художественном разделе давали этой самой недобитой контре едва ли не полную волю.
Среди авторов – Федор Сологуб (1924, № 2), Андрей Белый (1924, № 3), Николай Клюев (1926, № 2; 1927, № 1, 5), Сергей Есенин с «Песнью о великом походе» (1924, № 5)133, да только ли они? Вот Борис Пастернак – стихи (1926, № 2; 1927, № 9, 11; 1928, № 4, 8, 9) и «Охранная грамота» (1929, № 8)134. Вот Николай Заболоцкий – стихи (1927, № 12; 1929, № 2, 8, 10; 1933, № 2/3) и «Торжество земледелия» (1933, № 5). Наконец Осип Мандельштам – переводы из О. Барбье (1924, № 2, 3), стихи (1927, № 8; 1931, № 4), «Египетская марка» (1928, № 5), «Путешествие в Армению» (1933, № 5).
Так с поэтами. Но и с прозаиками не слабее: «Сорок первый» Бориса Лавренева (1924, № 6), «Смерть Вазир-Мухтара» (1927, № 1–6, 11–12; 1928, № 1–6) и «Восковая персона» (1931, № 1–2) Юрия Тынянова, «Братья» Константина Федина (1927, № 3–9, 11–12; 1928, № 3), «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» Вениамина Каверина (1928, № 2–7), «Сумасшедший корабль» Ольги Форш (1930, № 2–4, 6, 12), третья книга горьковской «Жизни Клима Самгина» (1930, № 1–4; 1931, № 4), «Возвращенная молодость» Михаила Зощенко (1933, № 6–8, 10) – вплоть до данной в отрывках «Козлиной песни» Константина Вагинова (1927, № 10), его же «Трудов и дней Свистонова» (1929, № 5)…
Что ни публикация, то строка, если не глава в истории русской литературы XX века. И можно либо восхититься отвагой редакторов «Звезды», либо действительно изумиться шизофрении, царившей в их головах. Но лучше этот когнитивный диссонанс объяснить свойствами времени, еще гибридного.
Однако же оно, время, постепенно суровело, щадящий термин «попутничество» из советского словаря был изъят, и в годы, когда редакций управлял Юрий Либединский (1933–1937), а затем и его сменщики, художественный раздел «Звезды» стал заметно выцветать. Да, что-то нетривиальное еще проникало в печать – статья А. Ахматовой «Последняя сказка Пушкина» (1933, № 1), переводы из «Илиады», предложенные М. Кузминым (1933, № 6). Но в целом хвастаться было уже почти нечем. И признанный классик М. Зощенко, не считая малоудачных пьес, печатал теперь по преимуществу «Рассказы о Ленине» (1940, № 1, 7, 8/9). И начинавший тогда Ю. Герман пропуск в литературу получил четырьмя рассказами о Дзержинском (1940, № 12).
А на первый план вышли парадные номера к 150-летию со дня смерти Пушкина (1937, № 1), к смерти Горького, признанной его убийством (1937, № 6), к принятию сталинской конституции (1937, № 11, 12). Господствующим же трендом стали статьи – то подписные, то редакционные, – уже одни названия которых дышат классовой злобой: «Презренные враги народа» (1937, № 2), «От эстетизма к лженародности» (там же), «Тщетны происки врага» (1937, № 7), «Троцкистская агентура в литературе» (там же), «Враждебная повесть» (1937, № 9), «Нет и не будет жизни фашистским изуверам на советской земле» (1938, № 3), «Книги, мешающие работать» (1938, № 4) и т. п.
Разумеется, в дни Большого террора и другие журналы спешили доложить о своей наклонности к палачеству, но возникает впечатление, что редакторы «Звезды» делали это с особым усердием. Как с особым усердием и до войны, и в годы войны выпалывали с журнальных страниц все подающее признаки жизни, и в этом смысле редкие стихотворные публикации А. Ахматовой (1940, № 3/4; 1944, № 7/8; 1945, № 2; 1946, № 1) или пастернаковский перевод «Короля Генриха Четвертого» (1946, № 2/3) выглядят диковинными заплатами на форменном мундире советской литературы.
Жизнь между тем продолжалась: за Ю. Либединским последовали Г. Холопов и И. Груздев, затем должность главного редактора перешла к В. Саянову, и тот, отставленный 25 июня 1946 года, еще только-только собрался передавать дела П. Капице, как вдруг все оборвалось.
Весь ход событий, предшествовавших постановлению Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» от 14 августа 1946 года и соответствующим докладам А. Жданова (15 и 16 августа) в Ленинграде, превосходно изучен. Установлено, что мысль о наведении идеологического порядка в мире советской литературной периодики вызревала у властей уже давно, и еще в конце 1943 года как крик «Бойся!» прозвучали вышедшие подряд постановления Секретариата ЦК ВКП(б) «О контроле над литературно-художественными журналами» (2 декабря) и «О повышении ответственности секретарей литературно-художественных журналов» (3 декабря).
Однако «Звезда» в обоих постановлениях даже не упомянута, так что персональные контролеры-кураторы из Управления пропаганды и агитации ЦК были приставлены к другим особо провинившимся журналам: т. Александров к «Новому миру», т. Пузин к «Знамени», т. Федосеев к «Октябрю». Молнии руководящего гнева и потом сверкали – но опять-таки над «Октябрем» (22 декабря 1943 года), над «Знаменем» (23 августа 1944 года). Вот ведь и Сталин, 13 апреля 1946-го выступая на заседании Оргбюро ЦК, худшим советским журналом назовет отнюдь не «Звезду», а «Новый мир», и руководителей всех ежемесячников сменят в эти годы без шумовых эффектов, втихую: Минну Юнович в «Октябре» на Федора Панферова, Е. Михайлову в «Знамени» на Всеволода Вишневского, Владимира Щербину в «Новом мире» на Константина Симонова. В конце концов, и Виссариона Саянова из «Звезды» в июне 1946-го уберут тоже без публичной порки, да и потом особо преследовать не будут.
Похоже, словом, что вовсе не редакционная практика «Звезды» стала причиной столь зловещего августовского приговора. Тогда что же? Подковерная борьба сталинских бульдогов за власть, как единодушно говорят исследователи, и в этом смысле литературный сюжет 1946 года действительно можно рассматривать как пролог к кровавому «ленинградскому делу» 1949 года. Но была, рискну предположить, и еще одна причина – застарелая личная ненависть Жданова, главного идеолога тех лет, к Ахматовой и Зощенко.
Напомню, что еще 29 сентября 1940 года в связи с изданием книги избранных стихотворений Ахматовой Жданов оставил резолюцию на поступившей к нему докладной записке:
Просто позор, когда появляются в свет, с позволения сказать, сборники. Как этот Ахматовский «блуд с молитвой во славу божию» мог появиться в свет? Кто его продвинул? Какова также позиция Главлита? Выясните и внесите предложения. Жданов135.
Предложения тут же отлились в форму распоряжения Секретариата ЦК ВКП(б): «Книгу стихов Ахматовой изъять»136.
То же и с Зощенко, впервые попавшим под бой после того, как в «Октябре» была обнаружена «аморальная», «пошлая антихудожественная» и «вредная» повесть «Перед восходом солнца» (№ 6/7–8/9 за 1943 год). От редакторов «Октября» потребовали объяснений, а публикацию повести тотчас же оборвали. Казалось бы, достаточно. Однако Жданову показалось мало, и, направляя в журнал «Большевик» письмо разгневанных «ленинградских читателей», он счел нужным сопроводить его раздраженным указанием: «Еще усилить нападение на Зощенко, которого нужно расклевать, чтобы от него мокрого места не осталось»137.
В годы войны положение Ахматовой и Зощенко вроде бы выправилось. Стихотворение Ахматовой «Мужество» появилось в «Правде» (8 марта 1942 года)138, и это можно было расценить как акт ее политической реабилитации, стихи изредка печатались не только в «Звезде», но и в «Красной нови» (1942, № 3/4), в «Ленинграде» (1943, № 5, 8; 1944, № 10/11; 1945, № 3; 1946, № 1/2, 3/4), в «Знамени» (1945, № 4), даже в «Огоньке» (1945, № 36), были изданы отдельной книгой в Ташкенте (1943), готовились к выходу еще двумя высокотиражными сборниками в Москве, да и у Зощенко вышел ворох новых книжек, а в июне 1946 года его даже ввели в обновленную редколлегию «Звезды». Но если враг не сдается, его уничтожают, и для гражданской казни нужен был только предлог, каким и стали вполне рядовые публикации обоих личных ждановских врагов в журнале, по тем временам чуть ли не заштатном, едва набиравшем десятитысячный тираж – в сравнении с тогдашним тиражом «Нового мира» в 64 тысячи экземпляров.
Здесь нет смысла ни цитировать чудовищно оскорбительные пассажи постановления и ждановских докладов, ни говорить о том, что оба писателя были буквально выброшены из жизни, по крайней мере литературной. Достаточно сказать, что головы полетели всюду – и в Ленинграде, где своих постов лишились тамошние партийные надсмотрщики, и в Москве, где вяло либеральничавший Тихонов139 уступил должность руководителя Союза советских писателей послушно рассвирепевшему Фадееву.

