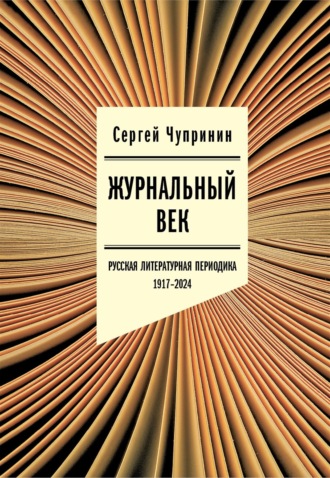
Полная версия
Журнальный век. Русская литературная периодика. 1917–2024
Роскошный, как видим, набор. Журнал, оставаясь витриной литератур народов СССР, при Баруздине стал еще и одним из перворазрядных представительств русской словесности.
В результате к 1973 году тираж журнала впервые превысил стотысячную отметку.
И понятно, что победы давались редакции совсем не просто. Решение о публикации военных дневников Симонова принималось, как известно, брежневским Политбюро. И сражений с цензурой хватало. Вот, например, автобиографический роман Виталия Семина «Нагрудный знак ОСТ». Как рассказывает вдова писателя Виктория Кононыхина-Семина, его набор дважды рассыпали в «Новом мире» (объяснение: роман о каторге вызывает нежелательные аллюзии). И годы проползли, прежде чем он появился, наконец, в «Дружбе народов» (1976, № 4–5)156.
Да и то, – добавляет Лев Левицкий, – «не будь Лавлинского, который питал слабость к земляку и однокашнику и не пожалел сил, добиваясь публикации его рукописи, неизвестно еще, увидел бы роман свет в „Дружбе народов“»157.
А вот к пуганому-перепуганному Василию Ажаеву судьба отнеслась жестче. Вдохновленный идеями антикультового XXII съезда партии, он еще раз переписал прославивший его роман «Далеко от Москвы», вот только на великую стройку коммунизма отправил уже не вольных энтузиастов, а подневольных зеков. Правда, – как сказано в докладной записке и. о. начальника Главлита А. Охотникова, – в отличие от повести А. Солженицына, случайно сложившийся коллектив «зеков» возглавляют бывшие крупные партийные и хозяйственные работники, коммунисты, негласная партийная ячейка. Они наводят порядок и защищают заключенных от террора уголовников в пути, а по прибытии в лагерь становятся организаторами трудового процесса на самых важных участках (инженерная, проектная, научно-исследовательская, организаторская работа).
Замысел, что и говорить, впору эпохе позднего хрущевского реабилитанса. Одна лишь беда: роман «Вагон» был завершен и принят «Дружбой народов» к публикации уже в 1966 году, когда время переменилось, и… Продолжим цитировать и. о. начальника Главлита:
На наш взгляд, опубликование романа В. Ажаева на лагерную тему в канун 50-летия Советской власти не принесет пользы идеологической работе партии. <…> Редакции рекомендовано временно отложить опубликование романа «Вагон», в связи с чем главный редактор тов. Баруздин С. А. снял его из сентябрьского номера158.
И снял надолго: «Вагон» в «Дружбе народов» появится только в 1988 году (№ 6–8), выйдет вскоре и книжными изданиями, но этого в горячке перестройки не заметит уже никто.
Да и как заметить, если «Дружба народов» в конце 1980-х годов буквально ослепляет вспышками ударных публикаций: «Исчезновение» Юрия Трифонова (1987, № 1), вторая книга «Любавиных» Василия Шукшина (1987, № 1–4), «Багровый остров» Михаила Булгакова (1987, № 8), «Чевенгур» Андрея Платонова (1988, № 3–4), «Другие берега» Владимира Набокова (1988, № 4).
Но центральным событием, вне всяких сомнений, стала публикация романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» (1987, № 4–6). Толки об этом романе ходили с 1958 года, журналом «Новый мир» он был анонсирован на 1967-й, журналом «Октябрь» на 1979 год, с рукописью успели познакомиться все, кому ее автор давал на прочтение с условием откликнуться письменным отзывом, и этот отзыв практически всегда был восторженным. Причем Рыбаков, что тоже важно отметить, тщательно следил за тем, чтобы рукопись раньше времени не попала за границу:
Я думал: если я этот роман напечатаю у нас, то этим буду участвовать в преобразовании страны. А на Западе он прошел бы как еще один эмигрантский роман. Резонанс был бы совсем не тот159.
И потребовалась перестройка всей идеологической жизни в стране, потребовалось личное вмешательство А. Н. Яковлева, по слухам даже М. С. Горбачева160, прежде чем роман прочли уже миллионы. Тираж журнала, и без того высокий, взлетел в самое поднебесье, и это ощущение собственной востребованности поддерживало дружбинцев в годы, когда он, этот тираж, стал мало-помалу опадать, редакция столкнулась с первыми экономическими трудностями, и ее стали все настойчивее изгонять из обжитого флигелька во дворе Дома Ростовых.
Надежды, естественно, были на уникальную, никем не восполнимую роль «Дружбы народов» как медиатора в культурных взаимосвязях развалившейся державы. И действительно, щедроты со стороны межгосударственных институций над журналом все-таки проливались, пусть и нерегулярно, а позднее, когда редакцию окончательно выдавили с Поварской, ее приютил фонд «Русский мир».
Тем не менее после смерти Баруздина в марте 1991 года для журнала наступило время турбулентности, осложненное, возможно, еще и тем, что его преемники – переводчик и критик Александр Руденко-Десняк (1991–1992), прозаик Вячеслав Пьецух (1993–1995) – сменяли друг друга слишком быстро, так что в рабочий ритм жизнь редакции вошла только с приглашением Александра Эбаноидзе на пост главного редактора.
Рабочий, впрочем, не значит безмятежно спокойный. И трудности с финансированием только нарастали, и давали о себе знать проблемы, связанные с непростыми отношениями между бывшими советскими республиками и их отношением к России. Целевые номера или блоки, посвященные национальным литературам, стало составлять все труднее. Согласие напечататься в Москве требовало от авторов уже изрядного мужества. «Помню, позвонил в Грузию кому-то из известных в конце 90-х. „Вы хотите, чтобы меня распяли на глазах у публики?“ – получил ответ», – рассказывает Леонид Бахнов, руководивший в журнале отделом прозы. И понятно, что первыми от соучастия в принудительной дружбе народов отказались писатели стран Балтии. Единственным значимым исключением стала публикация романа Марюса Ивашкявичюса «Зеленые» в переводе и с предисловием Георгия Ефремова, где речь шла о послевоенной борьбе литовских «лесных братьев» с советскими карателями (2006, № 9–10). Как подвиг писателя, чье имя и чьи книги запрещены в современной Туркмении, был расценен не появившийся на родине, но переведенный Сергеем Баймухамедовым роман Тиркиша Джумагельдыева «Энергия страха, или Голова желтого кота», передающий трагический опыт сопротивления тираническому режиму Туркменбаши (2011, № 4). Да и с Украиной многим ли легче? Например, – вспоминает Сергей Надеев, – «пришлось снять из номера роман украинского писателя о событиях в Донбассе, он шел на Шевченковскую премию и испугался, что публикация у нас ему повредит»161. И уж совсем травматичной стала история с романом Акрама Айлисли «Каменные сны» (2012, № 12).
Принимая решение о публикации, редакция не сомневалась: и у автора репутация азербайджанского классика, и роман по нравственному посылу глубоко гуманистичен. Однако в книге рассказывается об армянских погромах в Баку, о кровавых событиях в Сумгаите, где главный герой спасает армянского мальчика, получает ранение, уходит в кому и говорит в бреду: братья, одумайтесь и покайтесь, а его рука силится перекреститься. И этого оказалось достаточно, чтобы писателя на родине подвергли настоящей травле. Его книги стали сжигать на площадях и возить по улицам в гробах, исключили из школьной программы, объявили награду в 10 тысяч манат тому, кто отрежет ему ухо, пытались лишить его азербайджанского гражданства, отобрали персональную президентскую пенсию и звание народного писателя Азербайджана.
Случай в постсоветской истории, конечно, беспрецедентный, но войдите в положение публикаторов: обжегшись на кипятке, поневоле станешь дуть на родниковую воду, соизмеряя достоинства прочитанной рукописи с возможной реакцией на нее. В нынешнем мире исполнять миссию медиатора, посредника в межнациональных литературных отношениях совсем не просто: где-то мешает политика, где-то – писательские амбиции и фобии, но часто и элементарное отсутствие квалифицированных переводчиков.
Тем не менее и после ухода Александра Эбаноидзе в 2016 году на творческую работу, когда редакцию возглавил Сергей Надеев, журналу есть чем гордиться. Бреши и пробелы в создаваемой совместными авторскими усилиями национальной мозаике, конечно, заметны. Да и как не заметить, если переводы в журнале стали редкостью и бывшие советские республики теперь чаще представлены не теми, кто пишет на национальных языках, а русскими и русскоязычными литераторами, живущими в этих ныне независимых государствах.
Журнал теперь вообще берет не традиционной специфичностью, а преимущественным вниманием к фигурам и событиям в сегодняшней русской поэзии, прозе, эссеистике, литературной критике, составляя достойную конкуренцию тому, что печатают «Звезда», «Знамя», «Новый мир» и «Юность». «Дружбе народов» по-прежнему верна нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, его публикациями обеспечили себе высокую репутацию Сухбат Афлатуни, Андрей Волос, Александр Снегирев, Дмитрий Стахов, Афанасий Мамедов, Денис Гуцко, и не бывает, наверное, номера, где не появились бы многообещающие новые имена. Привлекательную же для читателей пестроту обеспечивает множество рубрик, как постоянных, так и ситуативных: «Нация и мир», «Проза. doc», «Тонкости ремесла», «Дружба на вырост», «Золотые страницы „ДН“», «Просто жизнь», «Правила игры», «Культурный слой», «Библионавтика», иные прочие.
Читают ли журнал по-прежнему в странах, которые некогда составляли Советский Союз? Подозреваю, что спорадически, от случая к случаю, в зависимости от перемен в государственной политике этих стран. Но то, что российский литературный ландшафт без «Дружбы народов», безусловно, опустел бы, это точно.
(Ничей) «Наш современник»
К собственной предыстории в «Нашем современнике» обращаются редко. Да, собственно говоря, и незачем.
Альманах, в 1933 году придуманный, как многое тогда, Горьким под пафосным названием «Год… такой-то от Октябрьской революции», оказался если не мертворожденным, то смирным и уже поэтому полузаметным. Удачи, конечно, случались: «Колхида» и еще две повести Константина Паустовского, «Педагогическая поэма» Антона Макаренко, нашумевший в свое время роман «Я люблю» Александра Авдеенко… Однако ни боевитости, ни своего лица альманах не приобрел, начальственной ласки и начальственной таски, соответственно, не удостоился, так что и его погружение в анабиоз в 1939 году, и его воскрешение в 1948-м прошли бесследно, и разве лишь историки литературы помнят, что здесь появились «Среди лесов» Владимира Тендрякова (1953), «В Снегирях» Григория Бакланова (1955), очерки и рассказы других недавних фронтовиков.
В дни Оттепели альманах переназвали «Нашим современником», превратили сначала в ежеквартальный, затем в ежемесячный журнал, бесцветного Виктора Полторацкого (1956–1958) на посту главного редактора сменили на Бориса Зубавина (1958–1968), столь же, впрочем, бесцветного, а страницы запестрели никак не согласующимися друг с другом именами – от Эммануила Казакевича и Юрия Нагибина до Владимира Солоухина и только-только начинавшего свой путь Василия Белова.
Дули, впрочем, как и прежде, на воду. Вот уже на излете зубавинского правления записывает в дневник Всеволод Иванов, член редколлегии:
Заседание в альманахе «Н. С.» <«Наш современник»>. Секр<етарь> редакции, мотивируя то, что не напечатали очерки Солоухина, сказал, что редакция убоялась печатать, т. к. сам автор «распространял слухи», что его очерки «мрачные». – К. Львова жаловалась, что плохие статьи на ее роман «организовали» евреи; говорила завуалированно, конечно. – А когда кто-то предложил напечатать статью об очерках К. Паустовского, редактор воскликнул:
– Паустовский еще не признал своих ошибок, а мы будем печатать о нем статью!162
С таким отсутствием позиции выбиться в первый разряд, разумеется, никак не удавалось, тираж держался на скромной по тем временам отметке, и в коридорах власти стали поговаривать, что «Наш современник» надо бы закрыть: «малюсенький журналишко до сих пор ничем себя не проявил ни с точки зрения политики, ни с точки зрения литературы»163.
Могли бы, наверное, и закрыть, но положение спас Леонид Соболев – ему, руководившему тогда Союзом писателей РСФСР, остро требовался свой журнал, который противостоял бы либеральному, а попросту говоря, еврейскому засилью в «Литературной газете», «Новом мире», «Юности» и даже в «Знамени».
Выбор пал на Сергея Викулова – русский, фронтовик, коммунист, в недавнем прошлом провинциал, вологжанин, только что прошедший школу (и проверку!) в должности заместителя главного редактора славянофильствующей «Молодой гвардии».
И Викулов развернулся, набрав команду единомышленников, «одержимую», – как он вспоминает, – целью: пробуждать в народе национальное сознание, угнетенное тяжелым прессом «пролетарского интернационализма», а через него – и патриотизм (причем не только советский, как требовали от нас идеологи партии), воспитывать в русских чувство человеческого достоинства, готовность немедленно дать сдачу тем, кто это достоинство унизит или оскорбит164.
Что же касается журнальной программы, то и она определилась сразу – «окликнуть провинциальную Россию»165. И первой стратегической удачей стало появление в редакции мало пока известного иркутянина Валентина Распутина – началось с дежурной повести о строительстве Усть-Илимской ГЭС «Нечаянные хлопоты», написанной совместно с Вячеславом Шугаевым (1969, № 5), продолжилось совсем другими повестями – «Последний срок» (1970, № 7–8), «Живи и помни» (1974, № 10–11), «Прощание с Матерой» (1976, № 10–11). А массовый читательский успех обрушился на журнал с публикацией трогательной повести воронежского прозаика Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо» (1971, № 1–2).
Эта повесть вышла с посвящением Александру Твардовскому. Однако он к тому времени от «Нового мира» был уже отставлен, в декабре того же 1970 года удалили Анатолия Никонова из «Молодой гвардии» – и в «Наш современник» неслиянными потоками хлынули их авторы – идеологи-«молодогвардейцы» и прозаики-«новомирцы», вплоть до Василия Шукшина (1971, № 9)166, Владимира Тендрякова с «Тремя мешками сорной пшеницы» (1973, № 2) и – вы не поверите – Фазиля Искандера с повестью «Морской скорпион» (1976, № 7–8). Не было бы, словом, своего счастья, так несчастье других помогло.
Наиболее горячие головы тогда даже говорили, что «Наш современник» наследует журналу Твардовского, на что Викулов, уже прощаясь с жизнью, решительно заявил:
«НС» знамени «Нового мира» не подхватывал и делать этого не собирался. И если бы даже кто-то попытался вложить его в наши руки, мы бы не взяли его. У «НС» было свое знамя, притом совсем другого цвета167.
Однако авторский прибыток был столь значительным, что тираж стал расти, дойдя от 103 тысяч в 1971 году до – на пике – 480 тысяч в 1990-м. А публикации Белова, Распутина, Шукшина, Виктора Астафьева, Сергея Залыгина, Евгения Носова, Виктора Лихоносова сложились в то, что называют «деревенской прозой» и что, вместе с вершинными рассказами Юрия Казакова «Свечечка» (1974, № 6) и «Во сне ты горько плакал» (1977, № 7), стало, собственно, главным, если не единственным, как полагают многие, «патентом на благородство» этого журнала.
Страна тогда потихоньку обуржуазивалась, очень по-советски, конечно, но обуржуазивалась, и намеченный деревенской прозой крен в сторону праотеческих ценностей и патриархальных устоев, плач о судьбе уходящей под воду крестьянской Атлантиды, жесткая критика городского мещанства и накопительства были поначалу на ура встречены не всею, конечно, но заметной частью интеллигентского сословия. Да и власть к этому крену относилась, скажем так, снисходительно: и цензура не так уж распоясывалась, и хвалебным статьям не было счету, и награды родины одна за другою начинали деревенщикам идти.
Неприятности, разумеется, случались, как без них. Но настоящий гром грянул лишь тогда, когда Валентин Пикуль принес в «Наш современник» 4 года кочевавший по редакциям и издательствам объемистый роман «Нечистая сила» об антихристе Григории Распутине и его (будто бы) жидомасонском окружении, сыгравших (будто бы) роковую роль в крушении вековечной империи.
В «Нашем современнике» за роман схватились сразу же, хотя и с опаской. Непомерно обширную рукопись урезали, изъяв самые опасные места, дали ей новое название «У последней черты» – и отправили в печать. Только тут, уже после выхода в свет первой части романа, то ли цензура спохватилась, то ли читатели на Старой площади и на улице Воровского были зорки, но скандал докатился до Суслова, и за оставшиеся главы взялись уже как следует.
Полетело тридцать тысяч курьеров с докладными записками, зашумели заседания и большого, и малого писательских секретариатов, совещания в ЦК: мол, «роман вызвал озабоченность читателей и литературной общественности», и это нетерпимо, ибо говоря о сионистском влиянии на правящую верхушку буржуазно-помещичьей России, автор нарочито обостряет ситуацию, допускает в ряде случаев отступления от принципов классового анализа, что может лишь осложнить работу по разоблачению происков сионизма168.
Ужасное слово «антисемитизм» вслух не произносилось, но оно угадывалось, поэтому всерьез советовали даже прервать публикацию. Однако было сочтено, что это вызовет еще больший ажиотаж, и за дело взялись сами цекисты.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Подготовленный Ю. Батуриным, М. Федотовым и В. Энтиным Закон «О печати и других средствах массовой информации» был принят 12 июня и в силу вступил 1 августа 1990 года.
2
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О № 5 „Нового мира“» // Новый мир. 2025. № 5. С. 160.
3
Спустя десятилетие они и были, впрочем, расстреляны: Воронский – в 1937-м, Пильняк – в 1938-м, и только Полонский не дожил до Большого террора и умер в 1932-м от сыпного тифа.
4
«Журнал „Новый мир“ под руководством Гронского является выразителем хвостистских настроений отдельных писателей, очагом политической безграмотности и грязной пошлятины», – 22 марта 1937 года докладывал Сталину и другим секретарям ЦК зам. зав. отделом культпросветработы А. Ангаров (цит. по: Литературный фронт: История политической цензуры 1932–1946 гг.: Сб. документов. М.: Энциклопедия российских деревень, 1994. С. 21). И понятное дело, что И. Гронский свою должность потерял, а 1 июля 1938-го был арестован и последующие пятнадцать лет провел в лагерях.
5
См.: Бабиченко Д. Жданов, Маленков и дело ленинградских журналов // Вопросы литературы. 1993. № 3.
6
Закс Б. В «Новом мире» // Время вспоминать. Иерусалим: Достояние, <б. г.>. Вып. 7. С. 38.
7
Трифонов Ю. Записки соседа // Юрий и Ольга Трифоновы вспоминают. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 2003. С. 169.
8
А. Твардовский в жизни и литературе: (Письма 1950–1959). Смоленск: Маджента, 2013. С. 122.
9
Осипов В. Шолохов. М.: Молодая гвардия, 2010. С. 415.
10
См.: Твардовский А. Дневник. 1950–1959. М.: ПРОЗАиК, 2013. С. 237; запись от 19 сентября 1956 года.
11
Там же. С. 356.
12
Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева: Дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991. С. 26.
13
Там же. С. 30.
14
См.: «Я глубоко убежден в том, что поэзия настоящая, большая создается не для узкого круга стихотворцев и „искушенных“, а для народа» (Твардовский А. Поэзия и народ // Твардовский А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1980. Т. 5. С. 309).
15
Знамя. 1959. № 4.
16
Твардовский А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1983. Т. 6. Письма (1932–1970). С. 94.
17
«Это журнал конъюнктурный, фальшивый, враждебно относящийся к интеллигенции» (из письма В. Шаламова И. Эренбургу от 28 апреля 1966 года // Почта Ильи Эренбурга. Я слышу всё… 1916–1967. М.: Аграф, 2006. С. 609).
18
Закс Б. В «Новом мире» // Время вспоминать. Иерусалим: Достояние, <б. г.>. Вып. 7.
19
Не пропущенная вовремя в «Новом мире», «Синяя тетрадь» была напечатана в «Октябре» (1961, № 4), «Июль 41 года» появился в «Знамени» (1965, № 1–2), «Сто суток войны» (под названием «Разные дни войны») – в «Дружбе народов» (1973, № 1, 2; 1974, № 4, 5–6, 11–12; 1975, № 1), «Новое назначение» – в «Знамени» (1986, № 10), «Исход», став «Исчезновением», уже после смерти автора – в «Дружбе народов» (1987, № 1), а «Степан Сергеич», хоть и в «Новом мире», но только в 1987 году (№ 6–8).
20
Роман, – как вспоминает Ю. Трифонов, – была предложен в «Новый мир», однако «Александр Трифонович разнес баклановскую рукопись, Гриша был убит, понес Кожевникову, тот напечатал» (Трифонов Ю. Записки соседа // Юрий и Ольга Трифоновы вспоминают. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 2003. С. 190).
21
Ошибка памяти А. Гладилина: в июльском номере «Нового мира» за 1962 год были напечатаны рассказы Аксенова «На полпути к Луне» и «Папа, сложи».
22
Гладилин А. Улица генералов: Попытка мемуаров. М.: Вагриус, 2008. С. 99.
23
Будто выправляя эту несправедливость, преемники Твардовского при учреждении в 2000-м премии за лучший рассказ года дали ей имя именно Юрия Казакова.
24
Твардовский А. [Рец.] Юрий Казаков. Рассказы // Твардовский А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1980. Т. 5. С. 291, 292.
25
Солженицын А. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни // Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. Т. 28. М.: Время, 2018. С. 13.
26
«Цензура хотела опять стоп, а ей из ЦК: „Что у вас там? Не выдумывайте!“ – весело рассказывал Катаев Самуилу Алешину. – И все в порядке, напечатали» (цит. по: Шаргунов C. Катаев: Погоня за вечной весной. М.: Молодая гвардия, 2015. С. 574).
27
Как вспоминает Ю. Трифонов, «оглянувшись с озорным видом, будто кто мог подслушать, шептал: „А я вам говорю – дерьмо!“ <…> Напечатаньем катаевских вещей он все же гордился, так как считал их, конечно же, литературой, в отличие от многого, что печаталось, и литературой, имевшей право на существование, но ему не близкой и даже в некотором смысле чуждой, однако же вот – печатал, и не одну вещь, а три. Была известная гордость собой, своей широтой, великодушием» (Трифонов Ю. Записки соседа // Юрий и Ольга Трифоновы вспоминают. С. 201).
28
К. Паустовский, посвятив разбору этого романа статью «Сражение в тишине», в «Известиях» ответил его критикам: «Каждая попытка оправдать культ – перед лицом погибших, перед лицом самой элементарной человеческой совести – сама по себе чудовищна», и А. Ахматова откликнулась на эту статью телеграммой Паустовскому: «Глубоким волнением и радостью прочла вашу замечательную статью в „Известиях“. Благодарю вас» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997. Т. 2. С. 536). Вот и в наши дни обозреватель «Коммерсанта» М. Трофименков даже изумился: «Как и почему литературным знаменем антисталинизма стал „Один день Ивана Денисовича“, на фоне „Тишины“ кажущийся пасторалью и кондовым соцреализмом?» (Трофименков М. Лейтенант советской прозы: Умер Юрий Трифонов // Коммерсантъ. 2020. 29 марта).
29
Интересно, что, – как вспоминает Ю. Трифонов, – «Обмен появился без единой цензурной поправки. Как мне сказал один из членов редколлегии: „Подержали в зубах и выпустили“. Видимо, вопрос о журнале был уже решен и следить за добропорядочностью последних номеров не имело смысла…» (Трифонов Ю. Записки соседа // Юрий и Ольга Трифоновы вспоминают. С. 208).
30
Виноградов И. О том, как попасть в «Новый мир» Твардовского // http://oralhistory.ru/talks/orh–1874.pdf.
31
Источник. 1996. № 2. С. 112.
32
См.: Тазеева-Гриценко Т. Журнал «Новый мир» сквозь призму его тиража (1960-е гг.) // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2008. № 11.

