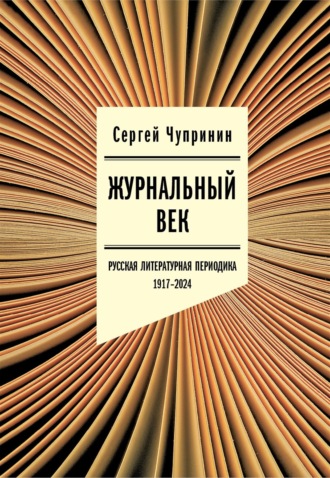
Полная версия
Журнальный век. Русская литературная периодика. 1917–2024
Если же говорить суммарно, то в выборе между ориентацией на традиции Твардовского в стратегии «Новом мире» победила ориентация на практику Косолапова – Наровчатова или, как с тех пор и до нынешних времен предпочитают говорить руководители издания, на уроки Полонского: с властями не враждовать, в оппозицию к ним не становиться, держась вот именно что художественности с ампутированным по возможности или, по крайней мере, не акцентированным социальным нервом.
И, естественно, держась духовности, прежде всего православной. Конечно, не с таким рвением, как журнал «Москва», где в это же время завели раздел «Домашняя церковь». Но следуя заветам русской религиозной философии начала XX века. И следуя принципам того, что будет названо просвещенным консерватизмом.
В том числе и в плане эстетики, что на первых порах вызывало внутриредакционные конфликты, выплескивавшиеся, случалось, и на журнальные страницы. Один лишь, зато выразительный и в своем роде исключительный пример: в третьем и четвертом номерах за 1993 год был опубликован постмодернистский роман Владимира Шарова «До и во время», который уже в следующем, пятом, номере сотрудники отдела критики Сергей Костырко и Ирина Роднянская разнесли в пух и прах как идейную и художественную провокацию, неуместную в «Новом мире» и для «Нового мира» неприемлемую.
В дальнейшем сор из избы тут уже не выносили. Но – как при Залыгине, так и при Андрее Василевском, сменившем его в 1998 году, – никогда не печатали того, что могло бы расколоть «ядерный электорат» подписчиков и стать предметом общественных дискуссий. «Новый мир», – говорится на официальном сайте журнала, – и сейчас «видит достоинство в определенном живом, не коснеющем, консерватизме, однако открыт новому, яркому, глубокому и талантливому».
«Октябрь» уж облетел…
Жизнь журнала «Октябрь» пресеклась в 2018 году. Сначала казалось, что ненадолго. Однако редакция, к тому времени оставшаяся совсем без денег и вынужденная покинуть просторное помещение по улице «Правды», подписку на следующий год уже не объявляла, очередных номеров не готовила и в 2019-м лишь издала коллекционным тиражом прощальный 12-й выпуск, вынеся на его обложку слова «Сто лет минус пять».
На том надежды на возрождение и выдохлись. Так что «Октябрь» в корпоративном «Журнальном зале» переместился в рубрику «Архив», став ныне достоянием скорее историков.
Им найдется что исследовать, отметив для начала, что, в отличие от «Красной нови», «Звезды» и «Нового мира», программно сориентированных на приручение властью писателей-«попутчиков», «Октябрь» уже первым своим номером, появившимся в мае 1924-го, заявил о себе как о боевом органе МАППа, то есть Московской ассоциации пролетарских писателей, а затем и пресловутого РАППа.
В революционном энтузиазме и классовой беспощадности редакции, где на старте правили Л. Авербах, А. Безыменский, Г. Лелевич, Ю. Либединский, С. Родов, А. Соколов, А. Тарасов-Родионов, сомневаться не приходится. По так называемым попутчикам и внеоктябрьским писателям – воспользуемся терминами Л. Троцкого – били на уничтожение, и едва ли не ориентиром стала статья конноводца Семена Буденного «Бабизм Бабеля из „Красной нови“», где рассказы из будущей «Конармии» интерпретировались как «вонючие бабье-бабелевские пикантности», «безответственные небылицы», написанные «художественной слюной классовой ненависти», а сам Бабель именовался «дегенератом от литературы» (1924, № 7. С. 197).
Одна лишь беда: теоретические выкладки и агрессивные призывы октябристов никак не подтверждались пролетарской художественной практикой, и читать сочинения, заполнявшие журнальные страницы, охотников было совсем немного. Настолько немного, что в конце 1927 года В. Васильевский, Ф. Раскольников и В. Фриче даже направили докладную записку в ЦК ВКП(б) с предложением закрыть «Октябрь», так как он имеет всего 800 подписчиков и дает 60 000 рублей убытка в год58.
Журнал, истощившийся в борьбе «за гегемонию пролетарской культуры», однако же, не закрыли, и ближе к концу 1920-х годов, когда главным редактором был А. Серафимович, а роль комиссара играл А. Фадеев, в «Октябре» наконец-то появились публикации, расцененные как событийные, – первая книга шолоховского «Тихого Дона» (1928, № 1–4), вторая книга панферовских «Брусков» (1929, № 7)…
Тогда же, впрочем, случился и первый скандал: в сентябрьском номере за 1929 год, подписанном в печать А. Фадеевым, был напечатан рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар», и «наверху» он категорически не понравился.
Я, – покаялся Фадеев в письме Р. Землячке, – прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар», за что мне поделом попало от Сталина, – рассказ анархический; в редакции боятся теперь шаг ступить без меня…
Каяться пришлось, впрочем, и публично – уже в ноябрьский номер «Октября» заверстали (одновременно с публикацией в журнале «На литературном посту») бичующую Платонова статью генерального секретаря РАППа Л. Авербаха «О целостных масштабах и частных Макарах», сопроводив ее примечанием за подписью Фадеева, Серафимовича и Шолохова, где сказано, что «редакция разделяет точку зрения т. Авербаха на рассказ „Усомнившийся Макар“ А. Платонова и напечатание рассказа считает ошибкой»59.
Ожидавшихся оргвыводов сделано, однако же, не было. И более того, сия наука Фадееву впрок пока еще не пошла. Исполняя в 1931 году обязанности главного редактора на этот раз не «Октября», а «Красной нови», он в третьем номере этого журнала пропустил в печать отвергнутую ранее «Новым миром» «бедняцкую хронику» Платонова, которая так и называлась – «Впрок»60. Этот номер незамедлительно изъяли из продажи, а сам Фадеев мало того что был вызван на ковер к Сталину, так еще и принужден реагировать на негодующую сталинскую записку:
К сведению редакции «Красная новь». Рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и опубликованный головотяпами-коммунистами с целью продемонстрировать свою непревзойденную слепоту. И. Сталин. P. S. Надо бы наказать и автора и головотяпов так, чтобы наказание пошло им «впрок»61.
Как Фадееву было реагировать? Естественно, обрушившейся на «литературного подкулачника» собственной статьей о том, что в повести дышит звериная, кулацкая злоба, тем более яростная, чем более она бессильна и бесплодна. <…> Коммунисты, не умеющие разобраться в кулацкой сущности таких «художников», как Платонов, обнаруживают классовую слепоту, непростительную для пролетарского революционера62.
Оставим, впрочем, этот сюжет, сломавший жизнь Платонову, но, однако же, не Фадееву, который был спустя некоторое время лишь отставлен от редактирования «Красной нови». И скажем, что радикальные перемены в «Октябре», как и во всей советской литературной печати, произошли после постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 года. Ассоциации пролетарских писателей в один момент были ликвидированы, их претензии на роль «гегемона» отвергнуты, и должность главного редактора «Октября» на долгие (хотя и с перерывами) десятилетия занял Федор Панферов, а в первый состав редколлегии вошли проверенные А. Афиногенов, А. Безыменский, А. Жаров, В. Ильенков, М. Огнев, А. Сурков, М. Шолохов, И. Нович.
Их не бог весть какой уровень ясен – учитывая, что Шолохов, продолжая печатать «Тихий Дон» в журнале, деятельного участия ни в каких редколлегиях сроду не принимал. Ясно и то, что власти, одобряя забытую ныне классику соцреализма – «Ведущую ось» В. Ильенкова, «Большой конвейер» Я. Ильина, «Ненависть» И. Шухова, «На Востоке» П. Павленко, «Станицу» В. Ставского, «Кочубей» А. Первенцева (1937), «Горячий цех» Б. Полевого (1939, № 8–11), – за журналом продолжали послеживать. Так, например, 4 августа 1939 года Оргбюро ЦК приняло даже специальное постановление в связи с тем, что на страницах журнала «Октябрь» поэт И. Сельвинский под видом «лирики» протащил своеобразную арцыбашевщину – пошлые и циничные, насквозь буржуазные взгляды по вопросу об отношении к женщине.
За эту «грубую политическую ошибку», допущенную в № 5/6, влетело и члену редколлегии В. Ильенкову, подписавшему номер к печати, и Главлиту, проявившему вдруг «гнилой либерализм»63.
Но особенно грозно громыхнуло в годы войны, когда Панферов эвакуировался в Челябинск и все дела в журнале вела ответственный секретарь редакции Минна Юнович. Вот эта-то, – по оценке С. Боровикова, – «представительница „социологической школы“, автор серых предисловий к массовым изданиям классики и таковых же статей о М. Горьком»64 и приняла на себя вину за публикацию в № 6/7–8/9 за 1943 год «аморальной», «пошлой антихудожественной» и «вредной» повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», которая – процитируем постановление Президиума ССП от 22 декабря 1943 года65 – претендуя на, якобы, «научные» изыскания, на деле уводит читателя в область узко-личных, мелких обывательских переживаний, далеких от жизни советского народа, в особенности в дни войны66.
Инициатором всех этих фиоритур стал А. Жданов, главный на то время партийный идеолог, который, санкционировав появление в журнале «Большевик» письма «ленинградских читателей» против Зощенко, сопроводил рекомендацию к печати указанием: «Еще усилить нападение на Зощенко, которого нужно расклевать, чтобы от него мокрого места не осталось»67.
Уже подготовленные к печати завершающие части книги «Перед восходом солнца» были остановлены68 – несмотря на безуспешные попытки ошельмованного (и ошеломленного) автора объясниться в письмах к Сталину. Что же касается совсем уж крутых репрессий, то они были временно отложены. Применительно к Зощенко на 3 года – до уничтожающего постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Применительно к Юнович69 – до июля 1945 года, когда руководители Союза писателей Н. Тихонов и Д. Поликарпов в письме Маленкову и Жданову предложили Юнович из редакции убрать, а руководителем вновь утвердить Панферова с редколлегией в составе: Б. Полевой (зам. отв. редактора), В. Ильенков, Ю. Лукин, П. Павленко, А. Первенцев, С. Щипачев70.
Так начались годы, самые мрачные в истории советской литературы, но для Панферова и его помощников счастливые.
Антисемитом он не был и в самый разгар травли евреев-космополитов, преодолевая сопротивление редколлегии, предложил самому безродному из безродных и отовсюду выброшенному Ю. Юзовскому печататься именно в «Октябре», то есть, – пишет рассказавший эту историю С. Алешин, – «в решительные и трудные минуты умел вести себя достойно. Не каждому дано»71. Однако присяжные критики «Октября» знали дело туго и в бесчисленных статьях почем зря крошили низкопоклонников и наймитов империализма или после затравочной статьи А. Фадеева «Задачи литературной критики» (1947, № 7) в течение полутора лет относительно мирно судили-рядили о несравненных достоинствах социалистического реализма. Стихи начальственного неудовольствия тоже не вызывали, а центральные прозаические публикации той поры – «Белая береза» М. Бубеннова (1946), «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (1946, № 7–11), «Алитет уходит в горы» Т. Семушкина (1947, № 1–3; 1948, № 10–11), «Кавалер Золотой Звезды» (1947–1948) и «Свет над землей» (1949) С. Бабаевского, «Водители» А. Рыбакова (1950, № 1–3), равно как романы «Борьба за мир» (первая часть – 1945, № 1–2, 4), «В стране поверженных» самого Панферова (1948) и роман «Иван Иванович» его жены А. Коптяевой (1946, № 3–6) – раз за разом получали Сталинские премии и, соответственно, статус образцовых.
Вот и шло все ладно, пока уже после смерти Сталина редакция не допустила грубую политическую ошибку, напечатав в № 4 за 1954 год примечание П. Вершигоры к его статье «Братья по оружию», огульно опорачивающее научный труд Академии Наук УССР «История Украинской ССР» и являющееся недостойным выпадом против целого коллектива ученых, работавших над книгой72.
Сейчас трудно судить, не была ли эта промашка всего лишь поводом к незамедлительному увольнению из редакции Панферова и его заместителя И. Падерина. Возможно, прав В. Огрызко, и подлинной причиной было гомерическое пьянство Панферова, который только что так накуролесил во время депутатской поездки в Татарстан, что 12 апреля вынужден был оправдываться в письме к Маленкову: мол, «года три назад я дал Вам слово – не пить. Я выполнил свое слово, и все это время не пил», однако же от «неимоверной усталости» неожиданно для себя «сорвался – выпил», а теперь вину свою осознал и «хочу, чтобы Вы знали о том, что независимо от решения, которое будет принято в связи с этим, я никогда больше не прикоснусь к водке. Хватит!»73
Эти же аргументы он, выждав положенный срок опалы, повторит и в письме к Хрущеву от 25 мая 1956 года, когда вновь запросится в насиженное кресло главного редактора: «За это время я не только бросил пить, но даже и не выпиваю, что могут подтвердить сотни товарищей, знающих меня», а поэтому «не пора ли нам вернуть журнал „Октябрь“, дабы восстановить его традиции, заложенные еще когда-то Дм. Фурмановым»74.
На то она, впрочем, и власть, чтобы принимать решения не сразу. К посту главного редактора «Октября» сначала примеряли Бориса Сучкова, который, вернувшись из ГУЛАГа, хорошо зарекомендовал себя в роли первого заместителя В. Кожевникова по журналу «Знамя», затем взять бразды правления уговаривали Твардовского. И лишь в августе 1957-го вернули на место все-таки Панферова.
А в течение трехлетнего интервала между его отставкой и очередным пришествием в «Октябрь» редакцией управлял Михаил Храпченко, и это время для журнала было никак не худшим. Центральное место в нем, конечно, отводилось тому, что тут же рассматривалось как соцреалистическая классика: новая редакция пьесы Л. Леонова «Золотая карета» (1955, № 4), главы из второй книги шолоховской «Поднятой целины» (1955, № 5–6), очередные части эпопеи В. Закруткина «Сотворение мира» (1955, № 9–12), романы Г. Николаевой «Битва в пути» (1957, № 3–7) и М. Бубеннова «Орлиная степь» (1959, № 7–10)… Однако не забудем, что тут же печатался и К. Паустовский с «Золотой розой» (1955, № 9–10), весьма далекой от предписываемого канона.
Особенно, впрочем, выразительными были перемены в разделе поэзии, который в то время вел Е. Винокуров: поэмы 23-летнего Р. Рождественского «Моя любовь» (1955, № 1) и 24-летнего Е. Евтушенко «Станция Зима» (1956, № 10), стихи 18-летней Б. Ахмадулиной (1955, № 5), Б. Слуцкого (1955, № 2, 8; 1956, № 1) и Л. Мартынова, других первых звезд Оттепели. Даже журнал «Юность», инкубатор задиристой молодежи, еще мешкал, так что, по свидетельству Н. Коржавина, отдел поэзии, «благодаря тому же Винокурову – был лучшим в стране…»75
Что раздражало, конечно, «гужеедов» – почвенников и сталинистов, увидевших в «Октябре» при Храпченко рассадник формализма и вообще еврейского засилья. Поэтому и радость такая у них была, когда Храпченко, получив должность заместителя академика-секретаря в Академии наук, был в августе 1957-го снова заменен Панферовым. «Панферов опять стал во главе „Октября“ – это положительно: хоть один русский журнал будет», – 17 августа прокомментировал эту новость И. Шевцов в письме С. Сергееву-Ценскому76.
Эти ожидания отчасти оправдались. Из редколлегии журнала демонстративно вышел эстет Л. Леонов, сам вроде бы склонявшийся к зарождавшейся тогда «русской партии», но на дух не переносивший малограмотного автора «Брусков». Зато вошли С. Бабаевский, А. Первенцев, И. Падерин, С. Васильев, и душевно, и по литературным убеждениям близкие новому/старому главному редактору.
Тем не менее надеждам, что обновленный «Октябрь» станет трибуной национал-большевизма, сбыться не удалось. То ли встревоженный, то ли вдохновленный оттепельными настроениями и читателей, и власти Панферов, который считал, что «Храпченко сам – весь сплошная ошибка»77, став к рулю, повел себя абсолютно по-храпченковски, то есть попытался превратить журнал в орган консолидации всех литературных сил – от унылых последышей социалистического реализма до фрондеров-прогрессистов. Так что и «Время больших ожиданий» Паустовского, отвергнутое Твардовским, опубликовал (1959, № 3–5), и пробивал сквозь цензуру напечатанную уже после смерти Панферова повесть Э. Казакевича «Синяя тетрадь» (1961, № 4), чего не удалось Твардовскому.
В конце концов, – говорит М. И. Твардовская, – автору надоело ждать появления своей вещи в печати; он забрал повесть из «Нового мира» и почти сразу опубликовал ее в «Октябре». <…> «Несчастному Поликарпову» А. Т. не преминул высказать негодование по поводу правовых порядков, позволивших Ф. Панферову («Октябрь») сделать то, что не позволялось Твардовскому78.
Да и стихи печатались в журнале все тех же «детей XX съезда» и все так же к неудовольствию записных патриотов и начальства. То из подборки Вознесенского (1959, № 10) цензура вынет стихотворение «Последняя электричка», в котором, по мнению начальника Главлита П. Романова, «извращается советская действительность, содержится оскорбительный выпад против всей нашей молодежи»79. То анонимный критик заявит, что стихотворение Евтушенко «Ты спрашивала шепотом…» (1959, № 4) есть «пример беззастенчивой пошлости»80, а Отдел культуры ЦК в связи с этим сочтет «необходимым указать редакции журнала „Октябрь“ на ее неразборчивость в отборе материала для печатания»81.
Но до смертного боя все-таки не доходило, Панферов чувствовал себя и был на месте, и после его кончины в сентябре 1960 года замену нашли только через три месяца. Зато какую! – Всеволод Кочетов, в начале 1950-х до белого каления доведший ленинградских писателей, а потом превративший «Литературную газету» в форменное пугало.
На первых порах и он, впрочем, редакционную политику «Октября» через колено не ломал. Выполняя прямое распоряжение Хрущева, пропустил в печать одобренную еще Панферовым «Синюю тетрадь» Э. Казакевича (1961, № 4), опубликовал «Ни дня без строчки» Ю. Олеши (1961, № 7–8), бесперебойно печатал стихи И. Сельвинского, П. Антокольского, Вл. Соколова, открыл широкой публике В. Шукшина (1961, № 3; 1962, № 1, 5), Н. Рубцова (1964, № 8, 10), И. Волгина и (в том же номере – 1962, № 9) В. Соснору. Во всяком случае, готов был прибрать к рукам бесхозные, как ему казалось, таланты.
И часто ошибался в выборе фаворитов. Вот Шукшин, которого Кочетов мало того что расхвалил в интервью «Комсомольской правде» (16 ноября 1962 года), так еще и рекомендовал к изданию его первую книгу «Сельские жители» (1963) и даже пробил молодому писателю, бездомному после института, московскую прописку. Но тут В. Некрасов, подружившийся с Шукшиным, передал папку с его рассказами в редакцию «Нового мира»82, и, – вспоминает А. Берзер, ведавшая там прозой, – «кто-то сказал, увидев у меня эту папку: – Знаете, он напечатался в „Октябре“. Я стала читать рассказы. Они не имели никакого отношения к этим словам»83. И пусть Шукшин не стал таким истым новомирцем, как сам Некрасов, но последовавшие одна за другою 6 публикаций у Твардовского автоматически исключили для него возможность и дальше печататься у Кочетова.
Еще круче сюжет с Владимиром Максимовым. Его повесть «Мы обживаем землю» на страницы альманаха «Тарусские страницы» (1961) все-таки прорвалась, а вот следующую вещь не брал никто – ни «Новый мир», ни «Юность», ни «Москва», и тогда раздосадованный автор отнес рукопись «мракобесам». «Ваши либералы, – встретил его Кочетов, – в штаны наклали, боятся вас печатать, а я не боюсь»84. И действительно – в ситуации перехватывания, переманивания талантов – повесть «Жив человек» в «Октябре» опубликовали мгновенно (1962, № 10)85. Да и дальше баловали: напечатали пьесу «Позывные твоих параллелей» (1964, № 2), рассказ «Искушение» (1964, № 9), повесть «Стань за черту» (1967, № 2), а то, что Максимову в 1964 году пришлось подписать коллективное письмо с осуждением «фрондирующих литмальчиков вкупе с группой эстетствующих старичков» – беда невелика; ведь в конце концов и сами «литмальчики» после похода Хрущева в Манеж вынуждены были каяться и благодарить начальство за науку.
Роман «Двор посреди неба», планировавшийся во второй номер 1964 года, однако, все-таки и Кочетов не напечатал, в последний момент заменив его максимовской же проходной пьесой. Зато в октябре 1967-го Максимова торжественно ввели в редколлегию – рядом со сталинскими лауреатами М. Бубенновым, С. Бабаевским и А. Первенцевым.
Ненадолго, впрочем, так как Максимов к этому времени уже сдвинулся к противостоянию с режимом, стал составлять и подписывать самые яростные диссидентские воззвания – и уже в следующем году из журнальной редколлегии был выброшен. Что же касается Рубцова, Волгина, Сосноры, других достойных авторов, неосторожно отметившихся в «Октябре», то и они, набрав силу, предпочли иных публикаторов.
И причина в скверной репутации этого журнала, обеспеченной кровожадными выступлениями самого Кочетова с партийных и писательских трибун, его собственными «антинигилистическими» романами и тем, что каждый номер «Октября», как и «Нового мира» при Твардовском, начинали читать с разделов критики и публицистики, где прицельно били по всему, что воспринималось как приметы Оттепели. И здесь никаких авторитетов для октябристов не было. Даже благословленная лично Хрущевым повесть «Один день Ивана Денисовича» в статье Н. Сергованцева храбро критиковалась как «идейно порочная, рассчитанная на сенсацию», а герой повести представал тупым и ограниченным существом, «жизненная программа которого не простирается дальше лишней миски баланды и жажды тепла»86.
Дальше – больше. В «Известиях» (15 августа 1963 года) и в «Новом мире» (1963, № 8) опять-таки с личного одобрения главы партии печатается сатирическая поэма Твардовского, и тут же «Октябрь» отвечает жесткой статьей Д. Старикова «Теркин против Теркина»:
Ну нет, куда уж этому новому «Теркину с того света» против прежнего! Произведение, вроде бы самым непосредственным образом связанное с его прежним творчеством <…> в наибольшей степени, чем что-либо иное, сделанное Твардовским, противоречит живому направлению и сущности его таланта, оспаривает неоспоримое в нем и, прежде всего, конечно, «Книгу про бойца» (1963, № 9).
Здесь все изумительно. И храбрость, с какою на произведения, казалось бы, защищенные либо властью, либо консолидированным общественным мнением, нападали Д. Стариков, Н. Сергованцев, Ю. Назаренко, П. Строков, Ю. Идашкин, которого А. Вознесенский назвал Букашкиным, а в редакции «Нового мира» высмеивали не иначе как Иудашкиным. И то, что, несмотря на публичные протесты, им ничего за это оппонирование не было.
Вот и бил «Октябрь», как тогда выражались, по площадям. Прилетало композиторам, художникам-«дегтемазам» и «абстрактистам». Доставалось киношникам – за «идейно порочные» фильмы «Летят журавли», «Чистое небо», «А если это любовь?», «Неотправленное письмо», «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм». Защищенным от сокрушительной критики октябристов не чувствовал себя никто – ни Эренбург, ни Паустовский, ни Розов, ни Федор Абрамов, ни, естественно, Аксенов и Евтушенко, другие остро ненавидимые Кочетовым «гении в коротких штанишках».
Но с особенной настойчивостью, с особой яростью били по «Новому миру». Пытаясь списать это противостояние на личную неприязнь главных редакторов, начальство взывало к их партийной дисциплине, увещевало в газетных передовицах, даже устраивало на Старой площади очную ставку Твардовского, кандидата в члены ЦК, и Кочетова, члена Центральной ревизионной комиссии КПСС. Разумеется, без толку. В войне сталинистского «Октября» и антисталинистского «Нового мира» не было и не могло быть ни перемирий, ни передышек. И дело отнюдь не только в эстетических расхождениях, дело в идеологической несовместимости журнальных позиций.
Полушутя-полусерьезно, – вспоминает И. Волгин, – мы говорили, что «Новый мир» – это орган крестьянской демократии, а «Октябрь» – выразитель заветных чаяний аппарата87.
И тут нельзя не заметить, что эти «заветные чаяния» отнюдь не всегда и не во всем совпадали с державной волей высшей власти. Чувствуя себя правовернее и Политбюро, и папы римского, как аппаратчики, так и октябристы не могли простить Хрущеву ни антикультовой риторики, ни вот именно что «волюнтаризма» и непредсказуемости, а сменившему его Брежневу ставили в вину дряблое администрирование. В этом смысле редакционная политика «Октября», как и новомирская, по отношению к власти была отчетливо оппозиционной, только что «справа», а не «слева», как тогда говорили.
С трудом, но все-таки терпимая при Хрущеве, эта располюсованность журнального мира стала все усиливающимся источником начальственного беспокойства в годы после «малой октябрьской революции» 1964 года, когда восторжествовал трамвайный закон «Не высовываться!». Теперь удары стали наноситься по обоим журналам вместе, в рамках одного партийного постановления и одной газетной передовицы. Да и в наказании главных редакторов старались держаться паритета. Весной 1966-го на XXIII съезде КПСС обоих вывели из правящих органов, так что Твардовский перестал быть кандидатом в члены ЦК, а Кочетов членом Центральной ревизионной комиссии. В 1967 году Твардовского уже не избрали депутатом Верховного Совета РСФСР, а его злейшего врага и раньше обносили этой честью. В 1969 году не разрешили печатать антисталинистскую поэму «По праву памяти», но и яростно сталинистский последний кочетовский роман «Чего же ты хочешь?» (1969, № 9–11) запретили издавать в Москве отдельной книгой, а его обсуждение в печати заблокировали.

