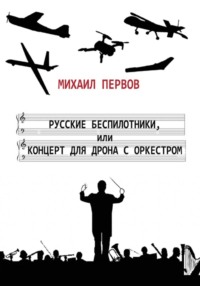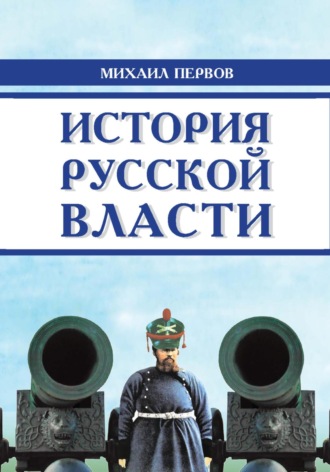
Полная версия
История русской власти
После смерти Ивана Калиты русские князья сели на коней и отправились в Орду просить титул. Хан дал титул сыну Калиты Симеону Гордому. Но вышла осечка. Узбек уже умер и Ордой правил его сын Тинбек. По традиции, Тинбек дал Симеону титул Великого князя Владимирского. Отец Симеона правил в Москве, и сам он намерения лишаться московской прописки не изъявлял.
Калита имел титул Великого князя Владимирского и Московского, и князя Всея Руси. Симеон титула Владимирского князя не желал. Поразмыслив, он назвал себя «Великим князем Всея Руси», вырезав этот титул на печати. Орда не возражала, так как все русские княжества действительно были отданы под великое правление Симеона. Русские князья возражать не осмелились, но опечалились. Если ранее на Руси сохранялась хотя бы видимость княжеского равноправия, то со времени Симеона Гордого от этого равноправия не осталось и следа.
Собрав князей на сходку, Симеон добил их словами о том, что Русь была только тогда сильна, когда князья беспрекословно повиновались старшему. Даже мятежная Тверь позабыла думать о борьбе и свободе. Летописи свидетельствуют о походе Симеона с братьями в 1351 году на Смоленск. Подробности не ясны. Но доподлинно известно, что, увидев на горизонте московское войско, смоляне немедленно запросили мир.
Симеон Гордый унаследовал отцовские ум, мудрость и склонность к дипломатии. С самого начала своего правления он мягко стлал ордынским ханам и жестко правил русскими удельными княжествами. Как и отец, Симеон опирался на советы бояр. При нем в стране впервые появилась бумага, завезенная, видимо, из немецких земель.
Внук Калиты, Великий князь Дмитрий Иванович впервые за долгие десятилетия обнажил меч против татар. Построив первый каменный Московский Кремль, он укрепил оборону города. Будучи молодым правителем, он внимательно прислушивался к советам бояр. Перед походом на Мамая, Боярский Совет заключил мир с враждебной Литвой, чтобы обезопасить северо-западную границу Московского княжества.
К сожалению, первые встречи с огромным войском Мамая были неудачными. Войска Дмитрия получили поражение в сражении у реки Пьяны. Затем татары взяли и разорили Рязань и Нижний Новгород.
Дмитрий просил Мамая оставить Новгород в покое. Но хан закусил удила. Тогда Великий Князь усилил разведку, разгадал намерения врага, собрал рать и дал бой на берегах Вожи. Не выдержав стремительной русской атаки, татары дрогнули и в ужасе отступили. Это был блестящий успех молодого московского правителя.
Дмитрий осознавал, сколь силен Мамай. В стремлении ответить на множество сложных вопросов, он неоднократно созывал Боярский Совет. Получил благословение великого пастыря Сергия Радонежского. Это позволило ему привлечь на свою сторону семьдесят союзников – князей, воевод и бояр русских, каждого со своим войском, а также большое народное ополчение. Такого объединения до Дмитрия не было. С этой великой ратью он и разбил войска Мамая на Куликовом поле, за что получил титул князя Донского.
Некоторые историки упрекали Дмитрия за то, что он запретил своим войскам преследовать врага за рекой Красивая Меча, не погнал Мамая до берегов реки Ахтубы, где мог бы добить его в логове и избавить Русь от новых набегов и новых бедствий. Однако Н.М.Карамзин справедливо указывает на то, что в Волжских Улусах еще было множество свежих татаро-монгольских полков, готовых к битве с русскими войсками, что доставать в степи продовольствие русские воины не умели, что для организации подвоза нового провианта для огромного войска Дмитрия требовалось немало времени, что осень и зима приближались, что русские кони, в отличие от татарских, питаться сухой степной травой не могли, что раненых и убитых в русских полках было огромное множество.
Великий Князь Дмитрий Иванович принял мудрое решение не преследовать разбитого хана Мамая. К сожалению, в 1382 году взял Москву обманом и сжег хан Тохтамыш.
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет»
Приступая к описанию эпохи Ивана III, Николай Михайлович Карамзин дал, пожалуй, самую высокую оценку деяниям первого Российского Государя:
«Отселе история наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки Княжеские, но деяния Царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством, образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической… Народ еще коснеет в невежестве, в грубости, но правительство уже действует по законам ума просвещенного. Устрояются лучшие воинства, призываются искусства, нужнейшие для успехов ратных и гражданских; посольства Великокняжеские спешат ко всем дворам знаменитым; посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице».
Иван III вступил на Московский престол в доброе время. Канули в лету и Киевская Русь, и Ростово-Суздальская Русь, и Галицко-Волынская Русь, и Владимиро-Суздальская Русь с их бесконечной междоусобной враждой. Собрание Северо-Восточной Руси в Московское о государство уже было закончено и почти все русские княжества уже всецело подчинялись Москве. Орда распадалась.
До Ивана III великими княжествами правили Великие Князья. В 1462 году в государственных бумагах впервые появился титул «Государь». В 1493 году к подписи Ивана III прибавились еще один титул «Самодержец» и словосочетание «Божиею Милостью», а также множество эпитетов. Его полная подпись стала выглядеть так: «Божиею Милостью Государь и Самодержец Всея России и Великий Князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Тверской, и Угорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский и иных».
На Руси и царя, и холопа могли назвать одинаково. Но при этом царя величали Иоанном, а холопа кликали Ивашкой. Первым осознал сию истину Иван III. В переписке с Литвой Иван впервые назвал себя Иоанном. Начиная с «Истории российской» В.Н.Татищева имя Иоанн прочно вошло в литературу. Далее и мы будем придерживаться этой доброй традиции. Значимость «Истории российской» В.Н.Татищева заключается в том, что он пользовался уникальными первоисточниками, которые до него, в силу разных причин, летописцы пропускали. Татищев открыл их для читателей. Но после него многие первоисточники были утрачены в силу пожаров, воровства, других причин, и поздние историки уже не могли ими воспользоваться.
Что означали титулы Иоанна III? По мнению В.О.Ключевского, титул «Самодержец» был переведен с византийского и означал не государя с неограниченной властью, а государя независимого и никому не платящего дани. Словосочетание «Божией милостью» закрепило божественное происхождение русских царей, власть которым давалась не народом и не боярами, а Господом Богом. Позже, в одном из писем князю Андрею Курбскому, обладавший несомненным литературным даром Иоанн Грозный, писал: «Самодержавство божиим изволением почин получило от Великого князя Владимира, просветившего всю Русскую землю святым крещением… Если царю не будут повиноваться подвластные, то междоусобные брани никогда не прекратятся, а кто может вести брань против врагов, если царство будет разрываться междоусобными бранями?» Эту свою мысль он дополнил в одном из писем Стефану Баторию: «Мы, смиренный Иоанн, царь и Великий Князь всея Руси по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому мнению».
Начало правления Иоанна III было сложным временем. Несмотря на все усилия Василия Темного обезопасить Московское княжество не удалось. На севере княжества находилась претендовавшая на лидерство враждебная Тверь, на юге – враждебная татарская Орда, на западе в Смоленске – враждебные литовцы, на востоке – враждебная Казань. Великий Новгород продолжал маячить свободолюбием. Верными союзниками Москвы были Дмитров, Переяславль, Можайск, Коломна, Серпухов, Углич, Звенигород, Волок Ламский, Ржев, Руза, Вологда, Ростов.
Сначала Иоанн привлек на свою сторону младшего брата Новгорода – вольный Псков, позволив псковитянам сохранить относительную свободу. В 1471 году он посадил наместником во Пскове воеводу князя Федора Юрьевича.
С вольным городом Новгородом поначалу действовал осторожно. Поручил псковитянам ехать миротворцами в непокорный град, князья которого продолжали подписывать свои грамоты словами «Князь Новагорода и всея Руси». Псковитяне согласились. Но новгородцы резко ответили псковитянам: «Не хотим кланяться Иоанну и не просим вашего ходатайства. Но если вы добросовестны и нам друзья, то вооружитесь за нас против самовластия Московского».
Откуда есть пошла Новгородская вольница? Некоторые историки приписывают ее варягам. Некоторые считают, что это не так. Давайте внимательно прочтем отрывок оригинального текста великого произведения «Повесть временных лет».
«Изгнаша Варяги за море и не даша им дани, и начаша сами в себе владети, и не было в них правды, и встал род на род, быша в них усобица и воевати начаша сами на себя. Реши сами по себе: поищем себе князя, иже бы владел нами и судил по праву. Идоша за море к Варягам к Руси; бо зваху те Варяги Русь, яко друзии зовутся свои, друзи Урмане, Англяне, Готы, тако и си. Реша Руси Чудь, Словени и Кривичи: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, да подите княжить и владеть нами». И избрашися 3 братья с роды своими (со своими родственниками – прим. М.П.Погодина), пояша по себе всю Русь и придоша (разделили между собой русские племена и пришли – прим. М.П.Погодина): старейший Рюрик сел в Новагороде, другой Синеус на Белоозере, третий в Изборске Трувор. От тех прозвася Русская Земля Новгородская».
Проблема происхождения славян обсуждается в русской литературе уже более двух столетий и, видимо, будет обсуждаться еще очень долго. Следует иметь в виду, что «Повесть временных лет» содержит несколько упоминаний о варягах, несколько версий о происхождении Руси, несколько версий о крещении князя Владимира, а Нестор, как считают некоторые историки, не был единственным летописцем, так как «Повесть» многократно переписывалась поздними летописцами. Вдаваться в подробности – не моя цель. Выскажу лишь несколько суждений.
Приведенной мной известной цитате историки дали десятки, а то и сотни комментариев, ибо каждый понимает ее по-своему. Весьма интересным, на мой взгляд, является комментарий М.П.Погодина из книги «Происхождение Варягов-Руси».
Судя по древней летописи, пишет М.П.Погодин, народы, призвавшие в 862 году варягов, назывались славяне (русские), кривичи (белорусы), чудь (прибалтийско-финская группа, карелы, ижорцы). Уже в те далекие времена славяне владели огромными территориями, включая земли народа меря (Верхнее Поволжье). Вероятно, эти огромные территории и были причиной раздоров. Часть карело-финских народов и народы Поволжья не желали подчиняться славянам. Варяги требовали дань. Славяне варягов изгнали и платить дань отказались. Но далее погрязли в междоусобных войнах.
Понимая, что сил недостает, славяне позвали варягов. Судя по тексту «Повести», это были не те изгнанные варяги, которым они отказались платить дань, а другие, дружественные Варяги Русь. Следует иметь в виду, что варягами славяне именовали не один, а множество народов, проживающих на берегах Балтийского моря (шведы, норвежцы, готы, финны и др.), как немцами они называли представителей всех народов Западной Европы, а черкесами – представителей всех народов Кавказа.
Так случилось, что некоторые районы Западной Европы были перенаселены уже в давние времена. В те давние времена сложился обычай переселять молодежь по жребию из тех земель, которые уже не могли их прокормить, на новые земли. Некоторые занимались охотой, земледелием, скотоводством. Некоторые занимались разбойным промыслом.
Шведы были агрессивными варягами. Завоевав часть Финляндии, Карелии, Эстонию, Курляндию, варяги-шведы вторглись в славянские земли, но получили отпор. С варягами-купцами славяне дружили, торговали, называли их гостями. Варяги Русь, судя по всему, были союзниками. С ними вместе славяне (по В.Н.Татищеву – славяноруссы) воевали против общих врагов, они помогали славянам собирать дань. В 862 году славяне призвали на помощь не господ, а именно союзников, коими были Варяги Русь (в переводе с греческого варяг – это союзник, в переводе с древнего кельтского языка русь это красный в переводе с древних иранских языков русь это светлый, белый).
Ни в древнерусских, ни в западных, ни в восточных, ни в византийских, ни в латинских летописях ответа на вопрос о том, представителями какого современного народа были Варяги Русь, мы не найдем. Часто приводится весьма расплывчатое суждение о том, что они были норманнами или скандинавами. Есть мнение о том, что и варяги-враги, и враги-союзники принадлежали к различным шведским племенам, которые в IX веке имели каждое свое имя.
В.Н.Татищев считает, что Варяги Русь пришли из Финляндии. М.В.Ломоносов считал, что они пришли н из Скандинавии, а из Пруссии, так как в переводе с древнего немецкого слово «вар» означает «война», а «варяг» – «воин». Некоторые историки считают, что они прибыли не с берегов Балтийского, а с берегов Черного моря, так как в древних летописях название Балтийское море отсутствует, а употребляется название Варяжское море, описания которого схожи с описанием Черного моря.
Достоверно известно то, что никакого Варяжского княжества на территории Древней Руси никогда не было. Никакого католицизма не было и в помине. Никакие варяжские названия и имена не прижились. Норманнскими являются имена Рюрик, Трувор, Аскольд и еще несколько, упоминаемых в летописях. Продолжения эти имена не имеют. Синеус – либо германское имя, либо ошибочное написание летописцем окончания «ус». Последующие имена – Святослав, Ярополк, Владимир и другие являются славянскими. Основанные Рюриком поселения Ладога и Новгород также являются славянскими названиями.
Как пишет М.П.Погодин, к приезду Рюрика восточные славяне жили племенами, не имея между собой никаких политических связей. Племена были разделены лесами, реками, болотами, степями. Каждое племя имело свои обычаи, предания, нравы. Совет искать князя среди варягов подал только новгородский старейшина Гостомысл. Другие славянские племена об этом совете ничего не знали, не слышали и варягов к себе не призывали.
Прибыв на Ильмень озеро, Рюрик, Синеус и Трувор закрепились на северном, непроходимом, относительно небольшом и малообжитом пространстве между Изборском и Белым Озером. Центром ильменских славян в те далекие времена было поселение Изборск. Но в Изборске Рюрик посадил своего брата Трувора, а сам сел у Ильмень озера, в местечке, которое назвал Новый город. Вероятно, Ильмень покорил его своей красотой, кроме того, как варяг, он привык передвигаться по воде и жить у воды.
Уже через два года Синеус и Трувор умерли. Уже через два года недовольные правлением Рюрика новгородцы взбунтовались. О причинах бунта В.О.Ключевский пишет так: «Рюрик с братьями и дружиной были призваны в Новгород в качестве охранников для защиты горожан от набегов враждебных племен. За это «они получали определенный корм». Но вскоре, по-видимому, пожелали кормиться слишком сытно. Поднялся бунт среди плательщиков корма. Рюрик подавил бунтовщиков и, почувствовав свою силу, превратился из охранника в правителя. Многие новгородцы бежали на Днепр».
Тем временем племянники Рюрика Аскольд и Дир ушли из медвежьих ильменских мест на юг и на живописных берегах Днепра основали Киев. Здесь сам собой напрашивается вопрос: не для того ли прибыли варяги к славянам, чтобы с наименьшими потерями проложить речной путь в богатую Византию, так как сухопутный путь через Германию у них не получился? Является Ильмень озеро конечным пунктом их путешествия или уже по первоначальному замыслу берег озера был лишь постоялым двором для передышки и смены лошадей?
Варяги пришли, поселились, превратились в славян, а затем в православных славян. Новгородское и Псковское (Изборское) вече не варягами принесено на русскую землю, а существовало здесь у славян исстари, со времен свободолюбивого язычества.
Конец северорусского народоправства
При Калите под крылом Московского княжества нашли тишину и спокойствие Коломна, Можайск, Тверь, Звенигород, Руза, Серпухов, Владимир, Переяславль, другие города русские. Но решить новгородский вопрос Калита, ни сын его Симеон не смогли, хотя силу московскую свободный Новгород признавал и дань московскому князю и ордынскому хану не задерживал.
Даже до завоеваний Иоанна Великого понятие свободного Новгорода – это весьма условное понятие. В конце X века новгородцы добровольно признали правителем Киевского князя Ярополка. Заручившись поддержкой варягов, князь Владимир убил своего брата князя Ярополка и сел княжить в Киеве, повелевая также и Новгородом.
После крещения Киева Владимир учредил митрополию в Новгороде. Новгородцы подчинились. По свидетельству «Иоакимовской летописи», сопротивление новгородских язычников было, но киевляне его сломили: деревянных идолов сожгли, каменные сбросили в воду. После этого, как пишет Н.И.Костомаров. новгородцы стали «не совсем христианами и не совсем язычниками». Но Киеву подчинились.
Долгие годы новгородцы утверждали, что существовала некая грамота князя Ярослава Мудрого, которая давала Новгороду независимость. Никто из историков прошлого этой грамоты не видел. Но новгородцы настаивали, что она была и даже вечевую площадь назвали Ярославовым двором. С.М.Соловьев считает, что если грамота и была, то касалась она только финансовой, но не административной самостоятельности Новгорода, так как новгородские посадники назначались Киевом и подчинялись Киеву. Новгородцы могли выбирать князей. Но эти князья были сыновьями великих князей киевских и выполняли волю Киева.
В годы дотатарских междоусобиц в Новгороде царили не вече, а смута. Н.И.Костомаров пишет, что в иные времена в Новгороде было не одно, два вече: одно на Ярославом дворе, другое на Софийском дворе. Оба вече были враждебны друг другу. Какое из них представляло законодательное народное собрание Новгорода, сказать невозможно.
В период татаро-монгольского нашествия Новгородом управляли Владимирский князь Александр Невский, московский князь Юрий Данилович и другие. В 1328 году новгородцы поехали в Орду вместе с Калитой, привезли хану много пермского серебра, просили выдать ярлык Московскому князю, заверив, что будут признавать его первенство.
От великих потрясений Новгород оберегло географическое положение, ибо пройти через новгородские леса и болота татарская степная конница не могла. После падения Киева, Владимира, Суздали, Ростова относительная самостоятельность Новгорода в это тяжелое время была. Но преувеличивать роль Новгородского вечевого народоправства не следует.
В период правления в Москве Иоанна III авторитет в Новгороде приобрела вдова посадника Марфа Борецкая. В соответствии с нравами и обычаями восточных славян, женщины в делах гражданских не участвовали, силы не имели. При Марфе все перевернулось. Будучи женой богатого еврея Исаака Борецкого, она носила еврейское имя Марва, православие не любила, к славянам относилась презрительно. После смерти мужа объявила о намерении выйти замуж за литовского воеводу, обеспечить защиту Новгорода королем Литовским, освободить новгородцев от ненавистной власти Москвы. В 1470 году подарила Соловецкому монастырю одну из своих вотчин и приобрела поддержку духовенства.
Уставшие от бесконечных распрей новгородцы попали под влияние обладавшей ораторским искусством Марвы и встали на ее сторону. Не разобравшись в том, что лучше: власть Литвы или власть Москвы, многие новгородцы поверили ей. Однако многие остались на стороне православной Москвы. Половина города кричала на площадях: «Да исчезнет Москва! Хотим короля!». Половина города вопрошала: «Вы что замышляете? Руси и православию изменить? Хотим Великого князя Иоанна!»
Узнав о том, что происходит в Новгороде, Иоанн, проявляя мудрость и терпение, направил к горожанам своего посла передать следующие слова: «Когда вы бывали подданными Литвы? Ныне же раболепствуете иноверным, преступая священные обеты… Вы изменили мне: казнь Божия над вами! Но еще медлю, не любя кровопролития и готов миловать, если с раскаянием возвратитесь под сень отечества».
Увещевания остались бесполезными. Марва творила в городе, что хотела. Посоветовавшись с митрополитом, Иоанн призвал в Москву епископов, князей, бояр, воевод и открыл Боярскую Думу. Выслушав царя, Дума единогласно решила:
– Князь, возьми оружие в руки!
Иоанн решительно произнес:
– Да будет война!
23 мая 1471 года, узнав о договоре Новгорода и Литвы, царь официально объявил войну. Вместе с Москвой в поход на Новгород вышли Псков, Устюг, Вятка и другие земли.
Новгородское ополчение вышло из города и пошло навстречу московскому и псковскому войскам вдоль реки Шелони. В субботу, 13 июля новгородцы подошли к селению Сольцы и увидели на другом берегу реки противника. Утром следующего дня воевода Даниил Холмский приказал выстроить войска в боевой порядок, выехал вперед на коне и громко произнес:
– Господи Иисусе! Пособи нам, недостойным рабам твоим, над сими новыми отступниками и изменниками, восхотевшими покорить православную веру христианскую и приложиться к латинской ереси, латинскому королю и митрополиту.
Выслушав воеводу, каждый московский воин проникся мыслью о том, что идет в бой против нечестивых отступников, за веру, за государя, враги же противятся богу. Обе силы стояли на берегах реки и зло глядели друг на друга. Наконец, по приказу Холмского, московская рать с криком «Москва!» бросилась с высокого берега в Шелонь.
Новгородцы с криками «Святая София и Великий Новгород!» бросились навстречу. Москвичи не все переправились, и новгородцы начали их теснить. Но тут из засады выскочили союзники москвичей татары и начали рубить новгородцев с тыла.
Холмский приказал как можно чаще палить из ружей. Боевых коней новгородцы не имели. Все кони были оторваны от сельских работ и торговых перевозок, к ружейному грохоту и треску не приучены. Кони одурели от страха, взвились на дыбы, стали давить своих же. Задние ряды ударили в передние. Все смешалось. Ратники бросили щиты и сабли и побежали. Москвичи бежали за ними, догоняли и били копьями. Татары пронзали стрелами.
Вскоре весь берег Шелони оказался усеянным трупами новгородцев. Живые обезумели, бежали, куда глаза глядят, иногда прямо на своих врагов, на свою погибель. Некоторые подались в болота, где их засосало. Некоторые скрылись в ласах, но далеко уйти не смогли, полегли между деревьями и на полянах, истекая кровью. 12 000 новгородцев были убиты, 1600 взяты в плен и сдались. Все их знамена достались победителям.
До поздней ночи москвичи и татары гонялись за бегающими по окрестностям новгородцами, еще немало порубили и покололи. Наконец, выбившись из сил, уже затемно вернулись в лагерь и заснули крепким сном.
На следующий день Холмский приказал разбить войско на отряды. Отряды отправились по всей новгородчине жечь селения и истреблять людей. Все пожгли и всех побили вплоть до границы с Ливонией. Псковичи помогали москвичам ретиво. Запирали каждую сельскую семью в избе и сжигали живьем.
В захваченных обозах московские воеводы нашли договорную грамоту Новгорода и Литвы и доставили ее Московскому князю. Иоанн прочел предательский документ с гневом и негодованием: свобода переметнувшегося к Литве Новгорода оказалась липовой.
Другая весть Иоанна осчастливила. После победы выяснилось, что один новгородец по имени Упадыш тайно обожал Великого князя Московского. В ночь перед осадой города он забил железяками стволы 50 пушек. Потому они по москвичам и не стреляли. К сожалению, смельчака новгородцы поймали и казнили.
Холмский встретился с Великим Князем в Русе. Доложил о победе и представил связанных новгородских воевод. Иоанн укорил их в том, что отступили от православия и продались латинству. Четырех воевод приказал казнить смертью, пятьдесят воевод – заковать в оковы и отослать в Москву. 24 июля на главной площади Русы были отрублены головы сыну Марвы Борецкой Димитрию, другим предателям.
Узнав о битве на Шелони и казнях в Русе, новгородцы пришли в ужас, заперли в городе все ворота, попросили Литву о помощи и приготовились к осаде. Король литовский в помощи отказал. Московская рать приближалась. В Новгород набежало множество народа из сел. Пшеничный хлеб сильно подорожал, ржаной хлеб закончился. Городу стал угрожать еще и голод.
27 июля Великий Князь Московский встал под Новгородом и приготовился его полностью уничтожить, если не прибудут послы с повинной. Новгород одумался. Послы прибыли и молвили:
– Господин Великий Князь Иоанн Васильевич всея Руси, милостивый! Господа ради, помилуй виновных перед тобою людей Великого Новгорода, своей отчины! Покажи, господин, свое жалование, смилуйся над своей отчиной, уложи гнев и уйми меч, угаси огонь на земле и не порушай старины земли твоей, дай света видеть безответным людям твоим, смилуйся, как Бог положит тебе на сердце!