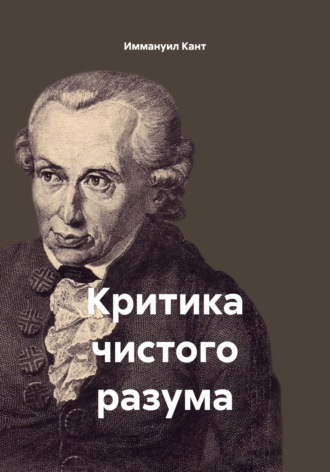
Полная версия
Критика чистого разума
2. Теодор Ойзерман
– Анализирует кантовскую критику догматизма: метафизика должна начинаться с критики познавательных способностей, а не с утверждений о бытии.
– Источник: Ойзерман Т. И. «Философия Канта как рациональная теология» (в сб. «Кант и философия в России», 1994).
3. Николай Лосский
– Сравнивает Канта с Платоном: если Платон ищет знание в идеях, то Кант – в условиях их данности.
– Источник: Лосский Н. О. «История русской философии» (1951).
4. Алексей Круглов
– Разбирает кантовское понятие априорного синтеза: математика возможна потому, что опирается на чистые созерцания (пространство и время).
– Источник: Круглов А. Н. «Трансцендентализм в философии Канта» (2018).
3. Рекомендации для изучения
– Основной текст: Кант И. «Критика чистого разума» (Предисловие ко второму изданию, Введение).
– Дополнительно:
– Гулыга А. В. «Кант» (1977) – хорошее введение в философию Канта.
– Cassirer E. «Kant’s Life and Thought» (1981) – классическая биография и анализ.
– Allison H. «Kant’s Transcendental Idealism» (2004) – о различии явлений и вещей в себе.
4. Проверочные вопросы
1. Почему Кант считает, что метафизика должна начинаться с критики разума?
2. В чём ошибка Платона, по мнению Канта?
3. Как математика связана с априорным знанием?
4. Чем аналитическое суждение отличается от синтетического?
5. Почему Кант сравнивает разум с «лёгким голубем»?
IV. О различии аналитических и синтетических суждений.Во всех суждениях, где рассматривается отношение подлежащего (субъекта) к сказуемому (предикату) (если ограничиться только утвердительными суждениями, так как применение к отрицательным впоследствии не составит труда), это отношение возможно в двух случаях.
1. Предикат B принадлежит подлежащему A как нечто, уже (скрытым образом) содержащееся в этом понятии A.
2. Предикат B полностью лежит вне понятия A, хотя и связан с ним.
В первом случае я называю суждение аналитическим, во втором – синтетическим.
Таким образом, аналитические суждения (утвердительные) – это те, в которых связь предиката с подлежащим мыслится через тождество, тогда как те суждения, в которых эта связь устанавливается без тождества, следует называть синтетическими.
Первые можно также назвать поясняющими, а вторые – расширяющими, потому что в аналитических суждениях предикат ничего не добавляет к понятию подлежащего, а лишь расчленяет его на составные части, которые уже (хотя и смутно) мыслились в нём. Напротив, синтетические суждения прибавляют к понятию подлежащего предикат, который вовсе не содержался в нём и не мог бы быть извлечён никаким анализом.
Пример аналитического суждения:
«Все тела протяжённы».
Это суждение аналитическое, потому что мне не нужно выходить за пределы понятия «тело», чтобы найти связанную с ним «протяжённость». Мне достаточно разложить это понятие, то есть осознать многообразные признаки, которые я всегда в нём мыслил, чтобы обнаружить в нём данный предикат.
Пример синтетического суждения:
«Все тела имеют тяжесть».
Здесь предикат («тяжесть») – нечто совершенно иное, чем то, что я мыслил в простом понятии «тело». Добавление такого предиката даёт синтетическое суждение.
Опытные суждения всегда синтетические.
Все опытные суждения как таковые синтетичны. Ибо было бы нелепо основывать аналитическое суждение на опыте, так как для его составления мне не нужно выходить за пределы своего понятия, а значит, свидетельство опыта здесь излишне.
Например, суждение «Тело протяжённо» установлено априори и не является опытным. Прежде чем обратиться к опыту, я уже имею в понятии «тело» все условия для этого суждения и могу извлечь предикат «протяжённость» по закону противоречия, одновременно осознавая необходимость этого суждения – чего опыт мне никогда не дал бы.
Напротив, хотя в понятии «тело» вообще не содержится предикат «тяжесть», это понятие обозначает предмет опыта через одну из его характеристик, к которой я могу добавить и другие, принадлежащие тому же опыту.
Сначала я могу аналитически познать понятие «тело» через признаки «протяжённости», «непроницаемости», «формы» и т. д., которые все в нём содержатся. Но затем я расширяю своё знание: обращаясь к опыту, из которого я извлёк это понятие, я обнаруживаю, что «тяжесть» всегда связана с указанными признаками, и потому синтетически добавляю её как предикат к понятию «тело».
Таким образом, возможность синтеза предиката «тяжесть» с понятием «тело» основывается на опыте, потому что оба понятия, хотя одно не содержится в другом, всё же принадлежат друг другу как части целого – а именно, опыта, который сам есть синтетическая связь созерцаний (хотя и случайная).
Синтетические априорные суждения.
Но в синтетических априорных суждениях этот вспомогательный источник (опыт) отсутствует. Если я должен выйти за пределы понятия A, чтобы познать другой признак B как связанный с ним, то на что же я опираюсь и что делает этот синтез возможным? Ведь здесь у меня нет преимущества – искать подсказку в области опыта.
Возьмём суждение:
«Всё, что происходит, имеет свою причину».
В понятии «нечто, что происходит» я действительно мыслил существование, которому предшествует время и т. д., и из этого можно извлечь аналитические суждения. Но понятие причины лежит вовне этого понятия и означает нечто отличное от «происходящего», а потому не содержится в последнем представлении.
Как же я прихожу к тому, чтобы утверждать о «происходящем» нечто совершенно иное и – хотя понятие «причины» не содержится в нём – всё же познавать его как необходимо связанное с ним?
Что это за неизвестное = X, на которое опирается рассудок, когда, выходя за пределы понятия A, он полагает, что нашёл чуждое ему предикат B, который, однако, считает с ним связанным?
Опыт не может быть этим X, потому что приведённый принцип («всё, что происходит, имеет причину») не только обладает большей всеобщностью, но и выражает необходимость, а значит, полностью априорен и добавляет второе представление («причина») к первому («происходящее») из одних лишь понятий.
Значение синтетических априорных суждений
На таких синтетических (то есть расширяющих) принципах основывается вся конечная цель нашего спекулятивного априорного знания.
Аналитические суждения, конечно, чрезвычайно важны и необходимы, но лишь для достижения ясности понятий, которая требуется для уверенного и широкого синтеза – то есть для действительного приобретения нового знания.
Комментарии кантоведов к разделу об аналитических и синтетических суждениях.
1. Отечественные исследователи.
А. Н. Круглов (Россия).
В своей работе «Кант и современная эпистемология» (М.: Канон+, 2018) Круглов подчёркивает, что различие аналитических и синтетических суждений у Канта не просто логическое, а трансцендентальное. Оно связано с вопросом о возможности априорного синтетического знания.
– Рекомендация: Обратите внимание на то, как Кант связывает аналитические суждения с законом противоречия, а синтетические – с возможностью расширения знания.
– Проверочный вопрос: Почему Кант считает, что аналитические суждения не расширяют знание, а лишь проясняют его?
В. А. Жучков (Россия).
В «Немецкой классической философии» (М.: Высшая школа, 2003) Жучков отмечает, что пример Канта с «тяжестью тел» неоднозначен, поскольку в современной физике масса и вес различаются.
– Рекомендация: Сравните кантовское понимание «тяжести» с современными физическими концепциями.
– Проверочный вопрос: Можно ли считать суждение «Все тела имеют массу» аналитическим с точки зрения Канта?
2. Зарубежные исследователи.
П. Ф. Стросон (Великобритания).
В «The Bounds of Sense» (1966) Стросон критикует кантовское различение, утверждая, что граница между аналитическими и синтетическими суждениями не всегда ясна (например, в случае математических истин).
– Рекомендация: Проанализируйте, насколько строго Кант разделяет эти типы суждений.
– Проверочный вопрос: Может ли математическое суждение (например, «7 + 5 = 12») быть аналитическим?
Г. Э. Эллисон (США).
В «Kant’s Transcendental Idealism» (1983) Эллисон подчёркивает, что синтетические априорные суждения возможны благодаря структурам рассудка (категориям) и формам чувственности (пространству и времени).
– Рекомендация: Изучите связь между синтетическими априорными суждениями и кантовской теорией познания.
– Проверочный вопрос: Как Кант объясняет необходимость причинности в природе?
3. Ключевые вопросы для самопроверки.
1. В чём разница между поясняющими и расширяющими суждениями?
2. Почему Кант считает, что все опытные суждения синтетичны?
3. Как объясняется возможность синтетических априорных суждений?
4. Какие возражения выдвигали критики против кантовского разделения?
Библиография.
– Кант И. Критика чистого разума (1781/1787).
– Круглов А. Н. Кант и современная эпистемология (2018).
– Strawson P. F. The Bounds of Sense (1966).
– Allison H. E. Kant’s Transcendental Idealism (1983).
V. Во всех теоретических науках разума содержатся синтетические априорные суждения как принципы.1. Все математические суждения являются синтетическими. Это утверждение, по-видимому, до сих пор ускользало от внимания исследователей человеческого разума и даже противоречит всем их предположениям, хотя оно неопровержимо достоверно и в дальнейшем окажется весьма важным. Поскольку обнаружили, что выводы математиков всегда следуют закону противоречия (что требуется природой всякой аподиктической достоверности), то убедили себя, будто и сами принципы познаются из закона противоречия. Здесь они ошибались: синтетическое суждение действительно можно осознать через закон противоречия, но лишь при условии, что предполагается другое синтетическое суждение, из которого оно может быть выведено, – однако никогда само по себе.
Прежде всего следует заметить, что собственно математические положения всегда суть априорные, а не эмпирические суждения, так как они обладают необходимостью, которую нельзя извлечь из опыта. Если же кто-то не хочет этого признать, что ж, я ограничу свой тезис чистой математикой, само понятие которой уже подразумевает, что она содержит не эмпирическое, а лишь чистое априорное знание.
Поначалу можно подумать, что положение «7 + 5 = 12» – чисто аналитическое, вытекающее из понятия суммы семи и пяти согласно закону противоречия. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что понятие суммы 7 и 5 содержит лишь объединение двух чисел в одно, причем вовсе не мыслится, какое именно это число, охватывающее оба слагаемых. Понятие двенадцати никоим образом не содержится в простом представлении этого объединения семи и пяти, и сколько бы я ни анализировал свое понятие такой возможной суммы, я не найду в нем двенадцати. Необходимо выйти за пределы этих понятий, прибегнув к помощи наглядного представления, соответствующего одному из них, – например, пяти пальцев или (как у Зегнера в его арифметике) пяти точек, – и постепенно присоединить единицы данного в наглядном представлении числа пять к понятию семи. Ведь я сначала беру число 7 и, используя пальцы руки как наглядное представление для понятия 5, присоединяю к образу семерки поочередно единицы, которые прежде объединил для составления числа 5, и тогда вижу, как возникает число 12. То, что 7 и 5 следует сложить, я, конечно, мыслил в понятии суммы = 7 + 5, но не то, что эта сумма равна числу 12. Следовательно, арифметическое положение всегда синтетично, что становится еще очевиднее при взятии бóльших чисел: тогда ясно видно, что, как бы мы ни изворачивали наши понятия, мы никогда не найдем сумму путем одного лишь их анализа, не прибегая к наглядному представлению.
Точно так же ни один принцип чистой геометрии не является аналитическим. Положение «Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками» – синтетическое, ибо мое понятие прямого содержит нечто о качестве, но ничего о величине. Понятие кратчайшего полностью добавляется извне и не может быть извлечено из понятия прямой линии никаким анализом. Здесь необходимо привлечь наглядное представление, посредством которого только и возможен синтез.
Некоторые немногие положения, которые геометры предполагают, действительно аналитичны и основываются на законе противоречия, но они служат лишь, как тождественные положения, для связи метода, а не в качестве принципов. Например, «a = a» (целое равно самому себе), или «(a + b) > a» (целое больше своей части). Хотя эти положения значимы уже по одним понятиям, они допускаются в математике лишь потому, что могут быть представлены в наглядном созерцании.
То, что обычно заставляет нас думать, будто предикат таких аподиктических суждений уже содержится в нашем понятии и потому суждение аналитично, – это просто двусмысленность выражения. Нам велят присоединить к данному понятию определенный предикат, и эта необходимость уже заложена в самих понятиях. Но вопрос не в том, что мы должны добавить к данному понятию, а в том, что мы действительно мыслим в нем, хотя бы и смутно. И тогда оказывается, что предикат хотя и необходимо связан с этими понятиями, но мыслится не в них самих, а при помощи наглядного представления, которое должно быть присоединено к понятию.
2. Естествознание (физика) содержит в себе синтетические априорные суждения как принципы. Приведу лишь несколько примеров: «При всех изменениях телесного мира количество материи остается неизменным» или «При всякой передаче движения действие и противодействие всегда должны быть равны». В обоих случаях очевидна не только их необходимость, а значит, априорное происхождение, но и то, что они синтетичны. Ведь в понятии материи я не мыслю ее постоянства, а лишь ее присутствие в пространстве через заполнение его. Следовательно, я действительно выхожу за пределы понятия материи, чтобы присоединить к нему априорно то, что в нем не мыслилось. Таким образом, положение не аналитическое, а синтетическое, и тем не менее мыслится априори – как и остальные положения чистой части естествознания.
3. В метафизике – даже если рассматривать ее лишь как науку, до сих пор лишь пытающуюся состояться, но все же необходимую по природе человеческого разума – должны содержаться синтетические априорные познания. Ее задача вовсе не в том, чтобы аналитически разлагать априорные понятия, которые мы составляем о вещах, и тем самым давать их объяснение, а в том, чтобы расширять наше априорное знание. Для этого мы должны пользоваться такими принципами, которые добавляют к данному понятию нечто в нем не содержавшееся, и посредством синтетических априорных суждений заходить так далеко, что сам опыт не может следовать за ними. Например: «Мир должен иметь начало во времени» и т. п. Таким образом, метафизика – по крайней мере по своему назначению – состоит исключительно из синтетических априорных положений.
Комментарии кантоведов к разделу V.
1. Синтетические априорные суждения в математике
Ключевой тезис Канта: Математические суждения (арифметика и геометрия) синтетичны, но априорны, поскольку требуют обращения к чистому созерцанию (пространству и времени), а не только к логическому анализу.
Комментарии кантоведов:
– Генрих Шольц (нем. философ и логик) подчеркивает, что Кант радикально переосмыслил природу математического знания, показав, что оно не сводится к аналитическим тавтологиям (Mathesis Universalis, 1930).
– Льюис Уайт Бек (амер. кантовед) отмечает, что пример с «7 + 5 = 12» демонстрирует необходимость временного синтеза в арифметике (Kant’s Theory of Definition, 1956).
– Эрнст Кассирер указывает, что кантовский синтетический априоризм в геометрии стал проблемой после появления неевклидовых систем (Проблема познания в философии и науке, 1906).
– П.Д. Юркевич (рус. философ) критиковал Канта за субъективизацию математики, утверждая, что её истины онтологичны (Идея, 1859).
Проверочные вопросы:
1. Почему Кант считает, что «7 + 5 = 12» – синтетическое суждение?
2. Какую роль играет наглядное представление в кантовской теории математики?
3. В чем слабость кантовского подхода с точки зрения современной логики?
2. Синтетические априорные суждения в естествознании
Тезис Канта: Физика опирается на априорные принципы (напр., сохранение материи), которые синтетичны, так как расширяют знание, но не выводятся из опыта.
Комментарии:
– Майкл Фридман (амер. философ науки) показывает, что кантовские принципы физики близки к «конститутивным правилам» научного метода (Kant and the Exact Sciences, 1992).
– Бертран Рассел критиковал Канта за смешение логической и эпистемологической необходимости (История западной философии, 1945).
– С.Л. Рубинштейн (сов. психолог) отмечал, что Кант недооценил роль практики в формировании научных понятий (Бытие и сознание, 1957).
Проверочные вопросы:
1. Почему закон сохранения материи – синтетическое априорное суждение?
2. Как Кант объясняет необходимость физических законов?
3. Совместим ли кантовский подход с современной квантовой механикой?
3. Синтетические априорные суждения в метафизике
Тезис Канта: Метафизика возможна только как критика разума, выявляющая априорные условия познания.
Комментарии:
– Мартин Хайдеггер видел в Канте переход от метафизики бытия к метафизике субъекта (Кант и проблема метафизики, 1929).
– И.А. Ильин (рус. философ) критиковал Канта за отрицание интеллектуальной интуиции (Учение Канта о вещи в себе, 1914).
– Поль Рикёр подчеркивал, что кантовская метафизика – это «философия предела» (Кант и Гуссерль, 1967).
Проверочные вопросы:
1. Почему метафизика, по Канту, не может быть аналитической?
2. Как соотносятся синтетические априорные суждения и «вещь в себе»?
3. Можно ли считать кантовскую метафизику научной?
Рекомендуемая литература
1. Кант И. Критика чистого разума (1781/1787).
2. Cassirer E. Kant’s Life and Thought (1918).
3. Guyer P. Kant and the Claims of Knowledge (1987).
4. Круглов А.Н. Кант и современная философия науки (2020).
5. Делез Ж. Критическая философия Канта (1963).
Итоговый вопрос: Согласны ли вы с кантовским разделением аналитических и синтетических суждений? Аргументируйте.
VI. Общая задача чистого разумаУже очень многое приобретается, если удаётся свести множество исследований к формуле единой задачи. Тем самым не только облегчается собственное дело, поскольку оно точно определяется, но и каждому другому, кто пожелает проверить его, становится легче судить, достигли ли мы своей цели или нет. Истинная задача чистого разума заключена в следующем вопросе: Как возможны синтетические суждения a priori?
То, что метафизика до сих пор пребывала в столь шатком состоянии неопределённости и противоречий, объясняется исключительно тем, что эту задачу – а возможно, даже различие между аналитическими и синтетическими суждениями – не ставили заранее. От решения этой задачи или от удовлетворительного доказательства того, что требуемая ею возможность вообще не существует, зависит судьба метафизики. Дэвид Юм, из всех философов ближе всех подошедший к этой задаче, однако не мысливший её с достаточной определённостью и во всей её общности, а остановившийся лишь на синтетическом положении о связи действия с его причиной (принцип причинности), полагал, что такое априорное положение совершенно невозможно. Согласно его выводам, всё, что мы называем метафизикой, сводится к иллюзии мнимого разумного познания того, что на самом деле заимствовано из опыта и лишь благодаря привычке приобрело видимость необходимости. К этому утверждению, разрушающему всю чистую философию, он никогда бы не пришёл, если бы рассматривал нашу задачу во всей её общности. Тогда он увидел бы, что по его логике не могло бы существовать и чистой математики, поскольку она несомненно содержит синтетические суждения a priori. От такого вывода его, вероятно, удержал бы здравый смысл.
В решении указанной задачи одновременно заключена возможность чистого применения разума для обоснования и построения всех наук, содержащих теоретическое априорное знание о предметах, то есть ответ на вопросы:
Как возможна чистая математика?
Как возможна чистая наука о природе?
Поскольку эти науки действительно существуют, уместно спросить, как они возможны, ибо то, что они должны быть возможны, доказывается их реальностью. Однако что касается метафизики, то её прежние неудачи и то, что ни одну из предложенных до сих пор систем (в части их главной цели) нельзя признать действительно существующей, дают всем основание сомневаться в её возможности.
Относительно чистой науки о природе некоторые могут усомниться в последнем утверждении. Но стоит лишь рассмотреть различные положения, встречающиеся в начале настоящей (эмпирической) физики, такие как принцип сохранения количества материи, инерции, равенства действия и противодействия и т. д., и станет ясно, что они составляют physicam puram (или рациональную физику), которая заслуживает выделения в качестве самостоятельной науки, будь то в узком или широком, но полном объёме.
Тем не менее, этот род познания в определённом смысле можно считать данным, и метафизика, пусть не как наука, но как естественная склонность (metaphysica naturalis), действительно существует. Человеческий разум, движимый внутренней потребностью, а не тщеславием всезнания, неудержимо стремится к вопросам, которые не могут быть разрешены никаким эмпирическим применением разума или заимствованными принципами. Таким образом, у всех людей, как только их разум достигает уровня спекуляции, всегда была и будет какая-либо метафизика. Отсюда возникает и вопрос:
– Как возможна метафизика как естественная склонность?
То есть: как возникают вопросы, которые чистый разум ставит перед собой и на которые, движимый собственной потребностью, пытается ответить, исходя из природы общечеловеческого разума?
Но поскольку во всех прежних попытках ответить на эти естественные вопросы (например, имеет ли мир начало или существует от вечности и т. д.) неизбежно обнаруживались противоречия, нельзя ограничиваться одной лишь естественной склонностью к метафизике, то есть чистым разумом, из которого, конечно, всегда вырастает какая-либо метафизика (какой бы она ни была). Напротив, необходимо достичь достоверности – либо в знании, либо в незнании предметов, то либо в решении вопросов о них, либо в определении способности или неспособности разума судить о них. Таким образом, требуется либо достоверно расширить наш чистый разум, либо установить ему чёткие и непреложные границы. Последний вопрос, вытекающий из общей задачи, справедливо можно сформулировать так:
– Как возможна метафизика как наука?
Критика разума, следовательно, неизбежно ведёт к науке, тогда как догматическое применение разума без критики приводит к беспочвенным утверждениям, которым можно противопоставить столь же правдоподобные, а значит – к скептицизму.
Эта наука не может быть чрезмерно сложной и запутанной, поскольку имеет дело не с объектами разума, чьё многообразие бесконечно, а только с самим собой, с задачами, которые целиком возникают из его недр и предлагаются не природой вещей, от него отличных, а его собственной природой. Поэтому, если разум предварительно полностью познает свою собственную способность в отношении предметов, которые могут встретиться ему в опыте, то ему должно быть нетрудно точно и надёжно определить пределы и границы своего применения за пределами всякого опыта.
Таким образом, можно и должно считать все прежние попытки догматического построения метафизики несостоявшимися. Ведь то, что в них есть аналитического (то есть простого разложения понятий, присущих нашему разуму a priori), вовсе не является целью, а лишь подготовкой к подлинной метафизике, а именно – к синтетическому расширению априорного знания. Но для этого анализ непригоден, поскольку показывает лишь то, что содержится в этих понятиях, а не то, как мы приходим к ним a priori, чтобы затем определить их действительное применение в отношении объектов всякого познания вообще.
Отказаться от всех этих притязаний нетрудно, ибо неоспоримые и при догматическом подходе неизбежные противоречия разума с самим собой уже давно лишили всякую прежнюю метафизику её авторитета. Гораздо больше твёрдости потребуется, чтобы, несмотря на внутренние трудности и внешнее сопротивление, не отказаться от науки, необходимой человеческому разуму – науки, у которой можно срубить любой выросший ствол, но нельзя искоренить сам корень. Лишь благодаря подходу, совершенно противоположному прежнему, можно в конце концов добиться её здорового и плодотворного роста.
Комментарии кантоведов к разделу VI.
1. Интерпретация синтетических суждений a priori









