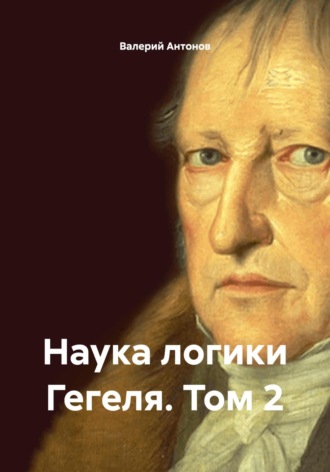
Полная версия
Наука логики Гегеля. Том 2
Что касается этой попытки, то, собственно, нельзя позволить себе оправдываться; но относительно её исполнения я могу ещё упомянуть в своё оправдание, что мои служебные обязанности и другие личные обстоятельства позволяют мне заниматься этой наукой лишь урывками, тогда как она требует и заслуживает сосредоточенного и непрерывного усилия.
Нюрнберг, 21 июля 1816 г.
Содержание раздела: Субъективная логика, или Учение о понятии.Эта часть "Науки логики" Гегеля посвящена учению о понятии и завершает систему логики. Она также издавалась отдельно под названием "Система субъективной логики" – для тех, кто больше интересуется традиционными вопросами логики (как в обычных учебниках), чем более сложными метафизическими проблемами, рассмотренными в первых двух частях.
Трудности работы с понятием.
В предыдущих разделах логики Гегель мог рассчитывать на снисхождение читателей, поскольку там не было готовых предшествующих исследований, которые могли бы служить опорой. Здесь же ситуация обратная: материал о понятии существует, но он окостенел, превратился в сухую схему. Задача теперь – не строить новое на пустом месте, а оживить уже существующее, преодолеть застывшие формы и вернуть понятию его динамическую природу.
Это похоже на перестройку старого города: материала много, но приходится сталкиваться с сопротивлением устоявшихся структур и отказываться от многого, что раньше считалось ценным.
Истина как высшая цель.
Главное оправдание возможных недостатков изложения – величие самого предмета. Что может быть важнее для познания, чем истина? Однако вопрос Пилата "Что есть истина?" звучит сегодня с иронией: многие считают, что истина недостижима, а её поиски – устаревшее занятие.
Но если в религии и морали вновь поднимаются вопросы о ценности и смысле, то почему философия не может вернуться к своей изначальной задаче – поиску истины? После периода, когда она опустилась до уровня обычных наук, пришло время вновь возвысить её значение.
Оправдание автора.
Гегель признаёт, что его работа могла бы быть лучше, но объясняет возможные недостатки нехваткой времени: из-за служебных обязанностей и личных обстоятельств он вынужден был работать урывками, тогда как такая наука требует непрерывного и глубокого сосредоточения.
Нюрнберг, 21 июля 1816 г.
Проверочные вопросы.
1. Чем субъективная логика отличается от предыдущих частей "Науки логики"?
2. Почему Гегель сравнивает работу над понятием с перестройкой старого города?
3. Как автор объясняет возможные недостатки своего изложения?
4. Какое значение имеет вопрос Пилата "Что есть истина?" для понимания задач логики?
5. Почему, по мнению Гегеля, философия должна вновь обратиться к поиску истины?
Введение
«О понятии вообще».
Не пытайтесь "проглотить" много за один раз. Лучше 5 страниц с пониманием, чем 20 без осмысления.
То, что представляет собой природу понятия, так же мало может быть указано непосредственно, как и понятие любого другого предмета может быть непосредственно установлено. Может показаться, что для указания понятия предмета уже предполагается логическое, и, следовательно, оно само не может иметь впереди себя нечто другое, не может быть производным, подобно тому как в геометрии логические положения, применяемые к величине и используемые в этой науке, выступают в форме аксиом – невыводимых и недоказуемых определений познания. Хотя понятие следует рассматривать не только как субъективное предположение, но и как абсолютную основу, оно может быть таковым лишь постольку, поскольку само сделало себя основой. Абстрактно-непосредственное, конечно, есть первое; но как это абстрактное оно, скорее, есть опосредствованное, у которого, если его следует постичь в его истине, сначала нужно искать его основу. Эта основа, таким образом, должна быть, конечно, непосредственной, но так, что она сделала себя непосредственным через снятие опосредствования.
Понятие с этой стороны следует прежде всего вообще рассматривать как третье по отношению к бытию и сущности, к непосредственному и рефлексии. Бытие и сущность суть моменты его становления; но оно – их основа и истина как тождество, в котором они исчезли и содержатся. Они содержатся в нём, поскольку оно есть их результат, но уже не как бытие и сущность; это определение они имеют лишь постольку, поскольку ещё не вернулись в это своё единство.
Объективная логика, рассматривающая бытие и сущность, составляет, таким образом, собственно генетическое изложение понятия. Более конкретно, субстанция есть уже реальная сущность, или сущность, поскольку она соединена с бытием и вступила в действительность. Поэтому понятие имеет субстанцию своей непосредственной предпосылкой; она есть в-себе-бытие того, что понятие есть как проявленное. Диалектическое движение субстанции через причинность и взаимодействие есть, следовательно, непосредственное становление понятия, через которое изображается его возникновение. Но его становление, как и всякое становление, имеет тот смысл, что оно есть рефлексия переходящего в своё основание, и что то, что сначала кажется другим, в которое перешло первое, составляет его истину. Таким образом, понятие есть истина субстанции, и поскольку определённый способ отношения субстанции есть необходимость, свобода проявляется как истина необходимости и как способ отношения понятия.
Собственное, необходимое дальнейшее определение субстанции есть полагание того, что есть в-себе-и-для-себя-бытие; понятие же есть эта абсолютная тождественность бытия и рефлексии, так что в-себе-и-для-себя-бытие есть лишь постольку, поскольку оно столь же есть рефлексия или положенность, и поскольку положенность есть в-себе-и-для-себя-бытие. – Этот абстрактный результат поясняется через изложение его конкретного становления; оно содержит природу понятия; но оно должно предшествовать его рассмотрению. Главные моменты этого изложения (которое подробно рассмотрено во второй книге объективной логики) здесь следует кратко объединить:
Субстанция есть абсолютное, в-себе-и-для-себя-сущее действительное; в себе – как простая тождественность возможности и действительности, абсолютная сущность, содержащая в себе всю действительность и возможность; для себя – эта тождественность как абсолютная мощь или просто относящаяся к себе отрицательность. – Движение субстанциальности, положенное через эти моменты, состоит в следующем:
1. Субстанция как абсолютная мощь или относящаяся к себе отрицательность различает себя в отношение, в котором те сначала суть лишь простые моменты – как субстанции и как первоначальные предпосылки. Определённое отношение их есть отношение пассивной субстанции – первоначальности простого в-себе-бытия, которое, бессильное, не полагающее себя, есть лишь первоначальная положенность, – и активной субстанции относящейся к себе отрицательности, которая как таковая положила себя как иное и относится к этому иному. Это иное есть как раз пассивная субстанция, которую она в первоначальности своей мощи предположила себе как условие. Это предположение следует понимать так, что движение субстанции само сначала находится под формой одного из моментов её понятия – в-себе-бытия, что определённость одной из субстанций, стоящих в отношении, есть также определённость самого этого отношения.
2. Другой момент есть для-себя-бытие, или то, что мощь полагает себя как относящуюся к себе отрицательность, благодаря чему она снимает предположенное. – Активная субстанция есть причина; она действует; это значит, что она теперь есть полагание, подобно тому как раньше она была предположением, а) Мощи даётся также видимость мощи, положенности – видимость положенности. То, что в предположении было первоначальным, становится в причинности через отношение к иному тем, что оно есть в себе; причина производит действие, и именно в другой субстанции; она теперь есть мощь в отношении к иному; она выступает как причина, но становится ею лишь через это выступление. – К пассивной субстанции приходит действие, благодаря которому она как положенность теперь также выступает, но лишь в этом есть пассивная субстанция.
3. Но здесь есть ещё больше, чем просто это явление; а именно:
a) Причина действует на пассивную субстанцию; она изменяет её определённость; но эта определённость есть положенность, иначе в ней нечего изменять; другая же определённость, которую она получает, есть причинность; пассивная субстанция становится, таким образом, причиной, мощью и деятельностью.
b) На ней полагается действие причиной; но то, что положено причиной, есть сама причина, тождественная с собой в действии; это она, которая ставит себя на место пассивных субстанций. – Точно так же в отношении активной субстанции:
a) Действие есть перевод причины в действие, в её иное, положенность, и
b) В действии причина проявляется как то, что она есть; действие тождественно с причиной, а не есть иное; причина, таким образом, в действии показывает положенность как то, что она есть по существу. – Таким образом, с обеих сторон – как тождественного, так и отрицательного отношения другого к ней – каждая становится противоположностью самой себе; но это противоположное каждая становится так, что другая, а значит, и каждая, остаётся тождественной с собой. – Однако и то, и другое – тождественное и отрицательное отношение – есть одно и то же; субстанция лишь в своём противоположном тождественна с собой, и это составляет абсолютную тождественность положенных как две субстанций. Активная субстанция через действие, то есть полагая себя как противоположность самой себе, что в то же время есть снятие её предположенного инобытия – пассивной субстанции, проявляется как причина или первоначальная субстанциальность. Наоборот, через воздействие положенность как положенность, отрицательное как отрицательное, а значит, пассивная субстанция как относящаяся к себе отрицательность, проявляется; и причина в этом ином самой себя просто совпадает с собой. Через это полагание предположенная или в-себе-бытийная первоначальность становится для-себя-бытием; но это в-себе-и-для-себя-бытие есть лишь постольку, поскольку это полагание столь же есть снятие предположенного, или абсолютная субстанция лишь из и в своей положенности возвратилась к самой себе и тем самым абсолютна. Это взаимодействие есть, таким образом, снимающее себя явление; откровение видимости причинности, в которой причина как причина есть то, что она – видимость. Эта бесконечная рефлексия в себя, что в-себе-и-для-себя-бытие есть лишь постольку, поскольку оно есть положенность, есть завершённость субстанции. Но эта завершённость есть уже не сама субстанция, а есть нечто высшее – понятие, субъект. Переход отношения субстанциальности происходит через его собственную имманентную необходимость и есть не что иное, как проявление её самой, что понятие есть её истина, а свобода – истина необходимости.
Уже ранее, во второй книге объективной логики (с. 194 и след., прим.), было отмечено, что философия, которая становится на точку зрения субстанции и остаётся на ней, есть система Спинозы. Там же был указан недостаток этой системы как по форме, так и по содержанию. Но другое дело – её опровержение. Относительно опровержения философской системы уже в другом месте было сделано общее замечание, что из него следует изгнать ложное представление, будто система должна быть изображена как совершенно ложная, и будто истинная система, напротив, только противоположна ложной. Из связи, в которой здесь выступает спинозовская система, сам собой вытекает её истинный пункт зрения и вопрос, истинна она или ложна. Отношение субстанциальности возникло из природы сущности; это отношение, как и его развёрнутое в систему целое, есть, следовательно, необходимая точка зрения, на которую становится абсолютное. Такой пункт зрения не следует поэтому рассматривать как мнение, субъективный, произвольный способ представления и мышления индивида, как заблуждение спекуляции; последняя, напротив, необходимо находит себя поставленной на него на своём пути, и в этом смысле система совершенно истинна. – Но это не есть высшая точка зрения. Однако лишь постольку система не может рассматриваться как ложная, нуждающаяся и способная к опровержению; ложным в ней следует считать только то, что она есть высшая точка зрения. Истинная система, следовательно, не может также находиться в отношении к ней только как противоположная; ибо тогда это противоположное само было бы односторонним. Напротив, как высшее, она должна содержать в себе подчинённое.
Опровержение не обязательно должно приходить извне, то есть исходить не из предпосылок, лежащих вне данной системы и не соответствующих ей. Ей достаточно просто не признавать эти предпосылки; недостаток существует лишь для того, кто исходит из основанных на них потребностей и требований. В этом смысле было сказано, что для того, кто не предполагает заранее решенным вопрос о свободе и самостоятельности самосознающего субъекта, не может существовать опровержения спинозизма. Более того, столь высокая и внутренне богатая позиция, как отношение субстанциальности, не игнорирует эти предпосылки, но включает их в себя: одним из атрибутов субстанции Спинозы является мышление. Напротив, она способна снять и вобрать в себя определения, при которых эти предпосылки ей противоречат, так что они проявляются в ней же, но в соответствующих ей модификациях. Нерв внешнего опровержения заключается лишь в том, чтобы упорно держаться за противоположные формы этих предпосылок, например, за абсолютное самостоятельное существование мыслящего индивида против формы мышления, как оно в абсолютной субстанции отождествляется с протяжением.
Истинное опровержение должно войти в силу противника и встать в круг его мощи; атаковать его вне его самого и добиваться правоты там, где его нет, не продвигает дело. Единственное опровержение спинозизма может, таким образом, состоять лишь в том, чтобы сначала признать его позицию существенной и необходимой, а затем возвысить ее из нее самой на более высокую ступень. Отношение субстанциальности, рассматриваемое исключительно в себе и для себя, переходит в свою противоположность – в понятие. Изложение субстанции в последней книге, которое ведет к понятию, и есть поэтому единственное и истинное опровержение спинозизма. Это раскрытие субстанции, и она есть генезис понятия, основные моменты которого были собраны выше.
Единство субстанции есть ее отношение необходимости; но так она есть лишь внутренняя необходимость; когда она полагает себя через момент абсолютной негативности, она становится проявленным или положенным тождеством, а тем самым свободой, которая есть тождество понятия. Понятие, тотальная целостность, возникающая из взаимодействия, есть единство двух субстанций взаимодействия, но теперь они принадлежат свободе, поскольку их тождество больше не слепо, то есть внутренне, но они по сути имеют определение быть видимостью или моментами рефлексии, благодаря чему каждая непосредственно соединена со своим иным или своим положенным бытием, и каждая содержит свое положенное бытие в себе самой, так что в своем ином она положена как абсолютно тождественная с собой.
В понятии, таким образом, открылось царство свободы. Оно свободно, потому что тождество, которое составляет необходимость субстанции, одновременно есть снятое или положенное бытие, и это положенное бытие, как относящееся к себе самому, есть именно то тождество. Темнота субстанций, находящихся в отношении причинности друг к другу, исчезла, ибо их изначальное самостоятельное бытие перешло в положенность и тем самым стало прозрачной ясностью для себя самой; изначальная вещь есть таковая лишь потому, что она есть причина самой себя, а это и есть субстанция, освобожденная в понятие.
Отсюда для понятия сразу следует более конкретное определение. Поскольку бытие-в-себе-и-для-себя непосредственно есть положенность, понятие в своем простом отношении к себе есть абсолютная определенность, которая, однако, как относящаяся только к себе, есть простая тождественность. Но это отношение определенности к себе, как совпадение с собой, есть в той же мере отрицание определенности, и понятие как эта равенство с собой есть всеобщее. Однако эта тождественность столь же имеет определение негативности; она есть отрицание или определенность, относящаяся к себе, и потому понятие есть единичное. Каждое из них есть тотальность, каждое содержит в себе определение другого, и потому эти тотальности столь же абсолютно суть одно, как и это единство есть различение себя в свободную видимость этой двойственности – двойственности, которая в различии единичного и всеобщего предстает как совершенная противоположность, но которая есть лишь видимость, так что, когда одно постигается и высказывается, в этом уже непосредственно содержится и выражается другое.
Изложенное выше следует рассматривать как понятие понятия. Если оно может казаться отличным от того, что обычно понимают под понятием, можно потребовать, чтобы было показано, как то, что здесь раскрылось как понятие, содержится в других представлениях или объяснениях. Однако, с одной стороны, речь не может идти о подтверждении, основанном на авторитете обыденного понимания; в науке о понятии его содержание и определение могут быть обоснованы лишь имманентной дедукцией, которая содержит его генезис и которая уже осталась позади. С другой стороны, в том, что обычно выдается за понятие понятия, должно быть узнаваемо дедуцированное здесь. Но не так легко найти то, что другие говорили о природе понятия. Ибо большинство вовсе не занимается этим поиском и предполагает, что каждый уже сам понимает, когда говорят о понятии. В последнее время можно было тем более считать себя свободным от усилий над понятием, поскольку, как одно время было модно приписывать воображению, а затем памяти всевозможные недостатки, так в философии уже давно стало привычкой – и отчасти остается до сих пор – нагромождать на понятие всю хулу, унижать его, высшее в мышлении, и считать, напротив, вершиной как научного, так и морального – непостижимое и непонимание.
Я ограничусь здесь замечанием, которое может помочь усвоению развитых здесь понятий и облегчить вхождение в них. Понятие, поскольку оно достигло такого существования, которое само свободно, есть не что иное, как Я или чистое самосознание. У меня есть понятия, то есть определенные понятия; но Я есть само чистое понятие, которое как понятие пришло к наличному бытию. Поэтому, когда вспоминают основные определения, составляющие природу Я, можно предположить, что речь идет о чем-то знакомом, то есть привычном для представления. Но Я есть, во-первых, чистое относящееся к себе единство, и это не непосредственно, а через абстрагирование от всякой определенности и содержания и возвращение в свободу безграничного равенства с собой. Так оно есть всеобщность; единство, которое лишь через это отрицательное поведение, выступающее как абстрагирование, есть единство с собой и потому содержит в себе растворенной всякую определенность. Во-вторых, Я столь же непосредственно есть относящаяся к себе негативность, единичность, абсолютная определенность, которая противостоит иному и исключает его – индивидуальная личность.
Эта абсолютная всеобщность, которая столь же непосредственно есть абсолютная единичность, и бытие-в-себе-и-для-себя, которое абсолютно есть положенность и лишь через единство с положенностью есть это бытие-в-себе-и-для-себя, составляет природу как Я, так и понятия; ни то, ни другое нельзя постичь, если не схватить указанные два момента одновременно в их абстракции и в их полном единстве.
Когда говорят обычным образом о рассудке, который у меня есть, то понимают под этим способность или свойство, находящееся в отношении к Я, как свойство вещи к самой вещи – неопределенному субстрату, который не есть истинное основание и определяющее своего свойства. Согласно этому представлению, у меня есть понятия и понятие, как у меня есть пальто, цвет и другие внешние свойства.
Кант вышел за пределы этого внешнего отношения рассудка как способности понятий и самих понятий к Я. К глубочайшим и вернейшим прозрениям «Критики чистого разума» относится то, что единство, составляющее сущность понятия, познается как изначально-синтетическое единство апперцепции, как единство «я мыслю» или самосознания. Это положение составляет так называемую трансцендентальную дедукцию категорий; однако оно всегда считалось одним из труднейших мест кантовской философии – вероятно, по той причине, что оно требует выйти за пределы простого представления отношения, в котором Я и рассудок, или понятия, стоят к вещи и ее свойствам или акциденциям, к мысли.
Объект, говорит Кант («Критика чистого разума», стр. 137, 2-е изд.), есть то, в понятии чего объединено многообразие данного созерцания. Но всякое объединение представлений требует единства сознания в их синтезе. Следовательно, это единство сознания есть то, что единственно составляет отношение представлений к объекту, стало быть, их объективную значимость, и на чем основывается сама возможность рассудка.
Кант отличает от этого субъективное единство сознания – единство представления, осознаю ли я многообразие как одновременное или последовательное, что зависит от эмпирических условий. Принципы же объективного определения представлений следует выводить исключительно из основоположения трансцендентального единства апперцепции. Через категории, которые суть эти объективные определения, многообразие данных представлений определяется так, что оно приводится к единству сознания.
Согласно этому изложению, единство понятия есть то, благодаря чему нечто есть не просто чувственное определение, созерцание или даже просто представление, но объект; эта объективная единство есть единство Я с самим собой.
Постижение объекта, собственно, состоит в том, что Я делает его своим, проникает в него и приводит его к своей собственной форме, то есть ко всеобщности, которая непосредственно есть определенность, или определенности, которая непосредственно есть всеобщность. Объект в созерцании или даже в представлении еще есть нечто внешнее, чужое. Через постижение его бытие-в-себе-и-для-себя, которое он имеет в созерцании и представлении, превращается в положенность; Я мысленно проникает в него. Но лишь в мышлении он есть в себе и для себя; в созерцании или представлении он есть явление; мышление снимает его непосредственность, с которой он первоначально предстает перед нами, и делает из него положенность; но эта его положенность есть его бытие-в-себе-и-для-себя, или его объективность.
Эту объективность объект имеет, таким образом, в понятии, и оно есть единство самосознания, в которое он был принят; его объективность, или понятие, есть поэтому само не что иное, как природа самосознания; оно не имеет иных моментов или определений, кроме самого Я.
После этого оправдывается одним из главных положений кантовской философии то, что для познания того, что есть понятие, напоминают о природе «Я». Однако, наоборот, для этого необходимо усвоить понятие «Я» так, как оно было приведено ранее. Если останавливаются на простом представлении «Я», как оно представляется нашему обыденному сознанию, то «Я» оказывается лишь простой вещью, которую также называют душой, и которой понятие присуще как владение или свойство. Это представление, которое не углубляется ни в понимание «Я», ни в понимание понятия, не может служить для облегчения или приближения постижения понятия.
Приведённое кантовское изложение содержит ещё две стороны, касающиеся понятия, и требует некоторых дополнительных замечаний. Во-первых, ступени чувства и созерцания предшествуют ступени рассудка; и существенным положением кантовской трансцендентальной философии является то, что понятия без созерцания пусты и имеют значимость только как отношение данного через созерцание многообразия. Во-вторых, понятие указано как объективное познания, следовательно, как истина. Но, с другой стороны, оно принимается за нечто лишь субъективное, из которого нельзя извлечь реальность (под которой, поскольку она противопоставлена субъективности, следует понимать объективность); и вообще понятие и логическое объявляются чем-то лишь формальным, что, поскольку оно абстрагируется от содержания, не содержит истины.
Что касается, во-первых, отношения рассудка или понятия к предшествующим ему ступеням, то здесь важно, какая наука рассматривается, чтобы определить форму этих ступеней. В нашей науке, как чистой логике, эти ступени – бытие и сущность. В психологии – чувство и созерцание, а затем представление вообще, которые предшествуют рассудку. В феноменологии духа, как учении о сознании, восходили к рассудку через ступени чувственного сознания и затем восприятия. Кант предпосылает ему только чувство и созерцание. Как неполна эта лестница ступеней, он уже сам даёт понять тем, что добавляет к трансцендентальной логике или учению о рассудке ещё трактат о рефлексивных понятиях – сферу, лежащую между созерцанием и рассудком, или между бытием и понятием.











