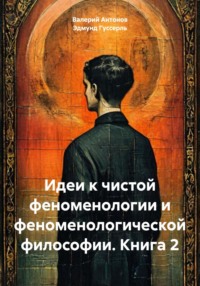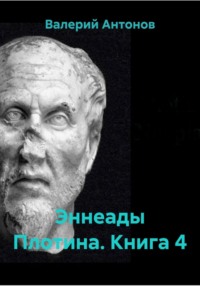Полная версия
Наука логики Гегеля. Том 2

Валерий Антонов
Наука логики Гегеля. Том 2
О пользе адаптированных переложении близких к академическому переводу.
Изучение философии Гегеля требует особого подхода, где важна постепенность – от простого к сложному. Нагляднее всего это можно показать на примере сравнения академического и адаптированного переводов фрагмента из третьего тома "Науки логики". Возьмём ключевую фразу оригинала: "Das Wesen ist die Wahrheit des Seins. Die Bewegung des Seins hat sich im Wesen aufgehoben, und in ihr ist es selbst dasselbe, was das Wesen ist". Академический перевод Б.Г. Столпнера передаёт это как: "Сущность есть истина бытия. Движение бытия сняло себя в сущности, и в нём само бытие есть то же самое, что и сущность", сохраняя все терминологические тонкости и сложную синтаксическую структуру. В то же время адаптированный вариант мог бы звучать так: "Сущность – это итог развития бытия. В процессе изменения бытие преодолевает себя и переходит в сущность, которая теперь содержит всё его содержание", где специально упрощена терминология (например, "снятие" заменено на более интуитивно понятное "преодоление"), добавлены поясняющие слова ("итог развития"), а предложения перестроены для лучшего восприятия.
Хотя оба варианта передают основную мысль Гегеля о переходе бытия в сущность через диалектическое снятие, между ними есть принципиальные различия. Академический перевод строго следует оригиналу, сохраняя все особенности гегелевского стиля – это незаменимо для профессионального анализа, но крайне затрудняет первое знакомство с текстом. Адаптированная же версия жертвует буквальной точностью ради доступности: сложные термины получают более привычные аналоги, длинные фразы разбиваются на короткие, добавляются пояснительные вставки, помогающие понять общий смысл без погружения в терминологические дебри.
Такой контраст наглядно показывает, почему начинать изучение Гегеля лучше с адаптированных переложений – они дают общее представление о системе, не перегружая читателя сложностями формы. Лишь после этого, когда основные концепции уже усвоены, стоит обращаться к академическим переводам, которые, несмотря на свою сложность, позволяют увидеть подлинную глубину и нюансы гегелевской мысли. Именно такое постепенное погружение – от упрощённых пересказов к точным переводам, а затем и к оригиналу – делает освоение "Науки логики" действительно продуктивным, позволяя избежать как поверхностного понимания, так и разочарования от преждевременного столкновения с непроходимой сложностью текста.
Предисловие к первому изданию.
Полное изменение, которое философский способ мышления претерпел у нас за последние примерно двадцать пять лет, более высокая ступень, достигнутая самосознанием духа в этот период над собой, до сих пор имели мало влияния на вид Логики.
То, что до этого времени называлось метафизикой, было, так сказать, исторгнуто с корнем и ветвями и исчезло из ряда наук. Где еще можно или где еще дозволено услышать звуки прежней онтологии, рациональной психологии, космологии или даже прежней естественной теологии? Исследования, например, о нематериальности души, о механических и конечных причинах, где бы они еще могли найти интерес? Даже прочие доказательства бытия Бога приводятся лишь исторически или ради назидания и возвышения духа. Это факт, что интерес частью к содержанию, частью к форме прежней метафизики, частью к обоим вместе – утрачен. Как замечательно, когда у народа, например, наука его государственного права, когда его воззрения, его нравственные привычки и добродетели стали бесполезны, так же замечательно по меньшей мере, когда народ теряет свою метафизику, когда дух, занимающийся своим чистым существом, не имеет больше в нем действительного бытия.
Экзотерическое учение кантовской философии – что рассудок не должен перелетать за пределы опыта, иначе познавательная способность станет теоретическим разумом, который сам по себе порождает лишь химеры, – с научной стороны оправдало отказ от спекулятивного мышления. Этому популярному учению навстречу шли крики современной педагогики, нужда времен, направляющих взор на непосредственную потребность, что, подобно тому как для познания опыт есть первое, так и для умелости в общественной и частной жизни теоретическое проникновение даже вредно, а упражнение и практическое образование вообще суть существенное, единственно полезное. – Поскольку таким образом наука и здравый человеческий рассудок работали рука об руку, чтобы вызвать гибель метафизики, то казалось, что приведено странное зрелище – видеть образованный народ без метафизики; – как храм, в остальном богато украшенный, но без Святого святых. – Теология, которая в прежние времена была хранительницей спекулятивных таинств и хотя и зависимой метафизики, отказалась от этой науки в пользу чувств, в пользу практически-популярного и ученого исторического. Чему соответствует то изменение, что в других местах те уединенные, которые были принесены в жертву своим народом и отделены от мира с той целью, чтобы существовало созерцание вечного и служащая только ему жизнь, – не ради пользы, а ради благословения, – исчезли; исчезновение, которое в другой связи, по существу, может рассматриваться как то же явление, что и упомянутое ранее. – Так что после изгнания этих сумерек, бесцветного занятия углубленного в себя духа самим собой, бытие, казалось, превратилось в светлый мир цветов, среди которых, как известно, нет черного.
С Логикой дело обстоит не так плохо, как с метафизикой. Предрассудок, будто благодаря ей учатся мыслить, – что прежде считалось ее пользой и тем самым ее целью, – словно бы посредством изучения анатомии и физиологии следовало бы сначала научиться переваривать и двигаться, – этот предрассудок давно исчез, и дух практического едва ли предназначил ей лучшую судьбу, чем ее сестре. Тем не менее, вероятно, ради некоторой формальной пользы, ей еще оставили место среди наук, даже сохранили ее как предмет публичного преподавания. Однако эта лучшая доля касается лишь внешней судьбы; ибо ее вид и содержание остались теми же, какими они унаследовались через долгую традицию, однако в этой передаче все более разжижались и истощались; новый дух, который взошел не менее в науке, чем в действительности, в ней еще не дал себя почувствовать. Но раз и навсегда тщетно, когда субстанциальная форма духа преобразовалась, хотеть сохранить формы прежнего образования; это – увядшие листья, которые отторгаются новыми почками, уже зародившимися у их корней.
Именно с игнорирования всеобщего изменения начинается то, что оно выходит из моды и в научном отношении. Незаметным образом даже противникам стали привычны и собственны другие представления, и если они против их источника и принципов продолжают вести себя строптиво и противоречиво, то зато они смирились с их последствиями и не смогли уберечься от их влияния; к своему все более незначительному негативному поведению они не знают иного способа придать положительную важность и содержание, как только тем, что они говорят вместе с новыми способами представления.
С другой стороны, кажется, прошло время брожения, с которого начинается новое творение. В своем первом появлении такое творение обычно ведет себя с фанатичной враждебностью против распространенной систематизации прежнего принципа, частью также боится потеряться в распространении особенного, частью же страшится работы, требуемой для научного образования, и при нужде в таковом хватается сначала за пустой формализм. Требование обработки и образования материала становится теперь тем настоятельнее. Существует период в образовании эпохи, как и в образовании индивида, когда дело идет преимущественно о приобретении и утверждении принципа в его неразвитой интенсивности. Но более высокая задача состоит в том, чтобы он стал наукой.
Что бы ни было сделано до сих пор для дела и для формы науки в других отношениях; логическая наука, составляющая подлинную метафизику или чистую спекулятивную философию, до сих пор видела себя весьма заброшенной. Что я понимаю под этой наукой и ее точкой зрения, я предварительно указал во Введении. Необходимость снова начать эту науку сначала, природа самого предмета и недостаток предварительных работ, которые можно было бы использовать для предпринятого преобразования, могут быть приняты во внимание беспристрастными судьями, даже если многолетняя работа не смогла придать этой попытке большей совершенности. – Существенная точка зрения состоит в том, что дело вообще идет о новом понятии научного изложения. Философия, поскольку она должна быть наукой, не может, как я напоминал в другом месте ("Феноменология духа", Предисловие к первому изд.), – собственное выполнение есть познание метода и имеет свое место в самой Логике, – заимствовать свою методологию у подчиненной науки, какова математика, так же мало, как и останавливаться на категорических уверениях внутреннего созерцания или пользоваться рассуждением из оснований внешней рефлексии. Но только природа содержания может двигаться в научном познании, в то же время эта собственная рефлексия содержания и есть то, что впервые полагает и порождает его определения.
Рассудок определяет и удерживает определения; разум негативен и диалектичен, ибо он растворяет определения рассудка в ничто; он позитивен, ибо он порождает всеобщее и постигает в нем особенное. Как рассудок берется обычно как нечто отдельное от разума вообще, так и диалектический разум берется обычно как нечто отдельное от позитивного разума. Но в своей истине разум есть дух, который выше обоих, разумный рассудок или рассудочный разум. Он есть негативное, то, что составляет качество как диалектического разума, так и рассудка; – он отрицает простое, тем самым он полагает определенное различие рассудка, он столь же растворяет его, тем самым он диалектичен. Но он не останавливается на ничто этого результата, а в нем столь же позитивен, и тем самым восстановил первое простое, но как всеобщее, которое конкретно в себе; под него не подводится данное особенное, но в том определении и в его растворении особенное уже само определилось. Это духовное движение, которое в своей простоте дает себе свою определенность, а в этой определенности – свое равенство с собой, которое, таким образом, есть имманентное развитие понятия, есть абсолютный метод познания и одновременно имманентная душа самого содержания. – Только на этом самостоятельно конструирующемся пути, утверждаю я, философия способна быть объективной, доказательной наукой. – Этим способом я пытался изобразить сознание в "Феноменологии духа". Сознание есть дух как конкретное и притом запутавшееся во внешности знание; но формо-движение этого объекта основывается единственно, как и развитие всякой природной и духовной жизни, на природе чистых сущностей, составляющих содержание Логики. Сознание, как являющийся дух, который на своем пути освобождается от своей непосредственности и внешней конкретности, становится чистым знанием, которое дает самим себе эти чистые сущности, как они суть в себе и для себя, в качестве объекта. Они суть чистые мысли, дух, мыслящий свое существо. Их само-движение есть их духовная жизнь и есть то, посредством чего конституируется наука, и представление чего она есть.
Этим указано отношение науки, которую я называю "Феноменологией духа", к Логике. – Что касается внешнего отношения, то первому тому системы науки (Бамберг и Вюрцбург, у Гебхарда, 1807) был приложен титул "Первая часть: Феноменология духа". Этот титул не будет больше приложен ко второму изданию, которое должно появиться на ближайшей Пасхе. – Вместо упомянутого ниже намерения второго тома, который должен был содержать все прочие философские науки, я с тех пор дал появиться "Энциклопедии философских наук", в прошлом году в третьем издании (Примечание ко второму изданию). После "Феноменологии" должен был следовать второй том, который должен был содержать Логику и две реальные науки философии, философию природы и философию духа, и завершил бы систему науки. Но необходимое расширение, которое Логика должна была получить для себя, побудило меня дать ей появиться отдельно; она составляет, таким образом, в расширенном плане первое продолжение к "Феноменологии духа". Впоследствии я дам последовать обработке двух упомянутых реальных наук философии. – Этот первый том Логики содержит как первую книгу учение о бытии; вторая книга, учение о сущности, как вторая часть первого тома; второй же том будет содержать субъективную логику, или учение о понятии.
Нюрнберг, 22 марта 1812 г.
За последние 25 лет философское мышление претерпело радикальные изменения, дух достиг более высокой ступени самосознания, однако это почти не повлияло на логику как науку.
Упадок прежней метафизики.
То, что раньше называлось метафизикой (онтология, рациональная психология, космология, естественная теология), исчезло из круга наук. Вопросы о нематериальности души, механических причинах или доказательствах бытия Бога теперь вызывают интерес разве что в историческом или назидательном ключе. Интерес к старой метафизике утрачен – как у народа, теряющего свои законы и нравы, так и у философии, лишившейся своего глубинного содержания.
Кантовская философия утверждала, что разум, выходя за пределы опыта, порождает лишь химеры, что оправдывало отказ от спекулятивного мышления. Педагогика и практические нужды эпохи также способствовали этому: главным стало не теоретическое познание, а практическая польза. В результате метафизика исчезла, как храм без Святого святых.
Судьба логики.
Логике повезло чуть больше, чем метафизике, но и она изменилась мало. Исчезло наивное представление, будто логика учит мыслить (как если бы анатомия учила переваривать пищу). Хотя логика сохранила место в науке и образовании, её содержание осталось традиционным, не отражая нового духа эпохи.
Новый этап философии.
Период бурного отрицания прошлого закончился. Теперь важно не просто провозглашать новые принципы, а развивать их в строгую науку. Однако логика как подлинная метафизика (чистая спекулятивная философия) до сих пор оставалась в забвении.
Метод и содержание «Науки логики».
Философия не может заимствовать метод у математики или ограничиваться интуицией. Её метод должен вытекать из самого содержания. Разум – не просто рассудок, фиксирующий определения, и не только диалектика, их разрушающая. Истинный разум – это дух, который:
1. Отрицает простое (диалектика),
2. Утверждает новое всеобщее, включающее в себя особенное.
Это движение мысли – суть научного метода и самой логики.
Связь с «Феноменологией духа».
Изначально «Феноменология духа» задумывалась как первая часть системы, но теперь логика выделена в отдельный труд. Она станет основой для последующих работ – философии природы и философии духа.
План издания:
– Том 1: Учение о бытии и сущности.
– Том 2: Субъективная логика (учение о понятии).
Нюрнберг, 22 марта 1812 г.
Проверочные вопросы:
1. Почему, по Гегелю, старая метафизика утратила значение?
2. Как Кант повлиял на отношение к спекулятивному мышлению?
3. В чём отличие рассудка и разума в гегелевской логике?
4. Почему логика не может заимствовать метод у математики?
5. Как связано движение разума с диалектикой?
6. Какое место «Наука логики» занимает в системе Гегеля после «Феноменологии духа»?
Предисловия ко 2-му изданию "Науки логики".
К этой новой переработке Науки логики, …, я приступил, конечно, с полным сознанием как трудности предмета самого по себе и затем его изложения, так и несовершенства, которое несет на себе обработка его в первом издании; сколь бы я ни старался, после дальнейших многолетних занятий этой наукой, помочь этому несовершенству, я все же чувствую достаточные основания, чтобы взывать к снисходительности читателя. Основанием же для такого притязания может прежде всего служить то обстоятельство, что для содержания преимущественно находили только внешний материал в прежней метафизике и логике. Как бы всеобще и часто эти науки, последняя вплоть до наших дней, ни разрабатывались, столь мало такая обработка затрагивала спекулятивную сторону; скорее, в целом повторялся тот же материал, попеременно то разжиженный до тривиальной поверхностности, то старый балласт объемнее извлекался заново и тащился с собой, так что через такие, часто совершенно механические усилия, философскому содержанию не могло прибавиться никакого выигрыша. Представить поэтому царство мысли философски, т.е. в его собственной имманентной деятельности, или, что то же самое, в его необходимом развитии, должно было стать новым предприятием, и притом начинать его с самого начала; тот приобретенный материал, известные формы мысли, однако, следует рассматривать как важнейший образец, даже необходимое условие, признаваемую с благодарностью предпосылку, даже если он дает лишь кое-где сухую нить или безжизненные кости скелета, даже в беспорядке сваленные друг на друга.
Формы мысли прежде всего выставлены и закреплены в языке человека; в наши дни нельзя слишком часто напоминать, что то, чем человек отличается от животного, есть мышление. Во все, что становится для него внутренним, представлением вообще, что он делает своим, язык внедрился, и то, что он делает языком и в нем высказывает, содержит, скрытое, смешанное или выработанное, категорию; столь естественно для него логическое, или, вернее, оно само есть его собственная природа. Но если противопоставлять природу вообще, как физическое, духовному, то следовало бы сказать, что логическое скорее есть сверхъестественное, которое внедряется во все природное поведение человека, в его ощущение, созерцание, желание, потребность, влечение, и тем самым делает его вообще человеческим, хотя бы только формально, представлениями и целями. Преимуществом языка является то, что он обладает богатством логических выражений, именно своеобразных и отделенных для самих определений мысли; многие предлоги, артикли уже принадлежат к таким отношениям, основанным на мышлении; китайский язык, говорят, в своем развитии вовсе не достиг этого или лишь скудно; но эти частицы выступают совершенно служебно, лишь немного более обособленно, чем аугменты, флективные знаки и т.п. Гораздо важнее то, что в языке определения мысли выставлены как существительные и глаголы и так отчеканены в предметную форму; немецкий язык имеет в этом отношении много преимуществ перед другими современными языками; даже некоторые его слова обладают дальнейшей особенностью иметь не только различные, но и противоположные значения, так что в этом самом нельзя не признать спекулятивного духа языка; мышление может получить удовольствие, натыкаясь на такие слова, и находить соединение противоположностей, которое для рассудка, однако, есть бессмыслица, уже лексически наивным образом как одно слово с противоположными значениями. Философии поэтому вообще не нужна особая терминология; хотя и следует принять некоторые слова из чужих языков, которые, однако, уже через употребление получили в ней гражданство, аффектированный пуризм был бы там, где дело всего решительнее, всего менее на месте. – Прогресс образования вообще и в частности наук, даже эмпирических и чувственных; поскольку они движутся в общем в самых обычных категориях (например, целого и частей, вещи и ее свойств и подобном), постепенно выводит на свет и более высокие мыслительные отношения или по крайней мере возвышает их к большей всеобщности и тем самым к более пристальному вниманию. Если, например, в физике определение мысли силы стало преобладающим, то в новейшее время категория полярности, которая, впрочем, слишком… наперекор и поперек… внедряется во все, даже в свет, играет значительнейшую роль, – определение различия, в котором различенные неразрывно связаны; – что таким образом от формы абстракции, тождества, посредством которой определенность, например, как сила, получает самостоятельность, отошли, и форма определения, различия, который одновременно остается в тождестве как нераздельное, была выдвинута и стала привычным представлением, – это имеет бесконечную важность. Наблюдение природы приносит с собой это принуждение, благодаря реальности, в которой ее объекты удерживаются, фиксировать категории, которые в ней уже нельзя игнорировать, хотя бы с величайшей непоследовательностью по отношению к другим, которые также признаются действенными, и не позволять, как это легче происходит в духовном, переходить к абстракциям от противоположности и к всеобщности.
Но если таким образом логические объекты, как и их выражения, пожалуй, в образовании всеобще известны, то, как я говорил в другом месте, то, что известно, тем самым не познано, и это может даже вызывать нетерпение, что нужно еще заниматься известным, и что известнее, чем как раз определения мысли, которыми мы повсюду пользуемся, которые при каждом произносимом нами предложении срываются у нас с языка. Указать общие моменты относительно хода познания от этого известного, относительно отношения научного мышления к этому естественному мышлению – должно быть задачей этого предисловия; столько, вместе с тем, что содержит прежнее введение, будет достаточно, чтобы дать общее представление (какое обычно требуют получить о науке заранее, до нее, которая есть сама вещь) о смысле логического познания.
Прежде всего, следует рассматривать как бесконечный прогресс то, что формы мысли освобождены от материала, в который они погружены в самосознательном созерцании, представлении, как и в нашем желании и волении (или, вернее, также в представляющем желании и волении – и нет человеческого желания или воления без представления), эти всеобщности выделены для себя и сделаны предметом рассмотрения для себя, как сделали Платон, а затем преимущественно Аристотель; это дает начало их познанию. "Только после того, как было налицо почти все необходимое", говорит Аристотель, "и что относится к удобству и общению жизни, люди начали заботиться о философском познании". "В Египте", замечал он ранее, "математические науки развились рано, потому что там жреческое сословие рано было поставлено в положение иметь досуг". – В действительности потребность заниматься чистыми мыслями предполагает долгий путь, который должен был пройти человеческий дух; это, можно сказать, есть потребность уже удовлетворенной потребности необходимости в отсутствии потребностей, к которому он должен был прийти, абстракции от материала созерцания, воображения и т.д., конкретных интересов желания, влечений, воли, в каковом материале определения мысли закутаны и застряли. В тихих пространствах пришедшего к себе и только в себе сущего мышления молчат интересы, которые движут жизнью народов и индивидов. "Со столь многих сторон", говорит Аристотель в том же контексте, "зависима природа человека, но эта наука, которую ищут не для употребления, единственная есть свободная сама по себе и для себя, и потому она, кажется, не есть человеческое достояние". – Философия вообще имеет дело еще с конкретными объектами, Богом, природой, духом, в их мыслях, но логика занимается исключительно только с ними для себя в их полной абстракции. Поэтому эту логику обычно поручают изучению юности, как еще не вступившей в интересы конкретной жизни, живущей в досуге относительно них, и имеющей лишь для своей субъективной цели заняться приобретением средств и возможностей действовать в объектах тех интересов, себя и с ними самими еще теоретически. В число этих средств, в противовес приведенному представлению Аристотеля, включается логическая наука, занятие ею есть предварительная работа, ее место – школа, после которой должен следовать серьез жизни и деятельность для истинных целей. В жизни доходят до употребления категорий, они низводятся с чести рассматриваться для себя до того, чтобы служить в духовном предприятии живого содержания при создании и обмене относящихся к нему представлений, – отчасти как сокращения благодаря своей всеобщности; – ибо какое бесконечное множество единичностей внешнего существования и деятельности охватывает представление битва, война, народ или море, животное и т.д.; – как в представлении: Бог или любовь и т.д. в простоту такого представления эпитомировано бесконечное множество представлений, деятельности, состояний и т.д.! – Отчасти для более точного определения и нахождения предметных отношений, причем, однако, содержание и цель, правильность и истинность вмешивающегося мышления полностью зависят от наличного самого по себе, и определениям мысли для себя не приписывается никакая определяющая содержание действенность. Такое употребление категорий, которое ранее называлось естественной логикой, бессознательно, и если в научной рефлексии им назначается отношение служить средствами в духе, то мышление вообще делается чем-то подчиненным другим духовным определениям. О наших ощущениях, влечениях, интересах мы не скажем, что они нам служат, но они считаются самостоятельными силами и мощностями, так что мы сами есть это – так ощущать, это желать и хотеть, вкладываться в этот наш интерес. Но, в свою очередь, скорее может стать нашим сознанием, что мы стоим на службе у наших чувств, влечений, страстей, интересов, к тому же привычек, чем что мы обладаем ими, тем более что они при нашей внутренней единственности с ними служат нам как средства. Подобные определения души и духа показываются нам скоро как особенные в противоположность всеобщности, как коей мы осознаем себя, в которой мы имеем нашу свободу, и считают, что скорее запутаны в этих особенностях, управляемы ими. Посему мы можем еще менее считать, что формы мысли, пронизывающие все наши представления, будь они чисто теоретическими или содержащими материал, принадлежащий ощущению, влечению, воле, служат нам, что мы обладаем ими, а не они скорее нами; что у нас осталось против них, как должен я, как всеобщее, возвыситься над ними, они, которые сами суть всеобщее как таковое. Если мы вкладываемся в ощущение, цель, интерес и чувствуем себя в них ограниченными, несвободными, то место, куда мы способны оттуда выйти и вернуться к свободе, есть это место уверенности в себе, чистой абстракции, мышления. Или точно так же, если мы хотим говорить о вещах, то мы называем их природу или сущность их понятием, и он есть только для мышления; но о понятиях вещей мы еще менее скажем, что мы господствуем над ними или что определения мысли, комплексом которых они являются, служат нам, напротив, наше мышление должно ограничиваться ими, и наша произвольность или свобода не должна хотеть приспособлять их по себе. Поскольку, таким образом, субъективное мышление есть наше собственное, глубочайшее деяние, а объективное понятие вещей составляет саму вещь, мы не можем выйти из этого деяния, не можем стоять над ним, и точно так же не можем выйти за пределы природы вещей. Однако от последнего определения мы можем отвлечься; оно совпадает с первым постольку, поскольку оно есть отношение наших мыслей к вещи, но давало бы лишь нечто пустое, ибо вещь тем самым была бы выставлена как правило для наших понятий, но именно вещь для нас не может быть ничем иным, кроме наших понятий о ней. Если критическая философия понимает отношение этих трех терминов так, что мы ставим мысли между нами и между вещами как середину в том смысле, что эта середина скорее отгораживает нас от вещей, вместо того чтобы соединять нас с ними, то против этого воззрения следует выставить простое замечание, что именно эти вещи, которые должны стоять по ту сторону нас и по ту сторону относящихся к ним мыслей на другом краю, сами суть мыслимые вещи, и как совершенно неопределенные, только одна мыслимая вещь (– так называемая вещь-в-себе) – пустая абстракция сама по себе.