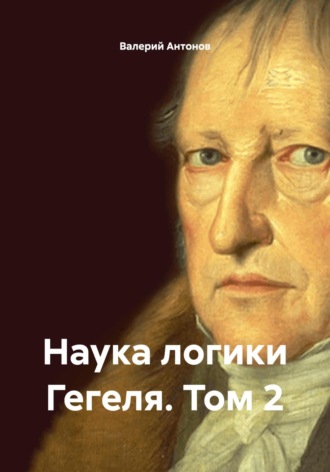
Полная версия
Наука логики Гегеля. Том 2
Однако этого, пожалуй, достаточно для точки зрения, с которой исчезает отношение, согласно которому определения мысли берутся только для употребления и как средства; важнее связанное с этим далее, согласно которому они обычно схватываются как внешние формы. – Пронизывающая все наши представления, цели, интересы и действия деятельность мышления есть, как сказано, бессознательно деятельная (естественная логика); то, что наше сознание имеет перед собой, есть содержание, объекты представлений, то, чем наполнен интерес; определения мысли считаются согласно этому отношению формами, которые только присущи содержанию, а не само содержание. Но если верно то, что указано ранее, и что в общем признается, что природа, своеобразная сущность, истинно пребывающее и субстанциальное при многообразии и случайности явления и мимолетном выражении, есть понятие вещи, всеобщее в ней самой, как каждый человеческий индивид, хотя и бесконечно своеобразный, имеет в себе как prius всей своей особенности быть человеком, как каждое отдельное животное – prius быть животным: то нельзя было бы сказать, что осталось бы от такого индивида, если бы от снабженного столь многими другими предикатами была отнята эта основа, хотя она, как и другие, может быть названа предикатом. Необходимая основа, понятие, всеобщее, которое есть мысль, поскольку от представления при слове "мысль" можно абстрагироваться, само по себе не может рассматриваться лишь как безразличная форма, присущая содержанию. Но эти мысли всех природных и духовных вещей, даже субстанциальное содержание, еще таковы, что содержат многообразные определенности и имеют на себе еще различие души и тела, понятия и относительной реальности; более глубокая основа есть душа для себя, чистое понятие, которое есть внутреннее объектов, их простой жизненный пульс, как и самого субъективного мышления их. Довести до сознания эту логическую природу, которая одушевляет дух, движет и действует в нем, – вот задача. Инстинктивное действие отличается от разумного и свободного вообще тем, что последнее совершается с сознанием, поскольку содержание движущего выведено из непосредственного единства с субъектом в предметность перед ним, начинается свобода духа, который в инстинктивном действии мышления запутан в узах своих категорий и раздроблен в бесконечно многообразный материал. В этой сети здесь и там завязываются более прочные узлы, которые суть точки опоры и направления его жизни и сознания; своей прочностью и силой они обязаны именно тому, что суть вынесенные перед сознанием в-себе-и-для-себя-бытийствующие понятия его сущности. Важнейший пункт для природы духа есть отношение не только того, что он есть в себе, к тому, что он есть в действительности, но и того, как он знает себя; это знание себя есть потому, что он по существу сознание, основное определение его действительности. Очистить эти категории, которые действенны только инстинктивно как влечения и сначала разрознены, тем самым изменчивы и запутанно вносятся в сознание духа и дают ему тем самым разрозненную и неуверенную действительность, и возвысить его тем самым в них к свободе и истине, – вот это и есть высшее логическое дело.
То, что мы указали как начало науки, чья высокая ценность сама по себе и одновременно как условие истинного познания была ранее признана, – трактовать понятия и моменты понятия вообще, определения мысли сначала как формы, отличные от материала и лишь присущие ему, – это сразу само собой выдает себя как поведение, неадекватное истине, которая указана как объект и цель логики. Ибо так, как только формы, как отличные от содержания, они принимаются в определенности, которая клеймит их как конечные и делает неспособными схватить истину, которая в себе бесконечна. Пусть истинное, в каком бы отношении оно ни было, снова связано с ограниченностью и конечностью, – это есть сторона его отрицания, его неистинности и недействительности, именно его конца, а не утверждения, которым оно как истинное является. Против голости только формальных категорий инстинкт здравого рассудка наконец почувствовал себя столь окрепшим, что предает их знание с презрением области школьной логики и школьной метафизики, одновременно с пренебрежением к ценности, которую уже само сознание этих нитей имеет для себя, и с бессознательностью того, что в инстинктивном действии естественной логики, еще более в рефлектированном отвержении знания и познания самих определений мысли, пленен на службе неочищенного и тем самым несвободного мышления. Простая основная определенность или общая формальная определенность собрания таких форм есть тождество, которое как закон, как А=А, как закон противоречия утверждается в логике этого собрания. Здравый рассудок настолько потерял свое почтение к школе, обладающей такими законами истины и до сих пор ведущейся в них, что смеется над ней за это и считает невыносимым человека, который умеет говорить истину по таким законам: растение есть растение, наука есть наука, и так далее до бесконечности. Над формулами, которые суть правила умозаключения, действительно главного употребления рассудка, – как бы несправедливо ни было не признавать, что они имеют свое поле в познании, где должны иметь силу и одновременно суть существенный материал для мышления разума, – столь же справедливое сознание установило, что они безразличные средства по меньшей мере в равной степени заблуждения и софистики и, как бы ни определяли истину иначе, непригодны для высшей, например, религиозной истины; что они касаются вообще только правильности познаний, а не истины.
Неполноту этого способа рассматривать мышление, оставляющего истину в стороне, можно восполнить единственно тем, что в мыслящее рассмотрение втягивается не только то, что обычно считается внешней формой, но и содержание. Вскоре само собой показывается, что то, что при ближайшем обычном рефлектировании отделяется как содержание от формы, в действительности не должно быть бесформенным, неопределенным в себе; тогда оно было бы только пустотой, примерно абстракцией вещи-в-себе; – что оно, напротив, имеет форму в себе самом, да и только через нее одушевленность и содержание, и что сама форма только переворачивается в видимость содержания, а тем самым и в видимость внешнего по отношению к этой видимости. С введением содержания в логическое рассмотрение объектом становятся не вещи, а вещь, понятие вещей.
При этом можно, однако, напомнить, что существует множество понятий, множество вещей. Но чем ограничено это множество, отчасти сказано ранее, что понятие как мысль вообще, как всеобщее, есть неизмеримое сокращение против единичности вещей, как их множество предносится неопределенному созерцанию и представлению; отчасти же понятие есть сразу во-первых понятие в нем самом, и оно есть только одно, и есть субстанциальная основа; во-вторых же, оно, правда, определенное понятие, чья определенность есть то, что является как содержание, но определенность понятия есть формальная определенность этой субстанциальной единицы, момент формы как тотальности, самого понятия, которое есть основа определенных понятий. Оно не созерцается и не представляется чувственно; оно есть только объект, продукт и содержание мышления, и в-себе-и-для-себя-бытийствующая вещь, Логос, разум того, что есть, истина того, что носит имя вещей; менее всего это Логос, что должно быть оставлено вне логической науки. Поэтому не должно быть произволом втягивать его в науку или оставлять снаружи. Если определения мысли, которые суть только внешние формы, истинно рассматриваются в них самих, то может выступить только их конечность и неистинность их долженствования-быть-для-себя и как их истина – понятие. Поэтому логическая наука, трактуя определения мысли, которые вообще инстинктивно и бессознательно пронизывают наш дух и даже входя в язык, остаются необъективными, незамеченными, будет также реконструкцией тех, которые выделены рефлексией и ею фиксированы как субъективные, внешние формы по отношению к материалу и содержанию.
Изложение никакого объекта не было бы само по себе способно быть столь строго имманентно пластичным, как изложение развития мышления в его необходимости; ни один не нес в себе столь сильно этого требования; его наука должна была бы в этом превзойти также и математику, ибо ни один объект не имеет в себе этой свободы и независимости. Такое изложение требовало бы, как это в своем роде имеется в ходе математической последовательности, чтобы ни на одной ступени развития не встречалось определение мысли и рефлексия, которые не возникали бы непосредственно на этой ступени и не перешли бы в нее из предшествующих. Однако от такой абстрактной совершенности изложения, конечно, вообще приходится отказываться; уже то, что наука должна начинать с чистого простого, тем самым всеобщего и пустого, изложение допускало бы только эти совершенно простые выражения простого без всякого дальнейшего добавления какого-либо слова; – что по существу дела могло бы иметь место, были бы отрицательные рефлексии, которые старались бы предотвратить и удалить то, что иначе представление или неупорядоченное мышление могли бы подмешать. Однако такие привходящие мысли в простой имманентный ход развития сами по себе случайны, и старание отразить их оказывается поэтому обремененным этой случайностью; к тому же тщетно хотеть встретить все такие привходящие мысли, именно потому что они лежат вне вещи, и по меньшей мере неполнотой было бы то, чего здесь требовали бы для систематического удовлетворения. Но свойственное нашему современному сознанию беспокойство и рассеянность не допускают иного, как также более или менее принимать во внимание ближайшие рефлексии и привходящие мысли; пластическое изложение требует тогда также пластического смысла восприятия и понимания; но такие пластические юноши и мужчины, столь спокойные, с самоотречением от собственных рефлексий и привходящих мыслей, с которым нетерпеливо спешит проявить себя самостоятельное мышление, только следующие за вещью слушатели, каких изображает Платон, не могли бы быть представлены в современном диалоге; еще менее можно было бы рассчитывать на таких читателей. Напротив, мне слишком часто и слишком яростно показывали таких противников, которые не хотели сделать простой рефлексии, что их привходящие мысли и возражения содержат категории, которые суть предпосылки и сами нуждаются в критике, прежде чем их употреблять. Бессознательность в этом отношении простирается невероятно далеко; она составляет основное недоразумение, дурное, т.е. необразованное поведение – при рассматриваемой категории мыслить что-то другое, а не саму эту категорию. Эта бессознательность тем менее извинительна, что такое другое есть другие определения мысли и понятия, но в системе логики именно эти другие категории точно так же должны найти свое место и там будут подвергнуты рассмотрению для себя. Наиболее поразительно это в подавляющем множестве возражений и нападок на первые понятия или положения логики, бытие и ничто и становление, которое, будучи само простой определенностью, пожалуй, бесспорно – простейший анализ показывает это – содержит те две определенности как моменты. Основательность, кажется, требует прежде всего исследовать начало как основание, на котором построено все, даже не идти дальше, пока оно не окажется твердо доказанным, напротив, скорее, если это не так, отвергнуть все последующее. Эта основательность имеет одновременно то преимущество, что предоставляет величайшее облегчение для мыслительного дела; она заключила все развитие в этот зародыш перед собой и считает себя покончившей со всем, когда покончила с ним, который есть самое легкое для устранения, ибо он есть простое, само простое; это та небольшая работа, которая требуется, чем эта столь самодовольная основательность существенно рекомендует себя. Это ограничение простым предоставляет произволу мышления, которое не хочет оставаться простым, но применяет к нему свои рефлексии, свободный простор. С добрым правом заниматься сначала только принципом и не вдаваться в дальнейшее, эта основательность в своем деле делает противоположное этому, скорее вносит дальнейшее, т.е. другие категории, чем только принцип, другие предпосылки и предрассудки. Такие предпосылки, что бесконечное отлично от конечного, содержание есть нечто иное, чем форма, внутреннее есть иное, чем внешнее, опосредствование точно так же не есть непосредственность, как будто кто не знает подобного, выдвигаются одновременно поучающе и не столько доказываются, сколько рассказываются и заверяются. В таком поучении как поведении лежит – нельзя назвать это иначе – глупость; по существу же дела отчасти неправомерность только предполагать и прямо принимать подобное, отчасти же еще более невежество, что именно потребность и дело логического мышления – исследовать, есть ли так нечто конечное без бесконечного истинным, равно как такая абстрактная бесконечность, далее, бесформенное содержание и бессодержательная форма, так внутреннее для себя, не имеющее внешнего проявления, внешность без внутренности и т.д. – нечто истинное, равно как нечто действительное. – Но это образование и дисциплина мышления, посредством которых достигается пластическое поведение его и преодолевается нетерпение привходящей рефлексии, обретаются единственно через продвижение вперед, изучение и продуцирование всего развития.
При упоминании платоновского изложения тот, кто трудится возвести в новое время самостоятельное здание философской науки, может быть напомнен о рассказе, что Платон семь раз перерабатывал свои книги о государстве. Воспоминание об этом, сравнение, поскольку оно, казалось бы, заключало в себе таковое, могло бы лишь тем сильнее довести до желания, чтобы для произведения, принадлежащего современному миру, имеющего перед собой более глубокий принцип, более трудный предмет и материал более богатого объема для обработки, была бы предоставлена свободная досужесть семьдесят семь раз переработать его. Но так автор, рассматривая его перед лицом величины задачи, должен был удовольствоваться тем, что оно могло стать, при обстоятельствах внешней необходимости, неизбежного отвлечения величием и многосторонностью временных интересов, даже под сомнением, оставляет ли громкий шум дня и оглушительная болтовня воображения, тщеславно ограничивающегося им, еще место для участия в бесстрастной тишине лишь мыслящего познания.
Берлин, 7 ноября 1831.
Переложение для первого знакомства с "Наукой логики" Гегеля (Ключевые идеи Предисловия):Гегель начинает с того, что осознает огромную сложность переработки своей "Науки логики". Он знает, что первое издание было несовершенным, и хотя он годами работал над улучшением, все равно просит снисходительности читателя. Почему? Потому что его задача была революционной.
1. Почему нужна Новая Логика?
Критика старой логики и метафизики: Предшествующая логика (традиционная, формальная) и метафизика были слишком поверхностны и механистичны. Они просто повторяли и перетаскивали старые идеи ("балласт"), не углубляясь в суть. Они работали с "внешним материалом", но не затрагивали спекулятивное (диалектическое, глубоко философское) ядро мысли.
Цель новой Логики: Представить само "царство мысли" – не как набор правил, а как живой, развивающийся процесс, управляемый своей внутренней необходимостью. Это должен быть показ мысли в ее собственной имманентной деятельности и развитии. Это совершенно новый проект, требующий начала с самого начала.
2. Мысль, Язык и Логическое
Мысль – суть человека: Отличие человека от животного – мышление. Логическое не чуждо нам, это наша собственная природа.
Язык – дом мысли: Мыслительные формы (категории) изначально заложены в языке. Все, что мы выражаем словами (внутренние переживания, представления, цели), уже содержит в себе логические категории. Логика – это "сверхъестественное", пронизывающее все человеческое поведение (ощущения, желания и т.д.) и делающее его собственно человеческим.
Преимущество языка: Чем богаче язык специфическими выражениями для мысленных определений, тем лучше. Немецкий язык, по мнению Гегеля, обладает особыми достоинствами: многие его слова имеют не только разные, но и противоположные значения, что отражает спекулятивный (диалектический) дух, способный удерживать единство противоположностей. Поэтому философии не нужна особая искусственная терминология.
3. Обыденное и Научное Мышление. Проблема "Известного"
Логические категории – "все известны": Мы постоянно пользуемся категориями (бытие, причина, целое/часть и т.д.) в повседневной речи и мышлении ("естественная логика").
Но известное ≠ познанное: То, что мы привычно используем, не означает, что мы это понимаем. Это вызывает даже раздражение: зачем изучать то, что и так "знакомо"?
Задача Предисловия (и Логики): Как раз объяснить разницу между обыденным ("естественным") мышлением и научно-философским мышлением. Как мы переходим от первого ко второму? Какова природа логического познания?
4. История и Необходимость Логики
Выделение форм мысли – прогресс: Великая заслуга Платона и особенно Аристотеля в том, что они начали выделять чистые формы мысли из того материала (ощущений, желаний, представлений), в котором они обычно погружены, и сделали их самостоятельным предметом изучения.
Логика требует досуга (свободы): Как отмечал Аристотель, философия (и логика как ее часть) возникает, когда удовлетворены насущные потребности. Это "наука, ищущаяся не для употребления", самая свободная. Она требует отвлечения от конкретных жизненных интересов и погружения в "тишину мышления".
5. Логика как Наука Чистой Мысли
Предмет Логики: В отличие от других философских дисциплин (о Боге, природе, духе), логика имеет дело только с чистыми мыслями (категориями, определениями мысли) в их полнейшей абстракции, отвлечении от всякого конкретного содержания.
Место Логики в образовании: Из-за своей абстрактности логика часто изучается в юности, как подготовительная школа перед "серьезом жизни". В самой жизни категории используются как "служебные средства" для конкретных целей, их самостоятельная ценность забывается.
6. Критика Формальной Логики и Формального Подхода
Формы ≠ внешняя оболочка: Главная ошибка прежней логики – рассматривать мыслительные формы как внешние, безразличные к содержанию, как пустые схемы, которые лишь применяются к материалу. Это делает их конечными и неспособными постичь бесконечную истину.
Протест "здорового рассудка": Из-за этой пустоты ("растение есть растение") люди презирают формальную логику, считая ее бесполезной для настоящей (особенно религиозной) истины, годной лишь для "правильности", а не истинности.
Форма и Содержание нераздельны: Гегель утверждает, что истинное содержание не бесформенно, а сама форма не пуста. Форма – это душа, оживляющая содержание. Отделить их нельзя. Поэтому логика должна рассматривать не только форму, но и содержание – но не эмпирическое содержание вещей, а саму мысль как содержание, "Понятие" (Бegriff), Логос – разумную основу всего сущего, истину вещей. Это сама вещь в ее понятийной сути.
Понятие – основа всего: Есть одно абсолютное Понятие (Логос), которое конкретизируется во множестве определенных понятий. Это не чувственный образ, а продукт мышления, разумная сущность мира. Оно должно быть предметом логики, его нельзя исключать.
7. Задача Логики: От Бессознательного к Свободе
"Очищение" категорий: В обыденном мышлении категории действуют инстинктивно, бессознательно, разрозненно, запутанно. Они как "узлы" в сети нашего сознания, дающие опору, но нуждающиеся в прояснении.
Свобода духа: Задача логики – очистить эти категории, возвысить дух до сознательного владения ими, преодолеть их разрозненность и тем самым обрести в них свободу и истину. Это "высшее логическое дело". Сознание своих собственных форм мышления – ключ к свободе духа, освобождению от власти бессознательных влечений и представлений.
8. Метод: Имманентное Развитие и Трудности Изложения
Идеал: "Пластическое" изложение: Логика должна излагать развитие мысли имманентно, строго показывая, как каждая ступень с необходимостью вытекает из предыдущей, без привнесения внешних соображений. Это развитие должно быть внутренне необходимым, как в математике, но даже превосходить ее по строгости, так как мысль абсолютно свободна и независима.
Трудности на практике: Однако достичь такой совершенной "пластичности" невозможно. Начало (чистое Бытие) крайне абстрактно и требует пояснений, чтобы отсечь ложные ассоциации. Современное сознание рассеянно и требует учета возможных возражений и непонимания. Читатели часто не видят, что их возражения сами основаны на непроанализированных категориях, которые как раз и должны быть рассмотрены в системе логики позже. Особенно много непонимания вызывают первые категории (Бытие, Ничто, Становление).
Проблема "основательности": Многие требуют сначала "доказать" начало (Бытие), прежде чем идти дальше. Но это заблуждение. Такая "основательность" на деле привносит другие, непроверенные предпосылки (например, различие конечного и бесконечного). Истинное понимание приходит только в процессе изучения всей системы развития мысли, а не в застревании на начале.
Заключение:
Гегель завершает, сравнивая свою задачу с легендой о семи переработках Платоном "Государства". Он жалеет, что не имел возможности "семьдесят семь раз" переработать свою Логику, учитывая невероятную сложность задачи, глубину принципа, богатство материала и отвлекающий "шум" современной жизни, оставляющий мало места для "бесстрастной тишины мыслящего познания". Он публикует свой труд, сознавая его возможные несовершенства, но веря в его необходимость.
Дата: Берлин, 7 ноября 1831 г. (Заметим, Гегель умер 14 ноября 1831 г., это одно из его последних произведений).
Ключевые выводы для новичка из этого Предисловия:1. Гегель строит НОВУЮ Логику. Это не учебник формальной логики. Это попытка показать, как сама мысль (в виде системы категорий) развивается по своим внутренним законам.
2. Предмет Логики – ЧИСТАЯ МЫСЛЬ. Не вещи мира, а ПОНЯТИЯ, ЛОГОС – разумная структура, лежащая в основе всего. Логика изучает "скелет" реальности.
3. Метод – ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Категории не просто перечисляются, а выводятся друг из друга в процессе противоречия и снятия этого противоречия (Тезис -> Антитезис -> Синтез).
4. Цель – СВОБОДА через ПОЗНАНИЕ. Понимая необходимые законы собственного мышления, дух освобождается от власти бессознательных форм и обретает истину.
5. Это очень ТРУДНО. Гегель честно предупреждает о сложности предмета и изложения. Требуется усилие, чтобы преодолеть привычку к формальной логике и поверхностному мышлению.
Это предисловие – важный ключ к пониманию замысла и масштаба всей "Науки логики".
Субъективная логика, или: Учение о понятии.
Эта часть логики, содержащая учение о понятии и составляющая третью часть целого, издаётся также под особым заглавием: Система субъективной логики, для удобства тех друзей этой науки, которые привыкли проявлять больший интерес к рассматриваемым здесь вопросам, охватываемым объёмом так называемой обычной логики, чем к более широким логическим предметам, разобранным в двух первых частях.
Что касается прежних частей, я мог рассчитывать на снисхождение беспристрастных судей из-за недостатка предварительных работ, которые могли бы дать мне опору, материал и нить для дальнейшего продвижения. В настоящем же случае я скорее могу просить этого снисхождения по противоположной причине: поскольку для логики понятия имеется вполне готовый и затвердевший, можно сказать, окостеневший материал, и задача состоит в том, чтобы привести его в текучее состояние и вновь возжечь живое понятие в этом мёртвом веществе. Если построить новый город в пустынной местности сопряжено с трудностями, то при перепланировке старого, прочно построенного, постоянно обитаемого города материала хоть и достаточно, но тем больше препятствий другого рода; среди прочего приходится решиться вовсе не использовать многое из того, что прежде считалось ценным запасом.
Главным же образом величие самого предмета может служить оправданием несовершенного исполнения. Ибо какой предмет возвышеннее для познания, чем сама истина? Однако сомнение, не нуждается ли именно этот предмет в оправдании, не лишено основания, если вспомнить смысл, в котором Пилат произнёс вопрос: «Что есть истина?» – по словам поэта:
«С видом царедворца, близоруко, но с улыбкой осуждающего серьёзное дело».
Тогда этот вопрос заключает в себе смысл, который можно считать моментом вежливости, и напоминание о том, что цель – познать истину – есть нечто, как известно, оставленное, давно упразднённое, и недостижимость истины даже среди философов и профессиональных логиков есть нечто общепризнанное?
Но если в наше время вопрос религии о ценности вещей, воззрений и поступков, имеющий по содержанию тот же смысл, вновь отстаивает свои права, то философия, должно быть, вправе надеяться, что её стремление вновь утвердить свою истинную цель – прежде всего в своей непосредственной сфере – и, после того как она опустилась до способа и непритязательности других наук в отношении истины, вновь подняться к ней, не будет казаться столь удивительным.











