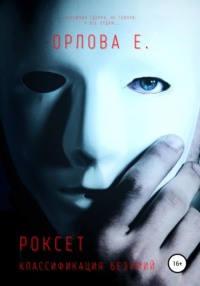Полная версия
Сказания зазеркального скомороха
И вдруг слова Аси проскальзывают в моей голове холодным отблеском:«…пропасть размером с Гранд Каньон в Америке. И я уже точно никогда и ни за что до него не докричусь…»
Если Вита найдет себе мертвоглазого парня, то я вновь останусь сторонним наблюдателем, сидящим через два сиденья от нее в автобусе. Только она уже не станет мне улыбаться как раньше. И мое сердце не станет колотиться, как безумное… А я вновь как будто усну в мыслях, представляя что мы дружим, общаемся и проводим вместе время за утренним чаем, укутанные ароматами диких ягод, корицы и дымного неясного призрачного… Я и так всю жизнь это делал. Но реальность за этот год поразила меня тем, насколько узка и неинтересна моя фантазия…
– Я дурак, да? – Поднимаю на нее неуверенный взгляд и вижу, как она добродушно усмехается с видом профессора, бездарный ученик которого все же сумел кое-как ответить выученный урок.
– Я бы сказала, что ты идиот. – Она откидывается в кресле, поджав под себя одну ногу и скрещивает руки на груди, – Но не безнадежный… Ты ж понимаешь, что другой такой в твоей жизни не будет. Ты уже год рядом с ней. Год ходишь к мертвому человеку и помогаешь ему существовать. И ты меня не убедишь, что делаешь это из праздного любопытства… Потому что я точно знаю, насколько по началу с такими как я или она сложно общаться.
– Ты не понимаешь, – комкаю и невольно рву пальцами салфетку, – Я своими глазами видел, как смерть поцеловала ей веки! Я видел, как костяное лицо склонялось к ее глазам. Таким красивым. И боялся, что когда она проснется, то я не узнаю ее потому, что она станет другой. Я всю жизнь боялся к ней подойти и заговорить. Думал она рассмеётся и прогонит.
– А когда она оказалась за бортом – ты решился?
– Я просто не смог ее оставить. А теперь она боится, что я перестану приходить и заживу своей жизнью.
– Логично. – Ася вполне рассудительно качает головой, – А ты что?
– А я не перестану. Потому что… Ну не перестану и все тут.
– Супер. – Она вдруг протягивает руку и ласково сжимает мое запястье, – Ты кстати знаешь, что по-настоящему живые люди не видят смерть и как она работает? Ее видим только мы. Потому и способны «возрождаться» глазами. Ибо она лишь часть круговорота жизни. На заброшенных могилах растут деревья и цветы, как знак ее верной службы вселенной.
Пораженно замираю, глядя на то как ее пальцы бережно держат мою руку. Понимание приходит лишь эхом ее звучащих слов.
– Кого-то из нас она забирает по назначению, а кого-то лишь для того, чтобы оставшиеся, которым на роду написано прожить долгую яркую жизнь не угробили бы себя раньше времени нерешительностью и бездействием…
– Так значит… – У меня комок подкатывает к горлу, и я стискиваю пальцы в кулаки так, что мне больно, – в тот день…
– Ты был готов. И судя по тому, что ты рассказываешь – ты мертв уже много лет… Но она забрала ее. Чтобы дать тебе шанс позаботиться о ней и понять ценность своей жизни. Чтобы ты разобрался в себе…
– Но почему именно она?
– Думаю, потому что в обратном случае она бы тоже пошла за тобой. Вы всю жизнь смотрели друг на друга исподтишка. Она чувствовала, как что-то приближается к вам. Это видно по фотографии.
В голове стоит такая тишина что мне кажется, я ощущаю невесомый шелест газовой накидки, что материализовалась рядом с Витой год назад.
– Значит она мой доброволец, который подтолкнул меня к настоящей жизни? Который вытащил? Так?
Вместо ответа Ася чуть сильней сжимает мое запястье, и я понимаю, что прав. Мороз ползет по коже липкими змеями и мне тяжело дышать.
– Прости Лука. Я не думала, что мне придется открывать тебе такую правду. Мне очень жаль.
– Теперь она придет за мой, да? – стараюсь выровнять дыхание. Руки дрожат так, что мне стыдно перед Асей, которая пытается меня поддержать.
– Она уже пришла…
Я и так знаю это. Ощущаю ее спиной… Позвоночником… Душой… И неожиданно я успокаиваюсь.
– А знаешь… – Закусываю нижнюю губу и улыбаюсь своим мыслям, – Вита вчера мне говорила что мертвоглазость – это всего лишь другой угол света, холодный и безжалостный, но просто другой угол… Меняется вид, но не суть. Суть становится заметней.
– Да. И это дает возможность вернуться. Немного другим. Но и мир не стоит на месте. – Я вижу, как слезы скапливаются в Живых Асиных глазах. И она быстро утирает их свободной рукой.
– Эй, ну не плачь… – Я чувствую дыхание на своем затылке и чуть лениво откидываю голову назад, – все хорошо. Если что мы с Витой придем завтра на концерт и будем тебе надоедать.
– Позвони мне. – Я слышу ее голос сквозь накатывающую расслабленность и негу, – я забила тебе в мобильник свой телефон и номер Наоки… Мы займем вам нормальные места.
– Ага… как скажешь… – Я сам едва различаю свой голос, ощущая, как невесомое костяное кружево холодно льдистым перышком касается моих закрытых век….
* * *
– Господи боже… Ну я и идиотка… Ну какого черта я тебя послушалась и разрешила есть свои булочки??? – Вита мечется по кухне с ног до головы обсыпанная мукой. Ее волосы чуть всклокочены и на них тоже виден мучной след, – ведь чувствовала же, что не надо этого делать…. Что может что-то случиться….
– Вита, перестань ты тут не при чем! – Мой тихий смех похож на легкий кашель. Я стою у плиты и жду, когда вскипит чайник. Мне тяжело смеяться, говорить, и вообще показывать чувства. Эмоции будто налились свинцом и не дают мне шевелиться в полную силу. Мир слегка поблек, но я знаю, что это временно. Рядом с бегающей по кухне, раздосадованной Витой мне становиться легче. А уж ее такой подвижной я не видел уже очень давно, – Это был мой выбор. Я сам захотел. Вернее, был готов.
– Что значит готов? – она подлетает ко мне, нерешительно кладет ладони на мои щеки и заставляет заглянуть себе в глаза. На их матовом пустынном дне я вижу крошечного призрака беспокойного отчаянья. Он промелькнул почти так же быстро как в неожиданно распахнутую дверь вливается солнечный свет. Но это первые эмоции, которые смогли показать ее глаза за целый год. И сердце мое подскакивает к горлу колотясь счастливой морзянкой. – К чему готов? Зачем это надо было делать???
– Затем, что я хочу смотреть на мир твоими глазами.
Она непонимающе хлопает ресницами и вдруг, будто решившись, вздыхает и прижимается ко мне, позволяя себя обнять.
– Мне стыдно… – неразборчиво бормочет она мне в предплечье.
– Почему? – осторожно путаюсь сдуть муку с ее волос, но ничего не получается.
– Потому что это ужасно и чудовищно, а я все равно рада. Ведь теперь ты останешься со мной. Больше шансов, вернее. С мертвоглазыми мало кто хочет встречаться, кроме таких же, как и они сами. А я всегда мечтала, чтобы ты был со мной.
Мир меняется резко и неуловимо. Будто включаются сжатый пружиной объем, и краски слегка нелепые и пестрые врезаются в сознание, заставляя забыть предыдущую смазанную версию бытия. Голова кружится лишь мгновение, и моя улыбка становится чуть шире и легче. Словно срезали не нужные жгуты, удерживающие ее на одном месте.
– Я знаю… Вернее теперь я это.. вижу.. хм.. нет чувствую.. или нет… В общем я пока не понимаю. Но я знаю…
– Это временно. – Вита с сожаление качает головой, но теплый свет ее мягко переливается в спектре, который я понимаю, как радость, – постепенно все встанет на места, и ты станешь отличать чувства от мыслей. У меня так тоже было. Тебе нужно подобрать очки- обманки. А то люди будут шарахаться.
– Да пусть шарахаются…
– Ну уж нет. Найдем очки. Тебе же проще будет.
– В них я буду как дурак. Посмотри на мой нос. Одев на него очки, я стану выглядеть как Бердичьевский равин! Может лучше линзы?
– А если красивые очки? От линз глаза сильно чешутся.
Чайник свистит натужно и раздраженно, и я выключаю его, разворачивая нас к окну. Там расцветает осень, и она красивая, хоть и умывается дождем почти каждый день. Но дождь ведь просто смывает прошлые теплые дни, чтобы подготовить мир к приходу холодов и неизбежному возрождению весной. Круговорот жизни. Простой и незамысловатый, который всегда знает нужный момент, чтобы сменить градус света и породить новое восприятие.
– Ну хорошо… очки, так очки… – неумело улыбаюсь ей, стараясь заставить лицо шевелиться. Хоть это и не легко, – только поедем за ними вместе, потому что я совершенно не умею их выбирать. Поможешь мне в этом?
И на дне ее матово-темных, пустынных, мертвых глаз едва уловимо вспыхивают золотистые искорки счастья.
Мускат и тмин
Мускат и тмин… Едва уловимый пряный запах вьется тонкой змейкой в стоячем воздухе. И от этого кажется, что в комнату ворвался легкий ветерок, гостивший до этого на кухне у бабушки моего двоюродного брата. На кухне между коробком спичек, пачкой соды и ржавой трескучей горелкой. Бабушка готовила непривычно, и мне казалось, что не вкусно, но мы, шалые дети с мячиком и пистолетами в руках влетали на кухню с дикими криками, красными шеями и черно-белыми кепочками задом наперед.
Мы прыгали вокруг нее: маленькой, кругленькой и птичьей головой с остреньким носиком. Мы говорим наперебой, хвастаемся куском коры, по которому ползают зеленые и бронзовые жуки, изображаем безухого соседского кота, который крался за воробьем, а поймал Левин сандалик, вытаскиваем из карманов пивные крышечки с помятыми «юбочками». Это Петя с Глебом их в песочнице нашли! Целую кучу откопали, но взяли только половину…
Бабушка смотрит на этот разноцветный гнутый мусор с притворным любопытством. Но я-то знаю, что как только мальчишки отвлекутся и забудут про крышки, то она, брезгливо сморщившись и поджав губы, выкинет наше «сокровище» в помойное ведро. Иногда я ей подыгрываю, иногда нет. А сейчас я просто вместе со всеми прыгаю по пузырящемуся линолеуму, вместо пояса у меня скакалка, недлинные волосы смешно кудрявятся, делая меня похожей на большеглазого мальчика. А Глеб, Петя, Лева, Саша и Арсений ( которого все называют Сеня) с таким презрением говорящие о девчонках в аккуратных плиссированных юбочках, (ангелушках, качающих в колясочках, заботливо укрытых одеялами, кукол, таскающих мамину губнушку и алый лак для ногтей), смотрят на меня, как на ровню. И не потому что я сестра Леве, Пете и Глебу. А потому что я лазаю по деревьям лучше, чем немного упитанный и несмелый Лева, могу швырнуть камень дальше задиристого и непослушного Пети, и первая лезу в драку с тем, кто попытается кого-то из них обидеть. Ногти у меня при этом все время обломаны, руки грязные, а коленки пестрят зеленкой.
Бабушка отправляет нас мыть руки, а сама идет звонить мамам Саши и Арсения. Она прекрасно знает, что лучшей для нас подарок – это обедать всей большой и веселой компанией. Чтобы всем смеяться, когда Глеб, (самый старший из нас ему уже скоро 7) жуя луковое перышко, станет изображать умного дядю Колю с пятого этажа. Профессор филологии Николай Васильевич Коротузиков и поныне здравствует, хотя так и не избавился от смешной привычки жевать губами, потряхивая бороденкой, во время чтения газет. Петя станет корчить рожи, и изображать разные звуки по большей части неприличные. Лева любит играть с супом рассказывая, что вареная морковка – это вражеские подводные лодки, которые есть никак нельзя, потому что они взорваться могут. Саша с Арсением будут громыхать ложками по тарелкам и исподтишка бросать друг в друга хлебные мякиши. А я буду вяло ковырять свою порцию, потому что никогда не хочу есть, и с надеждой коситься на свой стакан с компотом. Но бабушка, зная мои обычные фокусы, не поддается. И с боями отвоевывает почти 7 чайных ложек супа, котлету и чуть-чуть макарон. После этого компот в меня уже почти не влезает, а бабушка с улыбкой качает головой и говорит, что я – стрекоза. Такая же худющая и большеглазая.
У нас у всех свои прозвища. Леву называем Бамси, Петю – Пёстриком, Сашу – Фуфликом, Глеба – Умником, Сеню – Торшером, а меня или Жуком или Стрекозой. И только Лева с Сеней иногда назвали меня Женечкой. Мое имя, да еще в таком не то осторожном, не то нежном звучании казалось мне странным и чужим.
После обеда, мальчишек клонило в сон. И они мигом засыпали на огромной почти трехспальной бабушкиной кровати. А я замирала с закрытыми глазами на диване в другом углу комнаты и прислушивалась. Спать мне совершенно не хотелось, и я постепенно вливалась в плеск воды на кухне, в тихие шаги, в вежливый шепот дискового телефона, отсчитывающего цифры. Потом бабушка заходила в комнату, задергивала шторы, поправляла одеяла, поднимала с пола разноцветные носки, Глебовы шорты, и Левиного тряпичного клоуна, которого тот ронял во сне.
А потом лязгал ключ в замке, и я мигом выпрыгивала из одеяла и, схватив медицинскую энциклопедию моего дяди, или комикс про динозавров вновь забиралась в постель – рассматривать картинки. Я знала, что бабушка ушла пить чай к соседкам и раньше, чем через полтора часа ее не будет. В плотной шторе была маленькая дырочка. Хвостатый надрыв искрился солнцем и подмигивал человеческому сердцу во всех проекциях и разрезах.
Треугольный солнечный зайчик неуверенно дрожит на вечной, никогда не устающей мышце и та медленно просыпается. Со сна она неуверенно трепещет и никак не решается на первый не то, вздох не то шаг. И наконец…Чем явственней и четче бьется нарисованное сердце, тем медленней и тише живет мое. В какой-то момент оно будто останавливается, и в полумраке комнаты встряхиваются в безумных улыбках тени.
Из-за большой напольной вазы с цветами величаво шурша длинной юбкой выходит высокая очень худая женщина. У нее постное озабоченное лицо, высокая прическа, узкие глазки, ястребиный нос и эмалевые сережки в виде слоников. Она садиться за стол, и думает, что в треснувшей чашке, из которой она пьет, налито кофе. Но я знаю, что чашка пуста. И женщину мне немного жалко. Ведь она хочет казаться знатной дамой. И неумело обмахивается покрытым паутиной веером, и пьет пустоту, капризно оттопырив мизинчик, и томно вздыхает, обсуждая с часами розы, которые столетие назад цвели у кованой низкой ограды в ее саду. А часы вынуждены слушать. Длины стрелок не хватает, чтобы заткнуть уши.
– Я принес тебе компот, только, чур, ягоды мне. – Сеня стоит перед диваном в полосатой маячке и в одном носке. В руках у него стакан. И женщина, обиженно вздохнув, снова прячется в вазу.
– Я не люблю ягоды, так что забирай, – с одного края стакан был в компоте и теперь у меня липкие ладошки, – пойдем на балкон?
– Так он закрыт.
– Нет, только штора задернута.
– Баба Люба ругаться будет.
– Ну и что. Ты трусишь?
– Сама трусиха! Коза-стрекоза!
– Торшер, – обижаюсь я, и, выпрыгнув из одеяльного гнезда, ныряю за плотную занавеску. Лето обрушивается на меня духотой, быстро темнеющим небом, и капризными воплями соседской девчонки, которая называет няню дурой и визжит, что не будет есть суп, пока ей не принесут «какаву». Я усмехаюсь и прячусь от слишком огромного для меня мира, за бабушкину Любину рассаду перцев и огурцов. Здесь под ящиками у меня свой секретик. Лунный камушек в виде полумесяца, зеленая стекляшка с гладкими краями, и крошки в спичечном коробке для божьих коровок.
– Жень, ты где? – Сеня неуверенно топчется за занавеской.
– Здесь, иди сюда. Здесь очень интересно!
– И ничего интересного здесь нет! – неуверенно хмыкает Сеня, высовываясь из-за занавески, – пойдем домой, сейчас дождь будет.
– Я люблю дождь.
– Ну и сиди тут одна.
– Ну и ладно.
Дождь начинается как продолжение ветра, треплющего мои волосы, он щекочет руки тяжелыми каплями и рисует на моем смеющемся лице безвкусные слезы.
– Ты как безумный клоун, – говорит баба Люба, появляясь из-за шторы, – ну что ж ты ласточка моя не спишь?
– Я стрекоза, – шмыгаю я носом и принимаюсь расчесывать зеленочную болячку на коленке, – а стрекозы не любят спать.
– А стрекозы любят бабушкам помогать?
– Да, – не раздумывая, отвечаю я.
– Тогда пойдем со мной пирожки печь.
– Пойдем!
Моя влажная, вся в дождинках ладошка утопает в ее мягкой пятерне. Сеня, прячущийся от меня, дождя и бабы Любы под одеялом несмело косится на то, как бабушка вытирает мне голову большим махровым колючим полотенцем. А я дразню его, высунув язык…
Девочка со старым зонтиком…
На улице сегодня будто обнимает холодом…
Уже просыпаясь я вдруг вспомнила что ночь была полна дождя… Он шелестел на все лады, касаясь карикатурно мелких и редких листьев, железных облупленных слегка присевших труб-турников на детской площадке и твердолобого асфальта с жалкими ошметками снега вблизи тени от домов. Он касался мира и тот становился реальным. Я слышала голос каждой капли. Я была каждой из них и всеми ними вместе. Это я парила в невесомости прозрачным шариком разбиваясь о мир сикстилионы раз. Дождь был мной, и я была дождем. Нам это не нравилось, но и не раздражало. Мы просто дышали в такт. А теперь у меня вздрагивают пальцы, когда я касаюсь серого утра через навязчивый звон будильника. Невольно морщу нос и почти разлепляю левый глаз. Тот видит шерстяной лохматый бок спящего кота, который мелко дергается в такт визгливым трелям. – Он будто пытается стряхнуть этот звук с себя. Закрываю глаз обратно. Ну его это утро… Мне слишком хорошо, чтобы пытаться вылезать из-под одеяла…
– Витя, залезь на антресоли! И достань ее зимние ботинки… – Звонкий голос бабушки звучит молодо и игриво, заставляя меня проснуться в ту же секунду.
– Фирочка, какие зимние ботинки! На дворе весна! – Прокуренный голос дедушки заставляет меня сесть и потрясти тяжелой сонной головой. Волосы привычно щекочут плечи.
– Доставай, ей сегодня полдня по лужам бегать. В осенних она промокнет и заболеет!
– А в зимних вспотеет!
– Витя!!!
Кот, спящий на боку неожиданно зевает, потягиваясь всеми четырьмя лапами и прижимает уши, вызывая во мне нервный смешок. Протягиваю руку за теплым халатом и наконец поднимаюсь на ноги. Из узкого темного коридора тянет дымноватой блинной гарью. Деревянный пол холодит ступни, и от этого приятно щекочет затылок. Выхожу из комнаты и выглядываю на кухню.
– Привет, а вы как тут оказались? Я что опять забыла закрыть дверь?
– Нет, – бабушка во фланелевом тонком халате, надетом поверх отутюженных брюк и шелковой кофты с перламутровой камеей у самого горла, повернулась ко мне, поправляя правой рукой белоснежные пышные кудри, а левой ловко переворачивая оладья, – Витя сделал дубликат. Сам.
Последнее она произнесла с такой гордостью, что я невольно рассмеялась.
– Понятно. А ботинки зимние мне зачем? Середина апреля же.
– Холодно сегодня будет, – голос бабушки теряет веселые интонации. Я вижу, как она жует губами и смотрит в окно, и я понимаю, что говорит она не о погоде, – ты умываться иди, сверчок. Торопиться тебе сегодня некуда, но…
– Я работаю сегодня… – Настроение немного портиться. Похоже сегодня всем будет необъяснимо зябко глубоко внутри…
– Да уж знаю я… – Бабушка едва качает головой и отклонившись в сторону коридора привычно прикрикивает – Витя!
– Оу! – звонко откликается тот.
– Ты на антресоли залез?
– Ну?
– Захвати варенье с соседней полки!
– Какое?
– А то ты сам не знаешь!!! – фыркает она себе под нос, выливая гнутой ложкой на сковородку овальные островки теста.
Оставляю ее наедине с оладьями, запахом крепкой дедовской сигареты за курение которой на кухне, он явно уже отхватил легкий шлепок полотенцем по бедру и мыслями о холоде внутри людей… Она знает какой сегодня день. И Дед тоже. Они потому и пришли…
Коридор хрустит моими тремя шагами до ванной комнаты громко и со вкусом. Старый дом будто напрашивается на движение внутри него – он скучает в собственной тишине, становясь призрачным и блеклым… Таким какой я стану к сегодняшнему вечеру…
Лампочка нервно мигает пару раз прежде чем разгореться вовсю и заставить кота стыдливо прикусить язык и приподнять голову от своего хвоста, который он вылизывал, привалившись спиной к все еще работающей батарее. Вид у него становиться на редкость глупым, но Кузька не любит, когда над ним смеются. И поэтому я только наклоняюсь чтобы погладить его. Тот уворачивается и запрыгивает на полотенце, прикрывающее стиральную машинку. Показываю ему язык, мельком бросая взгляд в слегка залапанное пастой зеркало. Черты лица кажутся чуточку утрированными. Их будто слегка выделили сочными мазками краски. Я просто не проснулась до конца…
Кузька урчит в басовом регистре, пока я отфыркиваюсь от воды. Он ходит за мной как привязанный пока я одеваюсь в свежевыстиранные джинсы и простой свитер крупной вязки.
– Ксюша! – Голос дедушки гуляет по квартире ароматом махорки и чуть косолапыми согласными, – я термос принес тебе в него чай заварить с собой?
– Угу…
– Нет? Не слышу… А почему нет-то, Ксюнь, давай заварю… А то как ж ты без чаю-то пойдешь…
Распахиваю дверь, спотыкаясь о кота и выхожу к нему, стоящему с термосом в руках и стоптанных тапках. Коричневая вельветовая двойка поверх лимонной рубашки придает ему моложавый несколько жесткий вид.
– Я говорю давай заварим, – подхватываю его под руку, разворачивая к кухне, на которой бабушка подпевает приемнику, невольно бросая взгляд на рамку для фотографии висящую на стене. Вместо фотографии там черный прямоугольник, который упрямо смотрит на меня с неким нетерпением. Вздыхаю. Однажды он изменится. Так произойдет в любом случае. Только вот я не знаю: радостный это будет момент или пугающий.
– Не думай об этом, сверчок, – дедушка берет мою руку в свою большую шершавую, как будто деревянную ладонь. И слегка сжимает, – все идет, как идет.
– Да, я знаю. Я рада, что вы пришли.
На кухне как всегда тесно и немного душно. Хочется открыть окно, но я только покорно сажусь за стол наблюдая как бабушка, отрезав от батона толстый кусок хлеба сдабривает его маслом и такой огромной ложкой потемневшего от времени клубничного варенья, что оно лениво норовит убежать через край.
– Ешь. – Она протягивает бутерброд мне, облизывая короткие узловатые пальцы с тонкими лепестками длинных ногтей.
– Я что похожа на Винни Пуха? – Жалобно интересуюсь я, понимая, что отказаться от этого великолепия все равно не смогу. Даже под наркозом. От острого прохладного аромата ягод внутри все сжимается, а неважное настроение растворяется в моросящем за пока еще голыми окнами, дожде, – ты куда мне такой большущий бутерброд сделала?
Бабушка с сомнением окидывает взглядом мой не самый стройный стан и пожевывает тонкие губы.
– Эфо был философский фопрос, – ревниво заявляю я, едва не пачкаясь не только лицом, но и свитером, – все равно не отдам… И потом мне уже убегать пора…
– Сегодня бессмысленно торопиться. – бабушка кивает пока я наливаю ей чай в кружку похожую на лилию, – ты все равно будешь везде опаздывать в пути, но приходить вовремя. День такой, что поделаешь…
– Да… Сверчков сегодня будет видимо-невидимо… Вот помяни мое слово… – Дедушка достает папиросы и отходит к приоткрытой форточке. – На улице такая хмарь с грязью вперемешку, тут кто угодно заноет.
– Ой вот можно подумать ты не помнишь лета 47-го… или 64-го… ну или 79-го. – Бабушка раздраженно взбивает на затылке кудри, – Да тогда такая погода была – живи и радуйся. Да и время хорошее… И что? Шагу ступить спокойно не могли. Сразу кто-то цеплялся с просьбами. Или просто молча подходил и в душу смотрел, как на последнюю надежду…
– Это да… – Дедушка склеивает папиросную бумагу быстрым движением темного языка, – мы с тобой так и познакомились тогда. У фонтана с памятником Сталину. Ты еще тогда косу до попы носила. Я все голову ломал – откуда такие космы в полуголодное время…
Бабушка улыбается ему так что ее глаза превращаются в щелки за округлыми щеками.
– Вы надолго приехали?
Они не отвечают мне, увлекшись воспоминаниями о жаре, и толстых, но легких как пух бабушкиных косах. А так же о пятне от мороженного, которое дед уронил на брюки при виде нее… И о сломанном автомате с газ водой… И … Я чувствую, как их слова растворяются в дожде, что стал моей частью этой ночью. Будто каждый звук что-то неизбежно меняет, делая меня невероятно хрупкой…. И я вглядываюсь в потемневшие вощеные шнуры с остатками прошлогодних петуний, что ползли по ним за окнами, даря маленькой кухне тень и ощущение того что она находится внутри этакого пряничного домика. Те привязаны неровно – будто настырные побеги паутины, удерживающие наш домишко на месте… Наверно так выглядел Гуливер, захваченный в плен лилипутами. Когда я была маленькая я мечтала стать размером с фасолинку и лазать по этим канатам, обвитым сначала сочными сильными стеблями, а потом сухими шершавыми мумиями цветов, что мы высаживали каждую весну заново….
– Ксюнь, ты на работу-то идешь? – смысл заданного дедом вопроса доходит до меня не сразу. Скорее содержание я осознаю, когда он ставит передо мной крепко закрытый термос с блестящими от мелких царапинок боками.