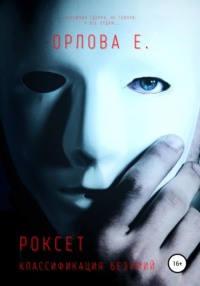Полная версия
Сказания зазеркального скомороха

Евгения Орлова
Сказания зазеркального скомороха
Пуговица
В доме пахло сном. Нет, даже не в доме, а в домике. Пятнышки солнца на стенах, словно медовые кляксы, покосившиеся окошки, по которым надо звонко стукнуть, чтобы открыть, и крыша с черепицей, с которой дружит липа.
На красной скамейке присел отдохнуть и поиграть с листьями человек с голубыми глазами и очень короткими волосами. У него длиннополый плащ и пуговица в кармане. Не от пальто, а большая, красная с желтой пластиковой косичкой по периметру. Эта пуговица не от чего. Просто вдруг пришить понадобится. Да и весело бежать по улице, зажимая ее пальцами в кармане и думать, что это просто большая семечка. И вытаскивать ее из кармана. И однажды вытащить гладкую, чуть продолговатую пуговку и понять, что она больше не красно-желтый неживой кругляшок, а то, что непременно надо закопать в свежую липкую хвою. И тогда припухшие створки покрываются светлой сеточкой трещин, и зеленоватая спинка поднимает и выламывает первый ромбик своей темницы. Такие спинки растут медленно и бутоны на них редки. Их цветы похожи на осенние листья, а листья их сторонятся. И когда проходишь мимо них, то кажется, что это просто высохшие кустики земляники с мелкими душистыми ягодами. А на самом деле это просто новые пуговки растут. Иногда мне кажется, что осень – это россыпь проросших кругляшков от пальто, брюк, юбок и прочей одежды.
Человек встал и пошел к забору, насвистывая и размахивая полами своего старого плаща. За ним помелись по земле палочки, листики, обертка от мятной жвачки и громыхающая сплющенная банка из-под пива с бычками внутри. Они всегда ходят за ним. Ведь он – их голос. Человек легко перепрыгнул через невысокий забор, а, идущие вслед, остановились у покрашенных в зеленый досок. Решили подождать. Рано или поздно он все равно вернется. А пока можно и помолчать.
В комнате тепло, и на стуле, чуть притулившись к спинке, лежит куртка с потертыми локтями и с львиным зевом в кармане. Цветы повяли с вечера, и, теперь, кажется, что они вяло, позевывают своими старушечьими ртами. Под стулом на смешном половике в треугольниках две пары ботинок. Левый кроссовок упал на бок, протянув шнурки к оранжевому треугольнику на половике. На пути у солнечной дорожки встала шишка, и теперь она изредка качалась темной кляксой на стене. Тихо. Ведь рано утром осенью птицы еще отдыхают.
– Скажи, это сон?
– Нет…
– Мне снились яблоки, и они были сладкие.
– Ты их ела?
– Нет. Я их в корзину собирала, а потом пошел снег, и я поняла, что у меня полная корзина желтогрудых снегирей. Интересно, к чему птицы сняться?
– К вестям. А яблоки красные были?
– Нет, зеленые. Я еще, когда птиц увидела, то подумала, что они созрели. Они медленно зрели и менялись. А это точно не твой сон?
– Точно. А хвосты у твоих птиц были?
– Были. Они потом еще полетели вот так. Смотри на стену.
Теневая птичка с четырьмя торчащими «перьями» на каждом крыле медленно шевелилась и оживала и под конец куда-то улетела.
– Снегири толще, чем ты показываешь.
– Да. Но других я изображать не умею.
– И не надо. Мне и так нравиться.
По стене ползет паук. Но сегодня он не пугает. А лишь заставляет хихикать и прятать ладони в рукава пижамы. Пижама смешная и детская. С голубыми звездами на розоватом фоне и с Гуффи на груди. Но зато она теплая. И Паук убегает от этого детства по стене. В моем детстве тоже есть паучок, сделанный из желудей и проволоки папой. Я называла его Мистер Паук, потому что он был в желудиной шляпке и с тросточкой.
– Помнишь, я рассказывала тебе про Мистера Паучка?
– Дай угадаю. Он жил вот в этом углу?
– Неа, вот в том. Смотри-ка и этот в левый ползет! Просто паучачий угол какой-то!
– Не паучачий, а паучий.
За окном что-то упало и два раза стукнуло. Ты сказал, что это мои снегири из сна погостить прилетели, но в дороге совсем видимо поспели и в Жигулевку превратились, а я думала, что это или шишки, или соседские груши, но вслух ничего не сказала. Только протянула руку и случайно достала из-под подушки пуговицу. Ты посмотрел на нее и рассмеялся. А потом забрал ее у меня и положил обратно под теплый подушачий бок.
– Вчера ты была такая серьезная, и сама на себя сердитая. Почему?
– Я просто устала. Наверное…
– И все-таки?
– Вчера, пока твои пуговицы не придумали мой сон, и мою жизнь заново я была грустной.
– Почему?
– Потому что я как сама как пластиковая блямбочка жила в одном возможном состоянии и ничего не понимала.
– Я просто попытался придумать для тебя что-нибудь смешное и яркое. Чтобы ты смеялась.
– А я смеюсь. Просто я также как твоя дырявая выдумка превратилась в семечко и вдруг поняла, как я счастлива…
Поможешь мне в этом?
Говорят, что смерть не трогает тех, кто ожидает приплода, и поэтому у нас в городе много детей. Маленькие, как цыплятки или крохотные бычки с упрямо оттопыренной нижней губой – они окружают своих матерей, словно туземцы божество, которое убережет племя от напасти. Но на мой взгляд это глупость. Если бы остекленевшие от недосыпа глаза могли бы отпугнуть смерть или хотя бы обмануть на мгновение, то среди студентов мертвоглазые не появлялись бы вовсе. Но такие есть везде. Они просто часть жизни. Малопривлекательная из-за поцелованных смертью век, но все же по-прежнему существующая.
Я шагаю по пыльному осеннему асфальту мимо небольших, брошенных до следующего лета домиков в окружении игрушечных разноцветных невысоких заборов, и радуюсь тому, что дожди еще не успели затянуть небесную линзу мрачным тяжелым мороком. Я не люблю, когда холодно. У меня мерзнет нос – и без того длинный и горбатый, делающий меня похожим на жителя древнего Вефлиема. Шаркаю новыми не очень удобными ботинками по асфальтовым сколам, прикидывая сколько времени осталось до автобуса и не могу сосредоточиться.
Утро… И поэтому я не могу разговаривать. Смогу только через час, когда волью в себя огромную кружку кофейного концентрата, который всегда воняет горелыми зернами. Но на работе и это сойдет. Особенно в осеннее утро и когда нет заказов. Сегодня их точно не будет. Среда неблагодарный день для фотографа и его помощника. Так что скорее всего мне так и не придется взваливать на свои плечи переносные софиты и держать отражатели занемевшими от неподвижности руками.
– Тебе обязательно идти прямо сейчас? – голос, похожий на юркого воробушка вспархивает с кончика ленивого языка, и я чувствую, как Вита приближается ко мне, неслышно ступая по извилистой корявой дорожке, сложенной из поросших мхом и лишайником каменей, что вьется по ее сонному от осени саду.
Поворачиваю голову вправо и с улыбкой смотрю, как она легко ступает по вихляющейся тропинке. Будто ее обутые в серые валенки, сверкающие голыми белыми коленками ноги, не касаются острых выступов сложенных камней. Из- под накинутого на плечи клетчатого пледа видно тонкое кружевное платье цвета слоновой кости с рукавами- фонариками. Оно придает Вите детский и одновременно нездоровый бледный вид. Черные прямые волосы тускло блестят в рваных ломтях холодных утренних лучей, что натянуты через застывший сад безгласыми струнами. На ее щеках тот же легкий румянец, что и на раскрасневшихся губах. И мне сразу кажется, что она только что пила горячий терпкий чай. Некогда яркие, лаковые золотисто карие глаза смотрят на меня матово, будто радужка расцвела внутрь самой себя, демонстрируя миру разведенную пустотой изнанку. Остановившийся мертвый взгляд. Как будто дешевые пластмассовые пуговички.
– Ты знаешь, что забыла надеть очки? – подхожу вплотную к забору и наблюдаю за ее приближением, опершись локтями на верхнюю иссохшую морщинистую от трещин рейку.
Ее лицо улыбается, оставляя глаза неизменными и это вызывает легкую оторопь, заставляя меня дышать чуть быстрее и глубже.
– А ты знаешь, что кроме тебя в это время мимо моего дома никто не ходит? Особенно осенью. – Она наконец доплывает до меня, и я улавливаю легкий аромат корицы, диких лесных ягод и еще чего-то дымного уютного и манящего. – Так ты не ответил. Тебе обязательно идти прямо сейчас?
– М-м-м… Да. Но… – Я разглядываю ее ладони. Одной она удерживает плед на плечах, зажав его концы в комок, который напоминает не то шерстяную розу, не то небрежно смятый газетный фунтик, а вторую положила не забор рядом с моим плечом… Я замолкаю на пару секунд, разглядывая кряжистые яблони и груши у нее за плечом. Они стоят как нарисованные. Невысокие с перевитыми вокруг своей оси ветками и россыпью мелких плодов, которые ждут, когда их снимут, переложат в ящик и приправят на сохранение в покосившийся кирпичного цвета сарайчик с теплым подполом. Кусты черной смородины уже начали желтеть.
Вита выжидательно склоняет голову на бок и переступает серыми валенками.
– А знаешь… Я передумал…
* * *
Вита месит тесто. Она так и не сняла своих валенок, но сменила тонкое узорчатое невесомое платье на черную рубашку и домашние джинсы. У нее строгий передник и умелые руки.
Я сижу за маленьким обеденным столом и передо мной источает жар высокая толстостенная кружка свежезаваренного кофе. Я смотрю, как Вита оглаживает пухлый теплый будто кошачий бок теста. Ее пальцы нежны. Она не похожа на многих других мертвоглазых, которые бродят по городу неприкаянными тенями. Люди невольно сторонятся их. Хоть и знают, что они не виноваты ни в чем. Просто смерть почему-то выбрала именно их, чтобы коснуться их век своими беззубыми узорчато-арочными костяными челюстями. Мертвоглазость не заразна. Но ее отсутствие – это неоспоримый плюс. По крайней мере ты не обречен на одиночество в толпе обычных людей…
– Это все от того, что обо мне заботятся… – Неожиданно заявляет Вита отбрасывая движением головы длинную прядь волос, выбившуюся из слабой косы.
– Что? – Отпиваю кофе и жмурюсь от удовольствия.
– Я не становлюсь остылым овощем с пластиковыми глазами и механическим сердцем потому, что обо мне заботятся, – Она отрывает от вымешанного ею колобка небольшие кусочки и скатывает их в забавные улиточные домики.
– Я что, думаю вслух? – удивленно вскидываю брови, отставляя кофе в строну.
Вита отрицательно качает головой, выкладывая улиточные обиталища на противень, покрытый калькой.
– Просто у тебя очень ясные мысли. Они отражаются на лице. Ну и потом я вижу других… Таких как я. В ту пекарню, для которой я готовлю эти булочки часто приходят… Ну ты понял… – она неловко приподнимает правое плечо, стесняясь произносить вслух очевидное, – Так вот те, от кого не отвернулись родственники и друзья все так же умеют смеяться, шутить, и вообще ничем не отличаются от других… нормальных…
– Мы все нормальные. – упрямо выпячиваю нижнюю челюсть, – И мертвоглазые, и те, кого это не коснулось. Никто же до сих пор не знает почему это с кем-то происходит, а с кем-то нет.
– Не сердись, Лука… – она смущенно вытирает руки о передник и подхватывает противень, чтобы усадить его в плиту, – Просто мне неудобно об этом говорить.
Встаю и открываю ей дверцу духовки, пышущую сухим жаром, и она легко задвигает булочки внутрь. Успеваю заметить, что их бока блестят яичным желтком и сахарными крупицами.
– Я не сержусь. Тебе кажется, – смягчаю тон, глядя в ее матовые пустые глаза, – так что с теми, кого все бросили?
– Они действительно мертвы… Только сердце надрывно тикает, как башенные часы: плинг-плонг… плинг-плонг… плинг-плонг…. Такие сердца даже на улице за квартал слышно… они как кузнечные несмазанные мехи…
– Мехи не надо смазывать маслом… – Включаю чайник и лезу в буфет за заваркой. Она любит мой чай, – Но я понял, о чем ты.
– Не думаю… – Она с сомнением качает головой и устраивается за столом напротив моей кофейной кружки, снимая с подоконника мисочку с сушеной голубикой, – Вы… Вы просто…. Просто не слышите, как это на самом деле…
Она отрешенно отправляет ягоду в рот… И постукивает указательным пальцем по хлопковой скатерти с вышитыми маками.
– Ты считаешь? – Ставлю на деревянную подставку заварочный чайник и надеваю на него тряпичную куклу без лица, но зато в расписном платке. Эту бабу на чайник я ей принес почти год назад. И та прижилась на Витиной кухне так, будто всегда была среди добротной старинной деревянной мебели и толстостенной посуды.
– Я это знаю. – Она берет еще одну ягодку – сморщенную будто старушечья рожица и катает ее между пальцами, – я помню, как было до… как когда мои глаза были нетронутыми… Я видела мир немного иначе…
– У тебя улучшилось зрение? Или ты теперь видишь сквозь стены? – Игриво приподнимаю бровь, выгребая из ее мисочки горсть ягод, – впрочем, извини, неуместная шутка.
– Хм… – она добродушно фыркает, легонько шлепая меня по предплечью, – ну по крайней мере это было бы забавно. Но нет. Я просто помню, что раньше мертвоглазые казались мне страшными. Они будто были отсечены от остального мира… Реальность старается от таких отвернуть свое лицо… Но на самом деле… Это просто другой угол света. Он незнакомый… холодный и безжалостный в своей беспристрастности… Но по прежнему живой и от этого он все время меняется, наполняя все вокруг новым дыханием. Люди это не видят, но порой могут ощущать.
Наливаю ей чай в чашку, стараясь примерить на себя ее слова. Я знаю, что правильное освещение может любой предмет изменить до неузнаваемости. Сам бессчетное количество раз играл с софитами, превращая хрустальный фужер в теневое отображение Эйфелевой башни, потом в блик на спине торопящегося вверх по течению лосося, затем в сухое дерево во льду и так до бесконечности.
– Честно говоря, Вита, я не очень тебя понимаю. Вернее, я улавливаю часть про угол света, но вот про жизнь не очень.
Она пьет чай, разглядывая сад за окном. Когда она не смотрит прямо в глаза, мне легче дышать. Но в тоже время я чувствую себя одиноко. Так будто передо мной сидит механический манекен. А не довольно приятная девушка. Я наблюдаю как она медленно моргает. Как белые пальцы поднимают чашку. Кухня постепенно наполняется ароматом поспевающей в плите сдобы и кажется, что Вита, как и ее пекущиеся витушки с каждой секундой обретает новые краски. Но это лишь иллюзия. Просто для меня она уже неотделима от мягкого теплого теста, которое она вымешивает по утрам. Ее губы растянуты в улыбке, но меня не обманывает ни это показное спокойствие, ни лишенные жизни блеклые пустыни глаз. Я чувствую, что она расстроена.
– Почему ты никогда раньше об этом не говорила? – осторожно интересуюсь я, отставляя свой остывший, но не потерявший вкус кофе в сторону.
– Я не знаю. Наверное, просто ты никогда не думал об этом столь явно. Вот я и не отвечала тебе. – Она врет настолько неумело, что ей самой от этого не по себе. И она морщит нос и кривит в сторону губы как от оскомины.
Беру ее руки в свои. И глажу большими пальцами.
– Вит, мне пора бежать. – я говорю это нехотя.
Мне хочется и дальше сидеть на ее кухне, чувствуя, как готовятся ее мудреные витые булочки, которые она потом повезет в большом плетеном кузовке, выложенном внутри поролоновым чехлом, прикрепленном к багажнику ее велосипеда, в пекарню. А потом, когда вернемся, вместе собирать мелкие жесткие груши и яблочки с низких деревьев в ее саду и читать книги, с загоревшими от долгих лет жизни страницами, лежа на большой кровати в единственной комнате ее крохотного домика.
– Завернуть тебе с собой поесть? – она деловито встает и отворачивается к буфету.
– Твоих булочек. Они, по-моему, как раз готовы.
– Боюсь их тебе давать. – Она неуверенно коситься на плиту, которую только что выключила, – Я же их своими руками пекла. А вдруг ты съешь и станешь, как я.
– Вит, смерть – это не заразно. Тем более, что твои булочки продают в пекарне. И уж наверняка, я так или иначе их ел. И как видишь, ничего со мной не стало.
– Ладно… – легко соглашается она, доставая из ящика буфета большой бумажный пакет. В него она складывает четыре раскаленные витушки, которые достала прямо из духовки длинными щипцами.
– Спасибо. – Забираю у нее пакет и направляюсь к выходу.
– Подожди, я чуть не забыла кое-что… – она скрывается в комнате и выходит оттуда с широким красным шарфом крупной вязки, – это тебе.
– Мне? – ошарашенно смотрю как она, привстав на цыпочки наматывает его мне на шею.
– В нем удобно прятать нос… – она аккуратно натягивает мне его на переносицу. Сразу становится очень душно.
– Да, спасибо. Но сейчас еще слишком тепло для него…
– Правда? А… ну да… – ее руки неуклюже повисают плетьми.
– Хотя знаешь мне очень нравится. Как раз сегодня вечером, если будет холодно пригодиться. – подбадриваю ее я. – Ладно, я побежал. А то я и на этот автобус опоздаю… И вот тогда уж точно будет плохо. Я зайду к тебе послезавтра, если ты не против.
– Буду рада.
Выхожу на улицу. И тут же понимаю, что ветер стал северный и ее шарф очень даже кстати. С удовольствием укутываю в толстую мягкую ткань нос и иду к калитке, когда меня настигает ее голос:
– Я всегда хотела сказать тебе спасибо за то, что ты меня жалеешь. Приходишь… И радуешься вместе со мной. Ведь я больше всего боюсь того момента, когда ты не придешь, потому что у тебя будет своя жизнь. Ведь тогда это будет означать, что я останусь совсем одна навсегда. Мало шансов что кто-то другой начнет дружить со мной. И постепенно мое сердце тоже зазвучит как несмазанные мехи. Плинг-плонг… плинг-плонг… плинг-плонг…
И от того как она произносит эти булькающе-звенящие звуки меня пронизывает изморозью от ее тихого всепоглощающего страха стать действительно мертвой еще при жизни. Ведь мертвоглазость ее по сути ничего не значит, кроме того, что вероятность такого исхода ее пути довольно высока.
Резко разворачиваюсь к ней, но она уже скрылась в доме и холодный сад ежится от ветра, будто торопя меня идти своей дорогой…
* * *
Дождь все-таки начался, когда автобус въехал в город и покряхтывая двинулся в сторону центра. Полупустой салон недовольно переговаривается, люд таращатся в телефоны, поправляют одежду и проверяют есть ли в сумках зонты. Меня они раздражают сегодня. Наверное, надо было наплевать на все и остаться с Виталиной, но стоило мне подойти к остановке, как позвонил Вадим мой шеф и спросил скоро ли я подъеду, потому как через два часа у нас будет незапланированная студийная съемка, и я ему нужен не только как осветитель, но и возможно ретушер.
Невольно поглубже зарываюсь носом в шарф.
Я знал Виту всю жизнь. Каждый день почти я видел ее в этом самом автобусе начиная с того дня, как мы оба пошли в детский сад в 4 года. С того момента прошел почти 21 год. Тогда я увидел ее впервые, сидящую на руках у своей мамы. На ней была глупая панамка в цветочек, розовые объемные шорты из которых торчали спички ног, густо утыканных зеленкой в районе коленок. Она болтала сандаликами на вырост, которые, не смотря на до упора утянутые липучки, едва не сваливались с ее крохотных ступней и ковыряла в носу. За что получала шутливые предупреждения от своей мамы на тему того, что палец у нее там застрянет и в нос врастет.
Моя бабушка, которая везла меня в тот же детсад, но в другую группу неодобрительно косилась на девочку в панамке и бормотала себе под нос, что-то из разряда понарожали, а воспитать не могут. А я смотрел, как девочка заливисто смеется и стоит своей маме забавные рожицы, сияя золотисто ореховыми глазами в частоколе из угольных ресничек. «Чего смотришь на эту капризницу, а? Влюбился что ли?» – бабушка сурово одернула меня за руку, и я отвел взгляд.
Изо дня в день… Из года в год… Я видел, как взрослеет смешливая девочка в панамке и исподтишка наблюдал за ней. Я отмечал как вытягиваются ее волосы… меняется лицо, фигура, походка… Как былая непоседливость уступает место терпеливости, неуклюжесть – стремительности, а подростковая угловатость и как следствие грубость черт смягчается и наполняется тонким светом, что притягивает взгляд.
Наблюдать за ней стало такой же естественной потребностью, как и дышать. Я знал какие книги она любит читать, сидя у вечно запыленного автобусного окна. И какая музыка играет у нее в плеере, ведь вся ее сумка пестрела значками с названием кельтских групп. Изучил весь ее гардероб и даже в какой-то момент сочетание романтичных платьев и кед стало казаться нормальным так же, как и лыжные штаны с дубленкой. И то что она всегда носит пятирублевые монетки в кармане, а остальные складывает в кошелек.
Она всегда кивала мне, заходя в автобус и улыбалась искренне, от души, и я спешил вежливо махнуть носом в ответ, совсем как бабушка учила. Мы ни разу не заговорили с ней до 8 сентября прошлого года. День, когда она на моих глазах стала мертвоглазой.
За окном было пасмурно, автобус на удивление мягко катился по свежему на тот момент асфальту. Она пыталась читать Дон Ки Хота, но сон словно нашептывал ей на ухо ласковые небылицы, и она медленно угасала в нем, постепенно закрывая глаза и почти выпуская старую, похожую на желтоватую чайку, книгу из рук. Я улыбался, разглядывая, как она будто покачивается на волнах, то погружаясь в покой, то вдруг выныривая из него и заставляя чайку пушить перья страниц и вздергивать «клюв» в виде закладки вверх. Я даже представил себе этакую фигуру, затянутую в белесый газовый морок, что истонченными в спицы пальцами перебирает ее волосы, заставляя те падать на лицо и тихонечко дует ей на затылок, как Оле Лукое из сказки Андерсона, чтобы тот потяжелел, и она бы уронила голову, отдаваясь сну без остатка. Я так увлекся своей фантазией, что невольно разглядывал все новые детали… Расшитое жемчугом, бисером и кружевом покрывало на голове. Резную узорчатую кость, настолько искусно сочетающую в выточенных рельефах и птиц, и рыб, и деревья, и людей с животными и насекомыми, что она теряла весь свой ужас, выступая в роли лица.
Девушка вдруг действительно уронила голову на грудь, расслабив пальцы настолько, что книга почти выскользнула из ее руки. И тут фигура, укутанная мороком, бережно приподняла ее лицо за подбородок. И чуть повернула к себе… У меня волосы на руках встали дыбом, когда я осознал, что резная кость с похожим на кружево беззубым провалом рта, касается спящих глаз. Сердце прыгнуло в горло, а дыхание исчезло от страха, что призрачная фигура поймет, что я ее вижу… Девушка не шевелилась, продолжая спать, и я чувствовал, как замирают ее трепещущие от быстрых снов веки. Словно превращаются в тяжелые покрывала, которые вешают на окна, прячась от зимы…
Костлявая, тем временем, развернулась ко мне и изучающе уставилась узкими ребристыми прорезями на месте глаз. Я с трудом заставил себя отвести взгляд и смотреть на спящую, впитывая каждый ее вдох, движение волос, чуть приоткрытые расслабленные губы. Она была красива и жива. И то и другое в ней было не канонным. Но таким родным и привычным, что мне было страшно – вдруг она откроет глаза и станет совсем другой. Отстраненной, холодной и мертвой.
Книга выскользнула из ее руки, кувыркнулась в воздухе, будто нарочно исполнив ненужный кульбит и стукнулась от пол с таким звуком, что мне показалось будто на рыхловатую сухую землю с неба упал довольно тяжелый камень. Она вздрогнула выпрямилась и лишь потом медленно, будто впервые в жизни открыла глаза. Сидящая рядом с ней фантазия моя из кости и газовой накидки растворилась без следа, оставив ей на память о своем убаюкивающем шепоте мертвый взгляд похожий на дешевые пластиковые пуговички, которые не каждой хозяйке придет в голову хоть на что-то пришить.
Мое сердце, которое до этого колотилось в горле теперь похоже решило и вовсе выскочить наружу. Она непонимающе озиралась вокруг. Люди пока не заметили той перемены что произошла в ней. Но было ясно, что случившееся, хоть и осталось для нее загадкой, но все же заморочило ее, спутав мысли и чувства. В какой-то момент она посмотрела прямо на меня. Мертвые глаза отрешенно моргали, будто вытягивая из нее силы и эмоции. Но я чувствовал, что она жива. И не потому что пока не знает. Просто свет, обычно игриво мерцающий в ней, теперь лился слабым слегка равнодушным потоком.
Я сам не помню, как встал, подошел к ней и тихонько сказал:
– Тебе нужны очки. Они хорошо блестят, если чистые.
Она непонимающе смотрела в меня, и мороз по коже бежал от этого пустого взгляда. Наконец, она полезла в сумочку, неумело расстегнула внутренний кармашек и достала оттуда зеркальце.
– Есть кому о тебе позаботиться? – я незаметно протянул ей платок, видя, как от подступающих слез у нее некрасиво сморщилось лицо.
Она отрицательно покачала головой и занавесилась волосами, чуть слышно вздыхая, когда большая капля упала ей на тыльную сторону ладони, в которой она комкала платок.
И после этого все решилось, само собой. Я просто не смог уйти и забыть. Первые несколько месяцев Вита боязливо топорщилась в моем присутствии и шарахалась в сторону от любого резкого движения. Но постепенно мы привыкли, и наши, по началу редкие мучительно-молчаливые, посиделки превратились в разговоры по душам и неуклюжую заботу друг о друге. Нет никакого логичного объяснения этому. И по большому счету нам не за чем общаться. Но в тоже время, без ее мертвых глаз у меня не колотиться сердце. И кажется, что мир теряет часть звуков и оттенков, а мне без них однобоко и неуютно существовать…