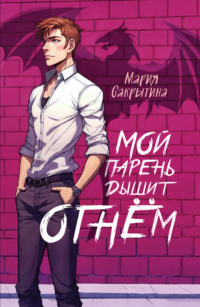Полная версия
Сказание о Шамирам. Книга 1. Смертная
Сам собой встает перед глазами город – тот, что горел. Сейчас он окутан лиловым сумраком. В воздухе кружатся розовые лепестки, солнце гаснет, бросая последние лучи на статуи ягуаров и лазурь ворот.
Под ногами вниз убегает мраморная лестница. Уверенная, что все это сон – а что же еще? – я шагаю на первую ступень.
Глава 6
Скованный
СаргонНенависть плотным туманом окутывает великий Уру́к и дымом горчит на языке. Она пьянит, валит с ног, как пиво в Нижнем городе. Я чувствую ее каждое мгновение – но сейчас сильнее всего.
По Крепостной улице кони ступают медленно: народ должен увидеть своего царя и выказать ему почтение. Народ видит: я жив, я силен. И безоружен – потому что доверяю вам, урукцы. Ради вас я, возлюбленный Шамирам, отказался от своей богини. Для вас я живу – и умру, если понадобится.
Конечно, я давно не молод, но годы подарили мне опыт, а не забрали силу. Я готов хоть сейчас вести армию в бой. Нам не страшны ни демоны пустыни, ни дети Черного Солнца, ни жрецы Земли Кедров. Вместе мы могущественны. Вместе – непобедимы. Любите меня, урукцы, большего я не прошу!
Все это ложь. За поясом у меня спрятан отравленный кинжал – безоружным я не бываю никогда. Особенно если выезжаю в город. Пусть чернь считает меня подобным богу, но и богами люди бывают недовольны. Я же, в отличие от небожителей, не бессмертен.
Никому нельзя сомневаться в моем могуществе. Никому не нужно знать, что я вижу дворцовые стены слишком четко – каждый завиток волос вырезанных в камне богов и героев. Но то, что творится под копытами собственного коня, в моих глазах расплывается. Стоит хоть кому‐нибудь проведать о моей слабости, и я погибну.
С любви начиналось мое царствование. Меня чествовал народ, превозносила армия. Меня полюбила сама великая богиня.
А кончается все ненавистью.
Как любопытно стелется полотно судьбы: некогда с той же страстью и по моему слову урукцы ненавидели прежнего царя, Лугальзаге́си, славного отца моего. Сыновей у него хватало как законных, так и рожденных от блудниц. Мне еще повезло – меня отдали на воспитание садовнику. Кто‐то так и не выбрался из рабства, кто‐то еще ребенком сгинул в гареме. А кого‐то убил я, когда сел на трон.
Царя же растерзала толпа. Интересно, что он почувствовал, когда понял, что венец достанется его ублюдку?
Мысль об этом до сих пор ласкает меня, как свежий ветер в жаркий полдень. Я все прекрасно помню: был вечер, нежный, как грудь блудницы, и такой же ароматный – смердел от пота и благовоний. Я стоял на ступенях храма Шамирам, смотрел, как беснуется на площади чернь, и думал, что счастливее не буду никогда.
Сейчас все грозит повториться – только убивать будут меня. Народ, видите ли, подыхает от голода. Хлеба им! И чистой воды. Царь, ты же говоришь с богами, так попроси их! Кого они послушают, как не тебя?
Глупцы. Боги слышат лишь себя и поступают, как угодно им, а не смертным.
Как же, оказывается, длинна дорога от храма к дворцу – никогда не замечал. Повсюду мрачные взгляды. Простолюдины лежат ниц, а все равно смотрят. И лежат не как раньше, а без почтения. Твари. Полу́чите вы свой хлеб – вечером, на празднике во славу Шамирам. Если я накормлю вас сейчас, меня ославят слабаком. Царскую милость нужно заслужить, я не могу раздаривать ее направо и налево. Стоит дать слабину, как это моментально станет известно соседям. Царь Черного Солнца мечтает отомстить, его армия давно у наших границ и перейдет их со дня на день. Минуло то время, когда я гонял этих лысых паршивцев по лугам до самой пустыни, точно псов с поджатыми хвостами. Сейчас я с трудом сижу в седле, а псы огрызаются. Малейший намек на слабость… Но черни плевать – лишь бы кормили.
Что ждать от простолюдинов!
Например, бунта. И я жду. С тех пор как Шамирам исчезла, жду каждый день. А вот вы – все вы – моей смерти не дождетесь. Я сгною вас в темницах, отправлю на плаху, а сам выживу. Я всегда выживаю.
Но как же тошно! В глазах плывет. Все из-за проклятого пира вчера: пока род Энва́за напился и сдох наконец, уже было за полночь. Сегодня от вина стучит в висках, а поясница ноет так, что хоть кричи. Но после полудня станет еще хуже: придет моя вечная спутница, верная любовница – головная боль.
К демонам все. Чествование Шамирам уже этой ночью. Терпеть осталось недолго. Поклонюсь статуе богини, расскажу, как мы ждем не дождемся ее возвращения из нижнего мира. Как я изнываю – тоскующий, несчастный возлюбленный. Ложь, снова ложь – цветущий сад, за которым я ухаживаю тщательнее, чем приемный отец – за царскими кустами в моем детстве.
– Царь! Великий энзи́ [2]! – вздымается вдруг над толпой.
Старушечий дрожащий голос разрезает тишину, и сгорбленная фигурка простирается перед копытами моего коня. Тот, всегда спокойный, пугается, встает на дыбы. Меня подбрасывает, спину пронзает боль. Все силы уходят на то, чтобы держать лицо и продолжать благостно улыбаться. На самом же деле я думаю, что подлая старуха наверняка из Черного Солнца и все подстроено, чтобы сделать мою слабость очевидной. А может, это и не старуха вовсе? Мужчины в Черном Солнце тонкие, женоподобные, а их лазутчики – искусные лицедеи. Наверняка это переодетый лицедей. Интересно, сколько он заплатил первому из «тысячи»? Надо узнать и перебить цену. Даже «тысяча», пусть они и лучший отряд моей стражи, продаются. Мне нужна их верность, а золота после гибели Энваза в казне прибавилось.
Золота, которым я куплю себе жизнь и пару месяцев спокойствия.
Старуха поднимает голову, бросает на меня испуганный взгляд и кряхтит:
– Смилуйся, царь!
Дальше – набившая оскомину песня: «Помоги – голодаем – умираем».
Стражники хватают ее под локти, но я делаю знак, чтоб отпустили. Не так царю нужно говорить с народом, который молит о помощи. Улыбаюсь, снимаю кольцо – то, что смазано ядом, бросаю. Смотрю, как старуха хватает его дрожащими руками. В голове мелькает: а вдруг не лицедей, вдруг правда?..
И что? Если так, то она пожила достаточно, все равно вот-вот сдохнет. Но это вряд ли, скорее одним лазутчиком Черного Солнца станет меньше.
Смерть придет за каждым, и, если верить жрецу-провидцу из Земли Кедров, ждать осталось недолго. Обрадовал меня сегодня, ублюдок чернокожий. Пришлось поджарить ему пятки, только тогда он изволил пророчествовать: «И года не пройдет, как земли твои станут пустыней». Стройно сказал, как пленники над пламенем обычно не говорят. Не будь под ним огня, я бы не поверил. Решил бы, что проклинает перед смертью. Колдун, как и все приморцы.
Но проклятья жрецов не действуют мгновенно, а мне этим же утром принесли донесения о еще двух пересохших каналах. В других городах так же: вот в Уппуре вода упала на три локтя, хотя сезон ветров едва начался.
«Кто нам поможет? – спросил я провидца. – Если боги гневаются, какая жертва их умилостивит?» С богами всегда так – они жадны не меньше людей. А покупаются иной раз куда дешевле.
Жрец уже дохлый над пламенем висел, но в дыму я увидел ответ: Шамирам, украшенная цветами, как невеста, ласково мне улыбнулась. Я подумал тогда, что боги лукавили, когда посылали со жрецом это пророчество. Сложновато Шамирам будет спасти нас из нижнего мира. В любом случае катись все к Эрешкигаль. Уж я‐то выживу.
Я всегда выживаю.
Кони чинно шагают к дворцовым воротам. Каждое движение отзывается в пояснице ослепляющей болью – мне остается только надеяться, что вечером станет легче. Праздновать чернь любит, особенно во славу великой защитницы Урука. Церемония в храме и пир с дармовыми хлебом да пивом должны их отвлечь.
Но наступает вечер, и вместо меня повсюду царит Шамирам. Уж на что моя власть велика, но избавиться от ее статуй я не могу – бунт вспыхнет мгновенно. Попытался как‐то утром из собственной спальни ее бюст убрать – чудится, будто смотрит, – так придворные решили, что меня пленил демон, а весь Урук шептался, будто великий энзи обезумел. И действенный рецепт нашелся, как от того демона избавиться: нужно только одну травку царю в вино добавить, он и не заметит. Всех демонов отпугнет. Вообще всех.
Ту травку я потом и правда в вино добавил – и впрямь прекрасно она галлу отпугивает. В том числе тех, кто слухи распускает и царскую власть не чтит.
Но статую пришлось вернуть и три дня потом в храме Шамирам каяться. Как будто богине есть до этого дело, как будто она меня из нижнего мира услышит! А еще, конечно, заплатить Верховной жрице, Эн-Рами́не. Неубиваемая гадина. Сколько раз я ее травил, и все без толку. Возвысилась уже после ухода Шамирам – даже интересно, как бы они друг друга вынесли. Была бы пылью у ног богини, не больше. Зато сейчас свысока смотрит, будто она повелитель Ишта́рии, а не я.
Последний солнечный луч тонет за горизонтом. Вспыхивают в алом свете золотые перила церемониального паланкина – не могу я приехать к храму Шамирам на коне. Пытался, конечно. Саму Шамирам это нисколько не волновало, а вот Рамина, став Эн, объявила, что такое нарушение церемониала оскорбляет богиню. Как будто мужчина, воин, собирается великую госпожу взять силой. Взять силой Шамирам! Ничего смешнее в жизни не слышал.
Пришлось вернуться к паланкину – только для церемоний. Сейчас я Рамине даже благодарен – мне так худо, что в седле я бы вряд ли усидел.
Дело в противоядии. Меня всегда от него мутит. Но лучше так, чем смерть. А что на обеде с послом из Черного Солнца меня пытались отравить – так это естественно. У господина Тута яд давно стал доброй традицией. И ведь каждый раз новый. Чтоб он сам от него подох! Я сколько раз наши кубки менял и блюда требовал со мной делить – нет, не травится. Как скорпион – эти твари такие же живучие. Или скарабеи, его покровители. Жуки навозные.
Посмотрел Тут на трупы энвазинов [3]– я приказал живописно их вокруг нашей беседки развесить. И чтобы голова их патриарха прямо над столом, там, где Тут сидел, болталась. Она и болталась. И смердела так, что мне кусок в горло не лез. А уж от мух спасения не было – впрочем, они и раньше на благовония Тута слетались.
Посла Черного Солнца трупы не смутили. Да, на заговор энвазинов он деньги давал и с их патриархом только вчера днем беседовал, но в том он ни за что не признается. И головой бывшего союзника Тута не удивишь. Он лишь поморщился и изящно намекнул, что мой вкус на украшения оставляет желать лучшего. Но чего ждать от бывшего садовника?
И ведь не травится. Никак не травится! Еще и здоровье у него отменное.
Гонг звучит протяжно, величественно. Рабы трогаются с места, мягко и плавно. Можно закрыть занавески – в таком сумраке сквозь них не видно, что я не молитвы читаю, а на подушках лежу. Хоть пару мгновений сна…
Опять чудится запах мертвечины, но тут же в нос ударяет аромат цветов. Вдалеке звучат приветственные крики и песни – статую Шамирам, главную, которой мы молимся, выносят из внутренних покоев храма, где Рамина и жрицы-иши́б [4] проводят над ней необходимые обряды.
Поскорее бы все закончилось.
Меня пробивает дрожь, откуда‐то веет морозом, словно ветер с гор решил порезвиться на нашем празднике. Глупости, это все от противоядия, будь проклят Тут и вся его земля. Будь все они про…
– Неважно выглядишь, царь.
Кинжал я опускаю вовремя – бога им даже не поранишь.
– Господин Дзумудзи.
Он в любимом образе нищего юнца: лицо покрыто пылью, грязные лохмотья висят на тощем теле. Только глаза – яркие, живые и совсем не детские.
А когда улыбается – это оскал мертвеца.
– Больше не пытаешься заколоть меня, Сарго́н? – Он сидит, скрестив ноги, как жрец во время медитации. Довольный, спокойный, насмешливый. – Быстро учишься. Всего‐то двадцать лет прошло.
Потом, не глядя, запускает грязные и тонкие, словно паучьи лапы, пальцы в блюдо с фруктами и добавляет:
– Народ голодает, но царя это не касается, верно?
– Что вам угодно, о великий? – Я стараюсь, чтобы голос звучал ровно. Только богов мне не хватало! Но гнев выказывать нельзя, как и любые другие чувства. Дзумудзи уже проклял меня однажды – мне хватило. И надо бы встать на колени, но меня вдруг скручивает приступ тошноты.
– Мне? Где твое почтение, смертный? – потешается бог в образе мальчишки. – Почему не падешь передо мной ниц?
Его смех – как стон ветра в скалах. Или молот кузнеца – мне по вискам. Я не выдерживаю, морщусь.
Рабы-носильщики не замечают, что паланкин стал тяжелее (а весит Дзумудзи немало, я помню). И «тысяча» не обращает внимания, что царь больше не один. Даже позови я слуг – и они будут смотреть на бога, но в упор его не видеть.
Если Дзумудзи решил меня помучить, он своего добьется.
– Что вам угодно? – повторяю я, пока бог, который зачем‐то притворяется мальчишкой, с наслаждением обкусывает кисть винограда. – Меда? Золота? Женщин? Крови? Я дам, только забудьте обо мне, как двадцать лет назад.
Нищий мальчишка поднимает брови и кривится:
– Уй, как непочтительно. Я могу обидеться.
– Вы обижены на меня давным-давно, о великий.
– И мог бы сделать тебе очень больно… – задумчиво произносит Дзумудзи своим настоящим голосом.
Я не вздрагиваю, хотя глас божий с непривычки пугает. Но я как раз привычен. Чернь права: когда‐то я и правда разговаривал с богами. Дзумудзи мне даже отвечал. Сейчас я позволяю себе усмешку – совершенно искреннюю. Наверное, такую же кривую, как у бога.
– Могли бы, но не сделаете, о великий. – И уверенно добавляю: – Шамирам будет недовольна.
– После того, как ты вздохнул с облегчением, стоило ей исчезнуть? – зло говорит Дзумудзи. – Думаешь, моей жене это понравилось? Смертный, ради которого она спустилась в нижний мир, ничего не сделал для ее возвращения.
– Вы тоже, о великий, – в тон ему замечаю я.
Дзумудзи не спорит. Все знают, что Шамирам являлась к нему, преследуемая галлу, и молила спуститься к Эрешкигаль вместо нее. И что же? В отвергнутом муже проснулась гордость – он отказался. Я, когда услышал, сперва не поверил: Дзумудзи, который был готов на все, лишь бы вернуть неверную женушку, – отказался?
Выходит, не на все.
Паланкин несут по Крепостной улице, на этот раз шумной: чернь радуется, чернь танцует. Еще недостаточно пьяная, чтобы славить меня, но достаточно веселая, чтобы вспомнить, что Шамирам, быть может, бродит где‐то здесь в поисках нового любовника. А вся эта история о подземном мире, куда богиня спустилась ради царя, – сказка. Какая дура, тем более богиня, согласится умереть ради смертного?
Дзумудзи улыбается. Про него сейчас молчат, хотя раньше в ходу были шутки о бессильном божке, который не в состоянии удовлетворить страстную женушку.
Меня снова пробирает дрожь. Пот течет по лицу, внутренности скручивает в узел… Потом вдруг отпускает. Я вздрагиваю, заметив руку Дзумудзи на моем животе.
Бог усмехается и убирает ладонь. Молча.
Над толпой взлетает: «Слава Саргону! Слава нашему щедрому повелителю!» И глухой звук стукающихся друг о друга кувшинов.
– Решил превратить чествование Шамирам в попойку? – Дзумудзи отодвигает занавеску и морщится.
– Ей бы понравилось, – насмешливо говорю я.
Бог в образе мальчика закатывает глаза и тянется за золотой чашей с медом. На ней – письмена страны Черного Солнца. Что‐то про удачу и благоденствие. Я бы не стал оттуда пить, но Дзумудзи отравить человеческим ядом невозможно, я отлично это помню. Не раз пытался.
– Зачем вы здесь, о великий? – снова спрашиваю я. Чем скорее он соблаговолит признаться, тем спокойнее мне будет.
Дзумудзи облизывает перепачканные в меду губы и высокомерно отвечает:
– Захотелось поболтать, прежде чем вы все сгинете.
– Сгинем? – удивляюсь я.
Дзумудзи хохочет – его смех ввинчивается в уши, словно кинжал, который все поворачивают и поворачивают, чтобы клинок вошел глубже.
Тем временем паланкин проносят через Лазурные ворота. Ягуары Шамирам, украшающие створки, скалятся так похоже на настоящих, что я словно наяву слышу их рык. «Не бойся, они совсем-совсем ручные, – всплывает в памяти сладкий голос богини. – Как и я». Шамирам была какой угодно, только не ручной. А ее ягуары не раз пытались растерзать даже Дзумудзи. При мне.
– Вы хотите жертву, о великий? – нарушаю молчание я.
Шамирам запретила человеческие жертвоприношения, но когда она исчезла, я посвятил себя Мардуку, и порядки в Уруке изменились.
По лицу мальчика пробегает тень, черты плывут, делаются старше… На мгновение. Потом Дзумудзи, отодвинув занавески, смотрит на статую Шамирам в фонтане посреди площади и усмехается.
– Подаришь мне своего сына, Саргон?
Я едва не смеюсь от облегчения.
– Живым или мертвым?
Дзумудзи поворачивается ко мне, смотрит с любопытством.
– Есть хоть что‐то, что ты ценишь больше собственной шкуры, смертный?
Значит, это была всего лишь божественная шутка. Жаль! Я было уже представил, как устрою из жертвы никчемного царевича спектакль и получу покровительство самого господина бури.
Дзумудзи презрительно морщится и прикладывается к чаше. Жмурится – мальчишеские черты снова плывут, а мне чудится запах дыма. Но нет: когда чествуют Шамирам, в воздухе витают только ароматы меда и цветов. Дзумудзи не посмеет осквернить праздник жены даже такой малостью, не то что моей пыткой.
Однако исчезать он тоже не собирается.
– Каково это, Саргон? Знать, что ошибся. Ты мог бы править, не боясь бунта, как возлюбленный дочери Неба. Ты был бы всесилен. – Голос бога чарующе прекрасен, в нем тоже слышен соблазн, как у Шамирам… но иначе. – Ты больше всего на свете любишь, когда славят тебя. А теперь тебя ненавидят. Кто ты без моей жены? Садовник на троне.
– Оставьте меня в покое, – прошу я едва слышно: ликующая толпа как раз приближается к золотой лестнице храма, откуда уже спускается, медленно и торжественно, богиня. Точнее, ее статуя в руках жриц. – Чего вы хотите, великий Дзумудзи? Я дам это вам. Вы зря меня ненавидите – мы оба выиграли от исчезновения Шамирам.
Взгляд бога темнеет, а в голосе рычит буря:
– Я бы с удовольствием посмотрел на тебя, царь, после того как Шамирам бы с тобой расправилась.
– А что, уже нашелся дурак – царь или бог, – решивший умереть ради нее?
Дзумудзи мрачнеет.
Последние мгновения мы молчим. Снаружи звучат флейты и арфы, чернь пляшет и славит богиню, а в паланкине царит напряженная тишина. Бог цедит мед и задумчиво смотрит. Я пытаюсь не согнуться пополам от вернувшейся боли.
Наконец паланкин ставят на землю. Не дожидаясь слуг, я распахиваю занавески. Дальше пешком – всего десять шагов до первой золотой ступеньки. Статуя Шамирам уже стоит возле нее, гордая, надменная.
А ее муженек, вечный страдалец, смотрит на меня с усмешкой. Золотая чаша сверкает в его руках, вырезанные на ней крылатые демоны щерятся. Я словно наяву слышу их рык. Затем отворачиваюсь.
– Бедный Саргон, – раздается мне в спину. – Как же ты будешь простираться ниц перед моей женой? Ты же еле стоишь!
Я невольно оглядываюсь и чуть не вскрикиваю, когда поясницу, словно раскаленный прут, обжигает боль.
– Надеюсь, ты выживешь, Саргон, – продолжает Дзумудзи. – Мне и делать ничего не нужно, чтобы ты страдал: ты всего лишь смертный. Живи, познавай старость. Вижу, это весьма болезненно.
Я стискиваю зубы, одновременно борясь с тошнотой. Перед глазами вспыхивают звезды, сладкий воздух душит…
Я не сразу понимаю, что повисшая над площадью тишина мне не чудится. А когда понимаю, сердце скачет в груди, и я тянусь за кинжалом. Все‐таки бунт? Неужели сейчас? Взгляд мечется: почему никто не двигается? Я сошел с ума? Это видения? Проклятье Дзумудзи?
А потом я вижу, что Шамирам две. И могу поклясться, это правда: одна, золотая, смеется надо мной – до нее лишь десять шагов. Другая, живая, замерла на вершине лестницы. Ветер играет ее бесстыже распущенными волосами, а глаза ярко горят – все как я помню.
Она смотрит на нас. Мы – на нее.
В воздухе разливается предвкушение.
Сердце ухает вниз, я невольно делаю шаг назад и спиной прислоняюсь к паланкину. Звенит по мраморным плитам площади золотая чаша. Не в силах стоять, я хватаюсь за дверцу и оборачиваюсь.
В это же мгновение в воздух взмывает ликующий вопль – все кричат в унисон. А мне кажется, будто набат звонит к моим похоронам.
Богиня исчезает, но это уже мало кого волнует. Шамирам жива, она вернулась! Она всех спасет…
Я перевожу взгляд на Дзумудзи – он комкает в руках несчастную подушку, ткань плавится и расползается под его паучьими пальцами.
Наши взгляды на мгновение встречаются. Серый, как мертвец, бог исчезает, а я падаю в паланкин.
Небо, защити!..
Глава 7
Решительная
Лена«Никакой это не сон», – понимаю я, когда от жаркого воздуха спирает дыхание и кружит голову. Душно-сладкий аромат забивается в нос, как вата, а перед глазами плывет закат, непривычно мягкий, как на картине.
Я сглатываю и часто-часто моргаю. Лучше не становится. Вид вокруг настолько невероятен, что просто не укладывается в голове. Я воспринимаю его осколками: зубчатые стены, синие ворота, толпа. И тихо. Ненормально тихо для такого скопления людей. Мне чудится, что все они смотрят наверх – прямо на меня.
По спине течет пот. Я невольно ежусь, зачем‐то поправляю волосы – их принимается трепать ветер.
И вдруг тишина взрывается. Люди внизу кричат так громко, что мне кажется, лестница подо мной вздрагивает. И я тоже вздрагиваю, отшатываюсь и падаю на кровать.
Вокруг снова темно, мрачно, холодно, а с фотографии на стене знакомо улыбается мама в пляжном платье. Я держусь за нее взглядом и дышу сначала тяжело, загнанно, потом все медленнее и тише.
Все хорошо. Все в порядке. Я дома.
Что это было?
Взгляд падает на зажатую в кулаке подвеску-камень. Она пульсирует и стучит: тук-тук, тук-тук. Словно сердце. Я озадаченно смотрю на нее пару мгновений, потом поворачиваю в поисках места для батареек. Не само же оно так сияет?
Ничего похожего на отверстие для аккумулятора – выходит, само.
Камень сияет. Я побывала… где? И… как?
Господи, я сошла с ума!
Тут в глазах окончательно темнеет. В себя я прихожу почему‐то на полу. Холодно, у меня чертовски затекли плечи, и голова просто раскалывается. Сияющая подвеска продолжает постукивать: тук-тук, тук-тук.
Да-а-а, Лен, поздравляю: ты спятила!
Странно, но эта мысль не вызывает никаких эмоций, кроме разве что любопытства. Спятила – это как? И что теперь делать? Наверное, я просто исчерпала весь запас чувствительности. В общем, я кое‐как, держась за мебель, встаю. Шатаясь иду на кухню, глотаю сразу две таблетки болеутоляющего и открываю поисковик. Что там про галлюцинации пишут?
М-да. Чего только не пишут. Лучше б я этого не читала. Все ясно: завтра бегом к врачу. Дорогу в ближайшую поликлинику знаю: мама болеет часто, к врачу вожу ее я. Знаю, обычно все наоборот, но у нас в семье так. А теперь я просто позабочусь о себе, а не о ней. Впервые. Но ничего же сложного? Совсем ничего. Подумаешь, психиатр. С кем не бывает! Только нужно подготовиться и объяснить, что именно со мной происходит. Галлюцинации? Ну да. Какие? Пульсирующий камень и странный город. Что послужило толчком? Да черт его знает!
А правда – что?
Через час до меня доходит: дело в желании и камне. Если держать подвеску в руке и сильно-сильно хотеть увидеть город – он появляется. Причем всегда разный. То есть место разное: если из спальни – то мраморная лестница. А если из кухни – то сад.
Сад, кстати, красивый. Я позволяю себе сделать пару шагов по каменной дорожке, задираю голову и любуюсь силуэтами пальм на фоне ночного звездного неба. Галлюцинации мои – значит, ничего страшного со мной не случится. Надеюсь.
Надежда умирает на повороте, где я, оступившись, падаю в колючие кусты. Вокруг покачиваются удивительно большие и упругие, словно пластиковые, цветы вроде лилий. Одна запутывается в волосах, и я случайно приношу ее домой, когда возвращаюсь, вся исцарапанная и больная.
Кажется, таблетки перестали действовать. Вдобавок меня еще и тошнит.
За стеной тем временем начинают греметь посудой соседи. Выходит, уже шесть утра. А что, если?..
Пять минут спустя, кое‐как приведя себя в порядок, я стучусь в соседскую дверь. Открывают неожиданно быстро – похожая на ощипанную курицу женщина в ярко-алом халате с розами, от которых у меня немедленно начинает рябить в глазах.
Сглотнув, я выдавливаю улыбку и протягиваю лилию.
Соседка моргает.
– Это мне? – У нее прокуренный хриплый голос.
Меня снова тошнит, поэтому вместо ответа я с трудом киваю, заставляя себя внимательно следить за ее реакцией.
Соседка неожиданно улыбается. Это так красиво, что я на мгновение застываю.
У нее даже голос теплеет.
– Спасибо, – осторожно говорит она. И добавляет: – Никогда таких цветов не видела.
В глубине ее квартиры раздается грохот, я вздрагиваю – и прячусь за своей дверью. Потом опускаюсь на коврик, сжимаю голову руками.