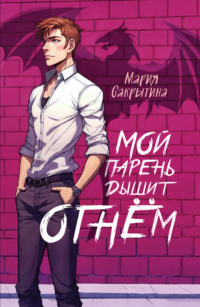Полная версия
Сказание о Шамирам. Книга 1. Смертная
Эм… Богиня? Уж не та ли, что мужу изменяла?
– Эй. – Я осторожно кладу руку торговцу на плечо, и он вздрагивает. – Богиня чего?
– Любви, – шепчет он.
Я снова смотрю на обнаженную грудь статуи, на соблазнительную улыбку, взгляд с поволокой и изгибы – моей, черт возьми! – фигуры, так сладострастно изображенные скульптором. Он, наверное, пока это ваял, весь пребывал во власти эротических фантазий. Обо мне. В смысле, о Шамирам. Богине.
Меня накрывает истерика.
Любви! Ну конечно! Любви! Чего же еще? Это называется любовью, когда мужчины от моего взгляда теряют разум? Или когда хотят меня изнасиловать? Или…
Тут по площади проносится жуткий звук – как будто кошке на хвост наступили, и она воет. Я поднимаю голову – конечно, никакая это не кошка. Это местные трубы. Как в фильмах: герольды сообщают о том, что прибыл король. Здесь вместо короля процессия из трех паланкинов и десятка конной стражи. Паланкины тащат рослые носильщики, и вид у них при этом невозмутимый настолько, словно они просто на прогулку вышли.
Люди перед ними расступаются, причем не вставая с колен. Картина настолько сюрреалистичная, что мой мозг отказывается ее воспринимать.
Наконец вся процессия – с помпой, очень торжественно – останавливается неподалеку от фонтана. И, получается, меня. Из первого паланкина выпархивают шесть девушек, на первый взгляд одинаковых. Я невольно отмечаю, что на них льняные платья, по фасону – те же туники. Еще все девушки как на подбор белокожи и черноволосы. И такие же коротышки, как я.
Из второго паланкина под руки выводят матрону – вылитая наша завуч, только красивая. Но смотрит так же. Я даже невольно съеживаюсь, ожидая окрика. У нашего завуча всегда я виновата – и сразу во всем. Заочно.
Но матрона тоже становится на колени, а потом простирается передо мной ниц. Медленно и очень изящно, с изрядной долей торжественности. Тут же поднимает голову, смотрит на меня и говорит:
– Великая богиня, госпожа наша Шамирам…
Она что‐то еще добавляет, кажется, «приветствуем» или что‐то похожее, очень пафосное. А до меня вдруг доходит, что обращается она ко мне. То есть это я – Шамирам. И «великая богиня» – тоже.
Ладно. Будем считать, что мне напекло солнцем голову, потому что я опять начинаю хохотать. Долго – все ждут, матрона молча смотрит, ее взгляд полон почтения и самую капельку – недоумения.
А я сижу на горячих каменных плитах, которыми покрыта площадь, смеюсь и никак не могу остановиться.
– Я хочу уйти, – наконец выдавливаю, ни к кому не обращаясь. – Пожалуйста, я хочу домой.
Матрона почему‐то воспринимает это как знак. Она кивает девушкам, те резво встают с колен, окружают меня, подхватывают под локти и буквально несут к третьему паланкину. Потом с превеликой вежливостью, бормоча не то комплименты, не то извинения, аккуратно сажают на подушки и закрывают занавеси.
Я глазом моргнуть не успеваю, а паланкин уже поднимается.
Мамочки, за что держаться?!
Глава 9
Ловкий
ДзумудзиСмертная в отчаянии глядит на жриц. Те лежат перед ней лицом в пол: прислужницы позади – под палящим солнцем на камнях садовой дорожки, Верховная впереди – на ковре в тени беседки. Вокруг замерли рабы: глаза долу, в руках блюда с фруктами и медовыми сладостями.
У смертной дрожит голос:
– Здесь, должно быть, какая‐то ошибка. Я правда не понимаю, что происходит.
Она на миг замирает, тяжело сглатывает и оглядывается на кувшин с водой, который держит рабыня в двух шагах от нее. Потом облизывает пересохшие губы и начинает снова:
– Я не богиня. Я не могу быть богиней, я просто человек. Обычный человек. Поверьте мне, пожалуйста. Я всего лишь на нее похожа. Это случайность!
Она старается быть честной, думаю я. Это говорит в ее пользу.
А также о том, что она глупа. Впрочем, это я давно понял. Она не смогла воспользоваться властью, которую имеет над мужскими сердцами. Ей, наверное, и в голову не приходит, какие возможности открываются перед богиней, госпожой Урука, пусть и фальшивой.
Смертная снова тяжело сглатывает, и мне хочется пнуть дуреху-рабыню, которой не хватает ума или смелости поднести госпоже воды. Люди часто цепенеют в присутствии великих. Чем смертные отличаются от глиняных кукол, не понимаю. Матери не стоило вдыхать в них жизнь, их разум слишком слаб, чтобы развлечь нас, не говоря уж о большем.
Впрочем, и Матери, и Шамирам эти ничтожества были по душе. Как и Отец, я совершенно этого не понимаю.
Испуганная смертная с лицом богини облизывает пересохшие губы, но приказать принести воды не решается. Она сидит на краешке кресла и обнимает себя за плечи. Только слепой спутал бы ее сейчас с Шамирам.
Но, как я и сказал, люди скорбны разумом. Они видят лицо госпожи Урука и думают, что все это – ее очередная забава. Шамирам действительно любила раньше перевоплощаться в человека. Чем дольше ей удавалось прожить среди людей неузнанной, тем довольнее она была. Моя жена наряжалась дочерью торговца, нищенкой и даже блудницей. Особенно ей нравилось не менять облик по-настоящему, создавая иллюзию, как делаю это я. Нет, Шамирам использовала краски и парики, точно лицедеи на царских пирах, только куда искуснее.
«Погляди, Дзумудзи, ты узнаешь меня?» – говорила она, копируя манеру людей двигаться и гримасничать. «Я узнаю тебя любой, жена моя», – отвечал я, и она мрачнела. «Фу, Дзумудзи, какой ты скучный».
Я ошибся, Шамирам. Так же, как ошибаются сейчас люди, глядя на девчонку с твоим лицом. Во время нашей встречи эта смертная назвала мое имя и не упала ниц, узрев мой истинный облик. Человек, считал я, на такое не способен. Мне не пришло в голову, что люди в других мирах не похожи на наших. Я забыл, что среди смертных попадаются колдуны. Их нечистая, плотская магия позволяет приказывать духам.
Глядя сейчас на испуганную девчонку, так отчаянно убеждающую жриц, что она не их богиня, сложно заподозрить в ней колдунью. Уверен, она и сама всей правды не знает. Сбежавшей из нижнего мира Шамирам требовался сосуд, тело, в котором она могла бы набраться сил. Конечно, она выбрала ребенка. Быть может, даже младенца. Только ей не повезло наткнуться на колдунью.
Осознавай смертная свою власть, она непременно попыталась бы воспользоваться силой богини – ведь так сладко исполнять свои желания без ограничений. Это убило бы ее. Я видел, как она слабеет после каждого перемещения в наш мир. Мне даже пришлось ее лечить.
Эта догадка объясняет, почему смертная так похожа на Шамирам и откуда у нее власть над мужскими сердцами. Моим в том числе.
Я чуть не убил ее тем вечером на ступенях храма, когда наконец понял. Как смеет она держать в плену своего тела мою жену? Касаться моего сердца? Стоять на вершине храма и изображать мою Шамирам?
Однако я сдержался. И был прав. Ужасное расточительство – избавиться от смертной колдуньи, ведь она может быть мне полезна. Шамирам внутри нее спит, разбудить ее – в моей власти. Можно сделать это немедленно, но кто тогда поручится, что она не отвергнет мою просьбу?
О нет, я так не поступлю. Слишком хорошо знаю Шамирам, чтобы надеяться на ее милость ко мне. А вот если в опасности окажутся ее ненаглядные люди… Пусть они ее умоляют, не я.
Тем более смертная сама решила вернуться в Урук. Забрать у нее мое сердце, чтобы не передумала и не отправилась обратно домой, было просто. Теперь она в моей власти. Нужно лишь позаботиться, чтобы она не погибла раньше времени. Пусть наслаждается всеми благами, которые Урук привык дарить своей госпоже, – я не против. Жертва должна быть счастливой, когда придет ее время умирать. Шамирам напитается ее радостью и станет сильнее, чем прежде. А тело смертной сбросит, как змея – старую кожу.
Но это после. Сейчас я должен быть терпелив.
Смертная снова испуганно озирается. Ее взгляд скользит по жрицам, рабыням и стражникам. Падает на меня.
Каменное сердце вспыхивает.
Я прикрываю его рукой и невольно отступаю в тень. Девчонка не может меня увидеть, она человек. Смертным колдунам требуется кровавый обряд, чтобы узреть хотя бы мир духов, что уж говорить про бога, желающего остаться незамеченным.
Но она смотрит. Щурится, кусает губу – так сосредоточенно и в то же время очень мило. Я завороженно наблюдаю. Назови она сейчас меня по имени и попроси вернуть домой, я сделал бы это.
Она отворачивается и вытирает дрожащей рукой пот со лба. А я вспоминаю, что это всего лишь смертная. Испытывать к ней чувства так же глупо, как жалеть статую, пусть и прекрасную. Глина остается глиной, а червь – червем. Меня смущает лик Шамирам, только и всего.
– Великая госпожа изволит шутить, – говорит в наступившей тишине Верховная жрица.
Смертная вздыхает.
– Я же вам объясняю: какая, ну какая из меня богиня? – В ее голосе ясно звучат раздражение и усталость. – Разве боги не владеют магией?
Глупая смертная! Магией владеете вы, люди. Это вам для исполнения ваших низменных, жалких желаний требуются обряд и кровопускание. Нам же, великим богам, стоит лишь повелеть, как все сбудется.
– Разве боги не всесильны? – добавляет смертная.
Наивное дитя! На человеческий взгляд мы, наверное, всесильны, но на самом деле абсолютной властью наделены лишь творцы – Отец и Мать. Мы, их великие дети, во многом подобны им. Во многом – но не во всем.
Верховная жрица осторожно поднимает голову. Я удивленно хмурюсь, потом вспоминаю: Шамирам действительно позволяла своим жрицам вольности. Она даже разрешала им не падать ниц все время. «Что ты, Дзумудзи, зачем? Они почитают меня и без этого».
Окажись она сейчас здесь, как раньше, именно мне бы достался ее гнев – за то, что явился в храм без приглашения.
– Великая госпожа, конечно, всесильна, – говорит Верховная жрица.
– Великая госпожа, может, и всесильна, но я – нет! – отвечает смертная.
Она на мгновение закрывает глаза, и я заставляю себя подойти ближе. Тела людей слабы и хрупки. Что, если она сломается раньше времени?
Девочка вздрагивает, когда я касаюсь ее плеча. Дождавшись, когда ее дыхание выровняется, я убираю руку и отхожу, потому что смертная вновь странно смотрит на меня. Будто и правда видит.
А лицо Верховной жрицы озаряет довольная улыбка.
– Великая госпожа желает продолжить игру? – говорит она тоном «наконец я все поняла!». – Эта недостойная подчиняется. Если великой госпоже хочется показать свою власть, не может быть ничего легче.
Теперь мы со смертной смотрим на жрицу с одинаковым недоумением. Никогда не поймешь этих людей! Им в головы приходят совершенно сумбурные, нелогичные мысли. А иной раз, мне кажется, мыслей там нет вообще – только заученные приказы.
Жрица делает страже знак. Мгновение – и к беседке выталкивают раба, смуглого мальчишку с узкими глазами горца. Он цепляется за метлу так крепко, словно надеется, будто эта соломинка позволит ему спастись.
– Желает ли великая госпожа забрать сердце этого недостойного? – спрашивает Верховная жрица.
Я перевожу взгляд на смертную – она этого мальчишку, похоже, знает. Что ж, я не следил за ней все время, быть может, они повстречались в одно из прошлых ее перемещений в Урук. Или сегодня, до того, как она попала на площадь. Здесь, в саду. Метла говорит сама за себя: раб – подметальщик.
Верховной жрице вырвать бы язык за то, что осмелилась предложить сердце такого ничтожества богине.
Я обдумываю это – жриц много, если онемеет одна, вреда не будет. Но тут смертная наконец выдыхает:
– Что?
И привстает, крепко держась за подлокотники.
«Неужели ее волнует судьба этого раба? – думаю я, следя за ней. – Но почему?»
Он даже не красив. Наверное, нужно быть человеком, чтобы понять причину этой внезапной жалости. Для меня мальчишка кажется не интереснее червя, которого вот-вот задавит повозка.
Верховная жрица склоняется до земли и спрашивает снова:
– Великая госпожа, хотите ли вы его?
– Что? – повторяет смертная, в ужасе глядя на нее.
Жрица с улыбкой кивает, будто поняла волю госпожи. И с презрением бросает рабу:
– Великая госпожа не желает тебя. Как посмел ты поднять на нее свой ничтожный взгляд? Ты не достоин ее милости и не достоин жить!
Ах, так вот в чем дело! Мальчишка посмел взглянуть на богиню. Что ж, согласен, он не достоин жить.
Один из стражей немедленно выступает вперед и вытаскивает из ножен короткий меч. Я смотрю, как сверкает солнечный луч на клинке. Мне скучно. Сейчас смертная девчонка отвернется – не станет же она смотреть на казнь? Ей должно быть противно. Но возразить не посмеет. Тогда Верховная жрица решит, что игра закончена, и наконец уведет «богиню» в покои наверху, где девочка сможет отдохнуть. Я прослежу, чтобы о ней позаботились, и пришлю смертной прислужника.
Перед этим надо погрузить девочку в целебный сон, а то слишком уж сильно и неровно бьется ее сердце.
– Что вы делаете? Стойте! – вдруг раздается голос, так похожий на Шамирам, что мне от него не по себе. Девчонку колотит, словно это ее шее угрожает клинок. Но она и не думает отворачиваться. – Прекратите! За что?
Верховная жрица позволяет себе удивиться.
– Великая госпожа, этот недостойный осквернил вас!
– Меня? Чем?!
– Своим нечестивым взглядом, великая госпожа. Вы не желали его, а он посмел на вас посмотреть. – Жрица поворачивается к трясущемуся рабу. – Моли о прощении!
Тот открывает рот, как рыба, и не раздается ни звука. Жалкое зрелище! Я отворачиваюсь и смотрю на девочку, которая в этот момент кажется такой несчастной, что я чуть было все не прекращаю. Мне хочется сейчас лишить жизни их всех – рабов и жриц. Всех, кто заставляет ее страдать.
Только следует начать с себя, ведь по моей воле она здесь.
Но тут смертная выпрямляется, гордо вскидывает голову и отпускает подлокотники. Я отшатываюсь – так она похожа сейчас на Шамирам.
– Как ты смеешь, жрица! Не тебе решать, кому жить или умереть. – Сейчас голос смертной звучит уверенно и важно.
Жрица улыбается.
– Но, госпожа, если вы простая смертная, то, получается, как раз мне.
Девочка вздрагивает, я вижу ее замешательство. На мгновение мне становится интересно, как же она выкрутится.
Потом я снова ловлю ее отчаянный, несчастный взгляд – и шепотом отдаю приказ.
Земля вздрагивает. По каменным плитам дорожки пробегают трещины, но беседка остается неподвижной. Мне не нужно, чтобы смертная пострадала, а человеческим строениям доверять нельзя: они такие же хрупкие, как и тела их создателей.
Это даже забавно: сильнее всех пугается именно девочка. Она падает в кресло и смотрит так, словно я по меньшей мере небо обрушил, а не аккуратно землю встряхнул.
– Великая госпожа, не гневайтесь! – вскрикивает Верховная жрица.
Теперь все лежат перед беседкой ниц, даже стража.
– Отдай приказ, – шепчу я на ухо смертной. Она озирается, и я добавляю: – Ну же, скажи, что это была игра.
– Это была игра, – послушно повторяет смертная.
– Увереннее, – вздыхаю я.
– Уве… – Она смотрит прямо на меня. Снова щурится и мгновение спустя отворачивается. Вдыхает поглубже, встает. – Игра окончена. Никто не умрет. Я… так хочу.
Верховная жрица принимается благодарить, не поднимаясь с колен. Смертная растерянно смотрит на трещины в каменных плитах.
– Пожелай, чтобы тебя отвели в твои покои отдыхать, – говорю я ей на ухо.
– Какие покои? – шепчет она.
– Увидишь.
Она оглядывается.
– Кто ты? Где? Это ты украл у меня камень?
Это мое сердце, смертная, и я просто вернул его себе. Как ты смеешь обвинять меня в воровстве?!
Не дождавшись ответа, она хмурится и говорит Верховной жрице:
– Я устала. Отведите меня в мои… эм, покои.
– Конечно, великая госпожа.
Спасенного мальчишку-раба уводят подальше с глаз богини. Уносят, точнее, – у него так трясутся от страха колени, что он не в состоянии идти сам.
Смертная, в отличие от него, уходит с высоко поднятой головой и знакомым выражением на лице: «Ты утомляешь меня, Дзумудзи, помолчи».
Я насылаю на нее сон в купальне, потому что у девчонки случается истерика: она принимается хохотать. Я видел такое у смертных – смехом они маскируют страх. Так сильно боится воды?
Проследив, чтобы жрицы уложили ее в постель, и приказав духам ветра следить, я оставляю девочку. Нужно подготовить для нее прислужника. Немедленно.
Глава 10
Невольная
ЛиисаОн сидит на полу, растрепанный, бледный. Под глазами черные тени, стеклянный взгляд устремлен в никуда. Весь он – как брошенная веревочная кукла. Я видела такие недавно на царском пиру, где его заставили присутствовать. Искусно сделанные, они напоминали людей, только двигались дергано и странно, а когда кукловод оставлял их – замирали.
Когда он так неподвижен, живут лишь его руки. Чуткие, изящные пальцы сейчас нежно гладят глиняную табличку – каждый вырезанный на ней знак. Что‐то о земледелии. Вчера это был трактат архитектора, позавчера – рецепты травника, до этого – труды по истории. Он читал их запоем и с удовольствием пересказывал.
Он слеп, и мне остается лишь гадать, каков для него этот мир. Танец звуков? Игра ощущений? Многословен он лишь со мной, а видимся мы нечасто, поэтому голос у него хриплый и тихий. Внешность его не заботит: по человеческим меркам красивый, он одет в лохмотья – некогда роскошные, сейчас неопрятные. Его волосы, длинные и густые, всегда в беспорядке. Они тусклые, а его лицо изможденное – слишком часто он забывает про еду, а слуги – про него. Он похож на отшельника – если, конечно, бывают отшельники без света внутри, отчаявшиеся и несчастные.
Он одинок. И он изгой. Люди избегают его. Я думала сначала, дело в изъяне: он слеп. Для людей это важно. Говорят, слепота – проклятие Неба. Но оказалось, все из-за его происхождения. Его зовут Юна́н, и он единственный сын царя Саргона.
Немощный. Ненужный. Нелюби… Нет, это давно не так, ведь я люблю его всем своим существом, всем сердцем – если оно есть у духов! Он мое солнце, он сияет для меня куда ярче богов, даже великих, его речь слаще музыки, а его облик совершенен.
Я же для него безликий дух. Мое присутствие – порыв ветра и тепло солнечных лучей. Для него я не должна существовать, но он угадывает каждый раз, когда я влетаю в его каморку, – и улыбается. Лишь мне одной он улыбается.
Это неправильно. Так быть не должно. Дух не может любить человека. Мы живем со смертными бок о бок, но люди не видят и не слышат нас. А мы воспринимаем жизнь совсем иначе: не растем, не меняемся – лишь существуем. У нас нет детства, нет родителей, нет пары. И любви у нас тоже нет, как и судьбы. Обо всем этом я узнала от него. И от других смертных, когда присмотрелась. Духи не отсчитывают время и питаются благодатью, которой кормят нас боги – господа наши и повелители.
Ветер гонит по небу облака – это мы, духи. Идет дождь – тоже мы. Камни, волны и туман – все это мы. Как нам равняться со смертными хотя бы в числе? Даже здесь мы не сходимся.
Нет, дух не может полюбить человека. Мы и любить‐то не должны. Зачем дождю привязанность или ветру – забота? Это человеческое, это не для нас.
Духи равнодушны к людям. Мы всегда рядом, но так мало знаем о смертной жизни. Я поняла это пятнадцать лет назад по человеческому счету, когда впервые заинтересовалась, почему маленький смертный смотрит на меня, запрокинув голову, и не улыбается.
Я привыкла к их улыбкам. Вниманию, когда они показывают пальцами, радуются, называют меня благим знамением и удачей. Я зовусь на их языке радугой. Мне всегда казалось, что так и должно быть, что таков порядок. Суть. Порядок очень важен для духа – вечный круговорот жизни. Чернеют тучи, идет дождь, потом светит солнце – и появляюсь я, радуга. Это правильно. Как же иначе?
Я еще юный дух. Та радуга, что была до меня, наверняка многое повидала. Но я, взглянув на зареванную мордашку смертного, почувствовала, что мой мир ломается. Отчего этот человечек так горько плачет? Разве я не красива, разве не сияю волшебно на небосклоне? Ну же, улыбнись мне! Сделай так, как до́лжно.
Позже я спустилась к тому человеку. Радуга появляется на небе нечасто, поэтому… как говорят люди?.. свободного времени у меня в избытке. Тогда в осколках моего спокойного, размеренного мира проросли чувства. Еще бледные, не чета людским, они побуждали узнать, в чем дело. Человечность – это болезнь, теперь я это понимаю. Ты становишься мятежной, как они, слабой, как они. Твое сияние тускнеет, ты постепенно исчезаешь. Я боялась этого сперва, однако ничего не могла поделать.
Но вот странно: мой свет стал ярче, никогда еще радуга так не сверкала в небесах. Как будто немыслимая любовь сделала меня сильнее. Как это возможно? Мне все равно. Так есть – и это хорошо.
Любовь наполняет меня, а жалость раздирает сердце. Мне больно и сладостно смотреть на Юнана: он так одинок, а его дух-защитник – крыса ленивая! – не справляется. О, как я мечтаю занять место этого духа! Я бы оберегала Юнана ценой своей жизни… О Небо, я уже изъясняюсь, как люди. Одно мне понятно: Юнан смертный, век его короток, и я угасну вместе с ним. Появится другая радуга – я же потускнею и исчезну.
Но даже в подземном мире госпожи Эрешкигаль не суждено нам будет встретиться, потому что для меня посмертие невозможно. Я гоню от себя эту мысль, наверное, как люди стараются не думать о смерти. Тем драгоценнее время, что есть у нас сейчас.
Юнан поднимает голову, когда я ерошу его волосы. Улыбка мелькает на его лице, и – о, как жаль, что он не видит, – радугой переливаются стены его каморки. Меня раньше изумляло: почему покои царя так роскошны, а комната царевича больше похожа на тюрьму? Оконце здесь такое узкое, что даже я еле-еле сквозь него протискиваюсь.
«Зачем слепцу свет?» – бросил как‐то царь.
Я многое поняла после того, как наблюдала за ним однажды.
– Ты пришла, – голос Юнана волшебнее голоса моря на рассвете. А ничего красивее я не слышала.
Я прижимаюсь к его плечу, стараясь не обращать внимания на Гнуса – так я зову его духа-защитника. Мерзкая крыса забилась в тень, как всегда. Слабый, противный. Все, что у него осталось, – это облик. А ведь духи-защитники могут, я слышала, многое, даже говорить с богом. Вот дух-защитник Саргона… Нет, не стоит сейчас об этом.
Было время, когда Гнус пытался меня прогонять.
«Зачем даешь ему надежду?» – шипел он.
«А почему ты его не защищаешь?» – отзывалась я. Он рычал на меня – получался писк, как у настоящей рассерженной крысы.
Юнан наклоняет голову – как раз в мою сторону. Я глажу его щеку, касаюсь бесплотными пальцами губ. «Люблю тебя». Он не слышит. Только Гнус мерзко ухмыляется из своей тени.
– Фе́йха. – Юнан жмурится.
Он считает меня призраком. Была когда‐то женщина в гареме одного из царей – по меркам людей, давно. Она чем‐то прогневала своего господина, не помню чем. В наказание ее замуровали. Рабы судачат, будто видят в лунные ночи ее призрак. Он, как случается со смертными, только стонет и жалуется. Я и того не могу, но Юнан верит, будто я и есть та женщина – Фейха. Единственная его подруга.
Юнан говорит со мной, делится всем. Страхами, обидами, редкими радостями. А еще – новостями и дворцовыми сплетнями. Последних он знает тысячи. Для людей Юнан словно не существует, потому, наверное, при нем говорят свободно. Словно вдобавок он еще и глухонемой.
«Мои слова что ветер – никто их не слушает, Фейха. Никто, кроме тебя».
Я слушаю. На днях Юнан рассказал, будто в мир вернулась госпожа Шамирам.
– Скажи, Фейха, ты видела ее у Эрешкигаль? Какая она? Отец зовет ее блудницей, когда думает, что никто не услышит. Он так ее ненавидит – я полюбил бы ее за одно это. Только истории, которые я о ней читал и слышал… Они страшные.
Если бы могла, я бы сказала ему, что с ду́хами госпожа Шамирам обращалась еще страшнее, чем с людьми. Благодать ее слаще меда, но нет в сердце богини жалости. Мне повезло: саму госпожу я не застала, но тоже много о ней слышала.
– Она снова здесь, – рассказывает царевич. – Отец места себе не находит. Вот бы посмотреть, как он роется в сокровищнице, пытаясь купить свою жизнь! – Юнан смеется надтреснуто и горько, совсем не весело. Иначе он не умеет.
За окном пролетает синица. Пытается сесть на узкий подоконник, но не умещается. Снова и снова. Это даже смешно – пока синица не просачивается в оконце ветром. Юнан вздрагивает – я поскорее стряхиваю с него песок на пол. Суховей может легко ранить смертного.
Ветер снова превращается в синицу. Духи-прислужники, особенно господина Дзумудзи, способны и не на такое. Говорят, они могут принять любой облик, какой пожелает их повелитель. И даже в силах предстать перед смертными, чтобы те слышали и видели их.
Мне бы так.
– Хозяин призывает тебя, – чирикает птица.
Я замираю, а Гнус вскидывается и кряхтит: