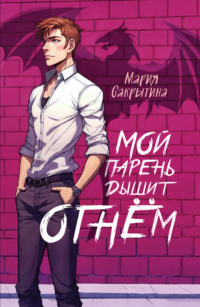Полная версия
Сказание о Шамирам. Книга 1. Смертная
Когда дверь в комнату открывается, я едва успеваю прийти в себя – стать невидимым и не испепелить смертную женщину за то, что потревожила если не дочь, то хотя бы меня.
– Лена? Ты спишь?
Девочка вздрагивает, но я кладу ладонь на ее лоб, и она засыпает еще крепче.
– Лена? – снова зовет женщина. – Я хотела попрощаться.
«Уходи, – думаю я. – Разве мало вокруг тебя благодати Шамирам? Она уже призвала для тебя сладкую судьбу. Довольно. Что бы ты ни сделала для моей жены, больше она тебе ничего не должна».
– Прости, – голос женщины такой же тусклый, как и она сама, – но так будет правильно. Тебе лучше одной. Ты поймешь. Конечно, поймешь.
Она судорожно вздыхает и очень аккуратно закрывает дверь.
Я убираю руку со лба смертной и едва не смеюсь над былым наваждением. Зачем мне оставаться? Шамирам я не нужен. У нее здесь свои игры, мне в них нет места.
– Дзумудзи, – бормочет смертная и улыбается.
Избегая смотреть на нее, я снимаю с шеи оплетенное шнурком сердце. Когда‐то оно сияло ярче солнца, но минули века, и оно погасло, обратилось в камень, став на вид не чудеснее обычной гальки. Перестало греть. Наскучило Шамирам.
Я кладу его на кровать рядом с девочкой. Замираю, когда тонкие пальцы сжимают шнурок. Смертная вздыхает, не просыпаясь, а мне мерещится искра внутри камня. Только этого не может быть, ведь у Шамирам недостанет сил его пробудить. Теперь она всего лишь слабая богиня в теле обычной смертной. И если ей этого довольно – да будет так.
Больше не оглядываясь, я покидаю комнату, едва не столкнувшись на крыльце с женщиной, матерью смертной девочки Лены. Мужчина рядом с ней как раз во вкусе Шамирам: высокий, широкоплечий и услужливый. Он без слов забирает у женщины сумки, потом проверяет, удобно ли она устроилась. Тепло ли ей, не хочет ли она чего‐нибудь.
Я наблюдаю, как они уезжают, и думаю, что эта тусклая женщина все же умна. Шамирам забрала бы ее мужчину за одну эту услужливость.
Но меня это не касается. Я покидаю стылый серый мир – не без удовольствия. И даже с облегчением. Дело сделано, решение принято. Шамирам я больше не увижу, но это и к лучшему. Достаточно я терзался и позволял вовлечь себя в ее игры.
Мне даже хочется уничтожить людей прямо сейчас. Прав Отец: что может быть проще? Всего‐то обрушить на них бурю, какой еще не бывало. День-два, и даже воспоминаний не останется. Зачем Мать создала эти жалкие подобия нас? Мир без них был чище.
Где‐то он таким и остался – скажем, на этом священном, а значит, запретном для простых смертных лугу. Я стою по пояс в траве и смотрю, как далеко на востоке разгорается рассвет. Звезды медленно гаснут, воздух наполняется ароматом полевых цветов, полоска горизонта светлеет, сумрак растворяется, а небо становится золотым.
Это красиво и привычно: четкая, слаженная работа духов. Порядок, который так любит Отец – и я вместе с ним.
А если действительно очистить мир от смертных сейчас? Отец зачем‐то велел подождать три месяца. Хотел, чтобы Мать пробудилась ото сна, узнала о его решении и умоляла от него отказаться? Не знаю, но вряд ли Отец прогневается, если я начну раньше. Мать же все равно узнает. Разве не лучше поскорее все закончить?
К тому же гнев Отца вряд ли будет меня волновать потом, когда Мать проснется. Она обрушит на меня свой. Что может быть хуже? Ничего. И наглядный тому пример – судьба нашего мятежного брата-солнца.
Давным-давно, когда Отец с Матерью еще жили в согласии, у них появился первый бог-сын – лучезарный У́ту. Говорят, он мог создавать жизнь наравне с Отцом и Матерью. После него никто не был так же могуществен – даже Шамирам, старшая из нас.
Она появилась позже, когда Уту захотел себе жену. Не знаю, решил ли он, что Шамирам станет любить его безусловно лишь потому, что создана для него. Если так, то его ждало жестокое разочарование: Шамирам ему отказала. Он зажег для нее звезды и луну, чтобы вечно они украшали небосвод как символы его любви. Но гордая богиня все равно его отвергла.
Помню, как спросил ее: «Почему?» Боялся повторить его ошибку. Меня создали для Шамирам уже после того, как судьба Уту была решена. Отец и Мать не желали, чтобы дочери было одиноко.
«Потому что он не любил меня, Дзумудзи, – ответила Шамирам. – Ты не говорил с ним, иначе сразу бы понял. Уту – лучезарный гордец, который ежедневно кому‐то что‐то доказывал. Я была нужна ему как трофей и лишь потому, что выбора не было. А еще – потому, что отказала».
«Но неужели тебе не было лестно? Звезды и луна так красивы, а он подарил их тебе!»
Шамирам в ответ рассмеялась: «Красивы, не спорю. Но зачем они мне? Уту их сотворил, чтобы я восхищалась: ах, как он могуществен. Его не интересовало, нужны ли они мне, хочу ли я их. Просто однажды небо засияло, а он заявил: “Это для тебя”. Потом очень удивился, когда я ответила: “Благодарю, но не стоило”».
Обиженный Уту сошел с небес на землю и основал страну, которая сейчас носит название Черное Солнце. Смертных тогда не было – Матери еще не пришло в голову слепить из глины фигурку и вдохнуть в нее жизнь. Вместо людей Уту создал духов, почти равных по силе богам, и населил ими свое царство.
«Когда Отец узнал, – рассказывала Шамирам, – он был в бешенстве».
«Но почему?»
«Что ты, Дзумудзи, это же непорядок! Не вписывалось самовольство Уту в Отцовский план. А значит, должно было исчезнуть».
Отец действительно призвал к себе сына и повелел вернуться на небо. Уту отказался. Больше того, он обвинил Отца в зависти и попросил отпустить его царствовать. «Чем я хуже тебя? Ничем».
Так началась первая в мире война: моря кипели, земля высыхала, горы крошились.
«Самое забавное, что никто в итоге не получил того, чего хотел, – вздыхала Шамирам. – Отец потерял мир, в котором так долго наводил порядок, а Уту – свой ненаглядный клочок земли, где мнил себя господином».
«А что же Мать?»
«Наблюдала и не вмешивалась. Как и я. Нам не было дела до войны. Признаться, мы обе понять не могли, что послужило ее причиной и почему нужно было стольким жертвовать для победы».
Уту и правда был могуществен: шли века, а ни одна из сторон не могла одержать верх. Пока не вмешалась третья.
Шамирам рассказывала так: «Мне надоело. Земля горела, небеса пылали, и только на горе Уту оставалось некое подобие благополучия. Его духи хотя бы не ходили с кислой миной, как Мать, и не срывали на других злость, как Отец».
Шамирам объявила, что отправляется к брату, дабы убедить его сдаться.
А Уту решил, что сестра наконец выбрала его сторону. «Снова принялся творить для меня звезды. Видишь, Дзумудзи, как их много? Таково самомнение нашего брата».
Тем временем Отец объявил, что Уту похитил Шамирам и теперь держит ее в плену. Даже как будто пытает.
«Думаю, – говорила Шамирам, – кто‐то из духов Уту его предал. Мать не поверила бы Отцу без доказательств».
Так или иначе, но гнев Матери оказался куда страшнее гнева Отца. Она разрушила оплот Уту, уничтожила его духов. «Не всех, – добавляла Шамирам. – Некоторых мне удалось увести».
А самого Уту Мать прокляла. С тех пор каждое утро лучезарный бог садится на сияющую колесницу и едет по небу, только чтобы вечером, умирая, омыть его своей кровью.
Так в наш мир пришла смерть. А у Шамирам появилась младшая сестра Эрешкигаль. Но это уже другая история.
С тех пор никто не смел бросить вызов Отцу. Только Шамирам – когда снова и снова спасала людей от его гнева.
«Ты не боишься, что с тобой сделают то же, что и с Уту?» – спросил я однажды. Шамирам рассмеялась: «Конечно, нет. Уту намеренно повздорил с Отцом, а я никогда так не поступлю. Зачем? Своего можно добиться не только силой».
Я смотрю на сияющую колесницу брата и понимаю, что меня ждет нечто похожее. Мать обещала превратить убийцу людей в камень. Но только ли?
Еще не поздно вернуться к Шамирам, упасть ей в ноги и просить вернуться. Она смягчит гнев Отца, ее он послушает.
Я заставляю себя не двигаться и смотреть на солнце. Ничего не выйдет. Шамирам не согласится, мое унижение ни к чему не приведет. Я знаю ее достаточно, чтобы предсказать: она может сделать вид, что сочувствует, а сама использует меня и ничего не даст взамен.
Смешно. Если выполню приказ Отца – прогневаю Мать, если откажусь – рассердится Отец.
Выхода нет. Я должен смириться и принять это.
Но у меня не получается.
Глава 5
Лишняя
ЛенаМне снится, что я собираю мужские сердца в шкатулку. Вообще‐то на настоящий орган они вовсе не похожи, больше напоминают звезды и поначалу, сияя, жгут мне руки. Украшения, достойные богини. Но время идет, сердца угасают, как и мужчины, которые их подарили. И от тех, и от других я избавляюсь. Не стану же я хранить наряд, который износился, даже если с ним связаны приятные воспоминания? Зачем? Мне сошьют новый.
Десятки, сотни мужчин – и их сердец. Я купаюсь в любви, пресыщаюсь страстью, но мне все мало. И тогда…
Сон обрывается, как всегда, на самом интересном месте. Мне еще чудится в руке одно из окаменевших сердец – тех, что больше не греют. Нет-нет да в них мелькнет искра, но не больше.
Я моргаю, однако камень не исчезает. Он теплый и действительно искрится.
Боже, как голова болит! И горло. Кажется, я вчера простыла, пока бегала по улице без куртки. Интересно: Серый мне вроде бы не привиделся, а вот кафе и странный мальчик наверняка приснились. А мама с ее Володей? Ну, это уж точно сон, мама меня не бросит.
Я сажусь и рассматриваю затейливую шнуровку, оплетающую камень. Красивая. Не помню, как он у меня оказался, но весь вчерашний вечер в памяти размывается, а значит, я вполне могла сама эту поделку откуда‐нибудь притащить. Не первый раз – я люблю такие авторские работы. Чтобы «не как у всех» и стильно.
А все‐таки – что вчера было? Может, и Серый приснился? Мы с Тёмой о нем говорили, вот и… Хм. Ладно, черт с ним.
– Ма-а-ам? – робко зову я. – Ты дома?
В ответ тишина.
На часах полвосьмого, значит, мама еще не ушла. Сегодня пятница, ей пора на работу. Проспала, наверное.
– Ма-а-ам, пора вставать, – уже тише добавляю я, потому что горло неприятно саднит и лучше его не напрягать.
Снова нет ответа. Вот соня!
Зевая, я бреду на кухню, ставлю чайник, жарю омлет. Потом делаю кофе, собираю все это на поднос и иду в ее комнату.
– Мам, ты опозда…
Комната пуста. Кровать аккуратно застелена, дверца шкафа приоткрыта. Книги по архитектуре – мамины любимые – исчезли.
Я ставлю поднос на журнальный столик и замечаю записку:
«Тебе будет лучше без меня».
Буквы скачут, слева на бумаге пятно.
Ну что ж, теперь я знаю, что Володя мне точно не приснился.
Мамин телефон молчит. Я слушаю гудки и понимаю, что меня, похоже, отправили в черный список.
Ах так?! Тогда я… Тогда, мама, я съем твой завтрак!
Это все, на что хватает моего спокойствия – или, вернее сказать, шока. Я уминаю омлет, едва не захлебываюсь кофе. А потом кричу так, словно меня режут. За стенкой даже соседская вечная дрель затихает.
Не помогает – только горло сильнее болит. А злость никуда не исчезает. Да, я зла! Сейчас что‐нибудь сломаю!
Звонит телефон.
Я замираю и, прочистив горло, не глядя провожу пальцем по экрану.
– Лена, у тебя все в порядке?
Тёма. Ну конечно. Черт! Нет, у меня не все в порядке! Меня бросили! Как надоевшую собаку! Только с будкой! И то еще не факт. Как она могла, как?!
– Просто уже почти восемь, – добавляет Тёма.
«Мне плевать!» – чуть не кричу я. Но перед глазами появляется образ Тёмы, преданно ждущего у крыльца. Наверняка с семи, с него станется. Замерзшего, уставшего. Он этого не заслуживает.
– У тебя же олимпиада, ты на сбор опоздаешь, – хриплю я.
А в ответ взволнованно:
– Лен, ты не заболела?
Точно! Я ж заболела.
Старательно кашляю в трубку:
– Да, Тём, прости, неважно себя чувствую. Я еще посплю, а ты иди, ладно? Я сегодня дома.
Он верит. Еще бы – он всегда мне верит. Наверное, если я скажу, что небо зеленое, а земля квадратная, он и тогда согласится.
– Я тебя разбудил, да? – Его голос мигом становится виноватым. – Я звонил, но ты не отвечала.
Конечно, я же была очень занята, пока истерила.
– Удачи, Тём, – хриплю я, надеясь, что хотя бы мои слова его успокоят. – Победи там всех. Ни пуха.
– К черту, – отвечает он. – У тебя есть лекарства? Можно я зайду к тебе потом? И обед занесу.
Да что же это!.. Мне кажется, еще немного, и я лопну – от гнева, стыда, жалости и беспощадной несправедливости.
– Лен? Можно мне сейчас зайти? Открой, а?
– Не надо. – Я опять кашляю, кашель хорошо маскирует всхлипы. – Ты же заразишься. Тём, иди, дай… – Я беру себя в руки и добавляю: – Дай уже поспать, а?
И отключаюсь.
Он уходит – я наблюдаю в окно, спрятавшись за занавесками. Мне очень хочется, чтобы все было не так, чтобы он вернулся, а потом… А потом его сердце потухло бы, как серая галька. Господи, что я несу!
На кухне старые, еще бабушкины часы с кукушкой отбивают восемь. Надо собраться, думаю я. Надо что‐то делать. Что‐то решать.
О, точно! Надо покончить со школой! Выпускной класс, ЕГЭ – на кой черт оно мне надо? Я собиралась уйти после девятого, но как же! Мама завелась со своим «ты должна поступить в университет, ты должна доучиться». Зачем? Мне колледжа за глаза хватит. Но мама капала и капала на мозги, и совсем плохо стало, когда о моем решении узнала бабушка. Она долго орала на маму по телефону, а мама, соответственно, долго и со слезами уговаривала меня «не совершать ошибки, не ломать себе жизнь». Всему виной семейная традиция: все учились в университете, и ты никуда не денешься.
Я и не делась. Даже мечтала о театральном. Или о дизайне – никак не могла выбрать. Школа окончательно стала моим кошмаром, и если б не Тёма, алгебру я давно бы завалила.
Так вот, ничто теперь не мешает мне с этим кошмаром покончить! Пойду и лично скажу директрисе, чтоб больше она меня не беспокоила. И документы заберу. Имею же право? Или нет? Да и черт с ним! А потом… потом…
Что это глупо, по-детски и на директрису не подействует, я подумала, конечно. Вскользь. Ну очень хочется на ком‐то злость сорвать! А в школе, кстати, Серый. Ну что, милый, правда вчера была или сон, не знаю, но, если ты еще раз меня тронешь, я тебя познакомлю с моим лучшим другом шокером. Он тебе понравится, обещаю.
Первым уроком сегодня как раз алгебра, и мне везет: математик опаздывает (олимпиадников, наверное, отправляет).
В классе с каждым моим шагом нарастает тишина. Точнее, монотонное «шу-шу-шу», особенно со стороны девочек. Кто‐то вытягивает ногу, чтобы я споткнулась, кто‐то закатывает глаза, мол, снова эта разоделась, хотя я никогда в школу не наряжалась. Но это неважно, потому что, даже явись я в балахоне, парни все равно будут на меня пялиться, а девчонки – обзывать подстилкой.
Ненавижу их всех.
– Ого, кто к нам пришел! – Серый с последней парты беззастенчиво рассматривает меня, а я – его.
Синяк под глазом вроде мой, еще с того раза в туалете, а больше ничего и нет. Зато меня пробирает дрожь. Я сразу вдруг понимаю: нет, это мне вчера не приснилось.
Серый что‐то еще добавляет, его друзья гогочут и улюлюкают, а я думаю: ты мне за все сейчас, гад, ответишь. Думаешь, ты такой крутой? Ну-ну. Глянь, как у тебя рубашка удобно на груди расстегнута. Шокер у меня не мощный, убить не убьет и даже не покалечит. А вот организовать тебе, сволочь, обморок я им могу.
Вот тебе!
Улюлюканье обрывается.
Серый валится в проход между партами. Я смотрю на него секунду – дышит, гад, конечно, – потом отворачиваюсь и иду к двери, когда та распахивается у меня перед носом.
– Любимова! – рявкает завуч.
– Да здесь я.
Завуч таращится на меня так, словно я притащила в школу винтовку и грожу расстрелять здесь всех к чертовой матери.
– К директору! Щас же!
– Иду, – со вздохом говорю я и убираю шокер от греха подальше, а то заберут, а новый денег стоит, да еще и шестнадцатилетней мне его не продадут.
За спиной шепчутся одноклассники. Кто‐то подает здравую мысль позвать медсестру. Кто‐то пытается помочь пришедшему в себя Серому подняться.
Да пошли вы все!
Татьяна Ивановна Грымза, наш директор – ха, не только мне «повезло» с фамилией, – упражняется в ораторском искусстве. На мне. Попросту говоря, орет:
– Это незаконно! Я должна вызвать полицию!
«Никого ты не вызовешь, – думаю я. – Трясешься за репутацию школы». Месяц назад, когда Серый с друзьями избили кого‐то из младших классов на заднем дворе, Грымза тоже орала. Скорую потом вызвали в соседний квартал, где жертва Серого каким‐то чудом оказалась. А что? Не на территории школы и после уроков. Не прикопаешься.
– Тебе повезло, что с бедным мальчиком все в порядке, – говорит наконец директриса нормальным голосом. – Ты могла нанести непоправимый вред его здоровью, ты это понимаешь?
А если бы этот бедный мальчик изнасиловал меня прямо в школе, я бы тоже очутилась в соседнем квартале? И как всегда – «сама виновата»?
Я поднимаю голову и старательно улыбаюсь.
– А вы понимаете, что цвет этой помады вам не идет? Вы с ним похожи на клоуна.
– Что? – выдыхает директриса. И тут же растерянно добавляет: – Но это же «Шанель»…
– Да хоть «Герлен» с алмазами. Лучше потратьте деньги на толкового косметолога. У меня есть пара контактов, я вам их оставлю, если хотите. Пройдите процедуры, подтяжку, возможно, уколы. Разберитесь с порами – если пудрить пористое лицо, да еще и с жирной, как у вас, кожей, получится обратный эффект. Пудра забьется в поры и все выделит, а не скроет. – Я поднимаю брови и позволяю себе самоуверенно усмехнуться. – Посмотрите в зеркало. Вас ничего не смущает?
Грымза сглатывает и, похоже, машинально тянется в ящик стола. Наверное, держит там косметичку.
А я вхожу во вкус:
– Еще вам нужен хороший колорист. Вам не идет холодный цвет волос, сразу плюс десять лет к возрасту. Это и одежды касается. Между прочим, вы давно измерялись? Эта блузка не должна так сидеть, особенно в области груди. Вы комфортно себя чувствуете?..
– Родителей! – перебивает директриса. – В школу! Немедленно!
Меня разбирает смех.
– Да без проблем. Звоните, давайте. Может, хоть вам она ответит. Подсказать номер?
Мама действительно отвечает. Грымзе, постороннему человеку, а не мне, дочери. От этого так горько, что хочется посильнее ужалить директрису. Низко и некрасиво так поступать, но прямо сейчас мне плевать.
– Пока ждем, – говорю я, когда Грымза кладет трубку, – послушайте, какой стиль одежды будет на вас идеально смотреться. Между прочим, вы знаете, что это подделка, а не «Луи Виттон»?
Очевидно, нет. Директриса в лучших комедийных традициях хватает сумочку.
– Замолчи! Как ты смеешь?!
– Вам, наверное, кто‐то значимый ее подарил? – Я продолжаю улыбаться. Дорогуша, слышала бы ты, какие истерики мне Золушки закатывают! Ты им и в подметки не годишься. – Не волнуйтесь, подделка хорошая. Я подскажу, как можно ее обыграть…
Директриса встает и вместе с сумочкой принимается пятиться к двери. Но я сижу к выходу ближе и оказываюсь там раньше.
– Первым делом нужно определиться с цветами. Уверена, вам подойдет серый. Вы не пробовали? Не мышиный серый, конечно, а, к примеру, стальной. Или серебряный? Гейнсборо? Циркон? Муссон?
Директриса снова пятится – на этот раз к столу.
Так мы следующие полчаса и ходим кругами. Я успеваю рассказать про узоры и текстуры тканей, потом про основы минимализма – Грымзе он явно по душе. Или она просто не подозревает, что аксессуары – мастхев в законченном образе.
Бледная, запыхавшаяся мама врывается в кабинет, когда Грымза уже на последнем издыхании. Я замолкаю и морщусь, потому что первым делом мама принимается извиняться. А Грымза, придя в себя, снова орет: «Вы знали, что ваша дочь носит в школу электрошокер?!»
Голова снова раскалывается. Я наблюдаю, как мама съеживается перед директрисой, точно кролик перед удавом, и мне одновременно стыдно и больно. Никакого торжества, даже злоба умерла. Я смотрю на помолвочное кольцо у мамы на пальце и думаю, что, может, так и должно быть? О ней теперь будет заботиться Володя. Я больше не нужна.
У школы ее ждет машина. Мужчина за рулем с интересом смотрит на меня. Он похож на личного водителя – вряд ли это тот самый Володя.
– Лен, ты… – неуверенно начинает мама.
– А ты не думала сделать аборт, когда залетела? – вырывается у меня. – Не пришлось бы возиться с ненужной дочерью.
Мама краснеет. Бабушка давно меня просветила, что не будь в их семье аборт грехом и стыдом, я бы не родилась. «Залет» – стыд еще больший, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя она до конца жизни маму за это пилила.
– Не смей так говорить!
– А почему? – Я смотрю в мамины сверкающие от слез глаза. – Это же правда!
Она выдыхает и замахивается. Я прижимаю руку к щеке – не первая пощечина в моей жизни, но сейчас что‐то внутри обрывается.
– Я тоже люблю тебя, мам. Будь счастлива.
Давно мне не было так плохо. Может, даже никогда.
Дома холодно и пусто. Я иду на кухню и устраиваю там такой погром, что самой страшно становится. Потом кое‐как прибираюсь.
Ну вот, вдобавок я еще и устала. А ведь на работу пора… Да и черт с ней.
Я звоню Андрею сказать, что заболела. Но не успеваю и рот открыть, как слышу гневное:
– Ты уволена.
Мне кажется, я ослышалась.
– Что? Но почему?
В трубке слышится отголосок сирены, и у меня тревожно сжимается сердце.
– Почему? – голос Андрея звенит от злости. – Я говорил тебе не впутывать моего сына? Надеюсь, теперь ты собой довольна!
На этом звонок прерывается. Я поскорее набираю Тёму, но тот не отвечает.
Нужно узнать, что случилось. И почему Андрей считает, что я виновата? Может, Тёме стало плохо на олимпиаде из-за того, что он утро провел на моем крыльце и замерз?
Нужно узнать, но у меня совсем нет сил. Я бреду в комнату, падаю на кровать и тут же засыпаю. Пара часов ничего не изменит. А потом – потом я буду обзванивать больницы. Наверняка он в нашей районной. Это же сирена скорой была, да? Тёма здоровый, как медведь, не может быть с ним ничего серьезного. Надеюсь.
Мне снится город в огне. Дым поцелуем горчит на губах. Мольбы танцуют в воздухе, щекочут уши, стонут: «Шамира-а-ам!» Я счастлива. Мне нравятся огненные реки – как они текут по широким улицам, обнимают зубчатые стены. И только когда пламя лижет подножие моего храма, я морщусь. Всё, довольно.
– Пусть мне построят золотые ворота. – Голос одновременно мой и чужой. Разве так бывает? Наверное, раз это сон. – И украсят их лазурью.
В ответ мне целуют сандалии и клянутся, что сделают всё, лишь бы великая богиня смилостивилась.
«То‐то же», – думаю я и приказываю огню остановиться.
А когда просыпаюсь, первым делом лезу в поисковик: «Что делать, когда тебе снится, что ты бог?» Заодно проверяю уведомления на телефоне. Ничего нового. И тут меня накрывает: Тёма! Но не успеваю набрать номер, как телефон мигает и выводит сообщение:
Ты как?
От Тёмы. Выдохнув, я бросаюсь ему звонить. Но Тёма сбрасывает, затем присылает:
Не мочь пока говорю. Отец рядом.
Ага, и пишет за тебя Т9. Я кусаю губу и прошу в ответ:
Пришли смайлик, если с тобой все в порядке.
Он шлет даже три смайлика. Один с рукой – большой палец вверх, другой – улыбка, третий – поцелуй.
Я с облегчением выдыхаю. Значит, все хорошо.
А Тёма добавляет:
Я слушать школа ты серый ух.
Я уточняю:
Ты в больнице?
Все хорошо.
И добавляет еще смайлики, такие же оптимистичные.
«Позвони, когда сможешь», – набираю я и тут же стираю. Нельзя, не нужно привязывать к себе этого хорошего мальчика. Ему нужна нормальная девочка, не я. К тому же это все мой взгляд, иначе бы Тёма и внимания на меня не обратил. Им всем нужна не я, а красивая кукла. Тёма не исключение. Просто он такой добрый, что я иногда забываюсь.
Поправляйся скорее.
Я опускаю телефон.
Мир вокруг черно-серый и пустой, в нем клубится мгла, и мне снова слышится запах дыма. А, нет, это сосед на крыльце курит, а у меня открыта форточка.
Я сижу на кровати, смотрю в одну точку и чувствую себя одинокой и ненужной. Если бы меня вдруг не стало, кто‐нибудь заметил бы? Да, конечно: мама и Тёма. Обоим бы стало легче.
Это так грустно, что я не могу сдержать слез. И, плача, кажется, засыпаю.
На этот раз мне снится камень-подвеска на прикроватной тумбочке. Тот самый, который я вчера откуда‐то принесла. Он искрится, еле-еле, но так красиво и завораживающе – невозможно оторваться. Я беру его в руки – он теплый и приятно шершавый. Я снова изучаю шнуровку, потом – эти странные искры. И думаю: вот бы домой! Почему‐то во сне я уверена, что мой дом не здесь.