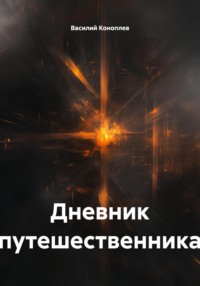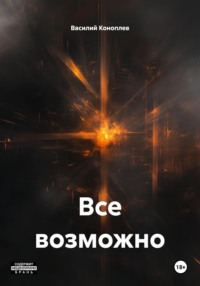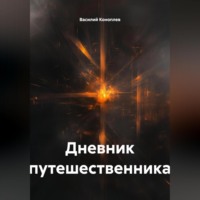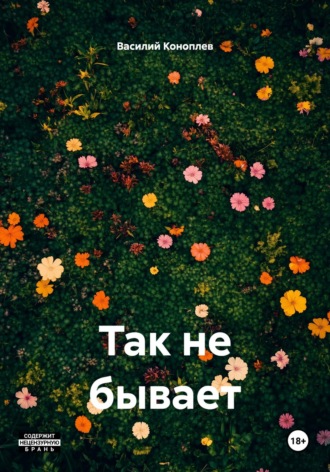
Полная версия
Так не бывает
– Да я бы и так, без оплаты приходил.
– Э, нет, уважаемый! Каждый труд должен быть справедливо оплачен, в противном случае он превращается в эксплуатацию. А это не по-советски!
Горин улыбнулся ещё шире, так что не ответить ему тем же было невозможно.
– А теперь о нашем с вами секрете. Вторую половину ставки режиссёра я отдам очень красивой и талантливой представительнице слабого, но прекрасного пола.
Алексей поджал губы.
– Это вас, многоуважаемый князь Пожарский, ни к чему не обяжет. Она станет вам просто необходимым помощником. Только подумайте, Вы ведёте уроки, а она занимается костюмами. Вы предлагаете идею оформления сцены, а она с нашим художником это воплощает в жизнь. Ведь ей никто ни в чём не откажет. Пусть только кто‑нибудь попробует. Она – жена директора клуба.
Левый глаз Якова Моисеевича плутовски подмигнул.
– Вы должны её помнить. Она училась на курс старше вас на музыкальном отделении. Сашенька Маевская. У неё чудесный голос, и она руководит в клубе вокальной группой. Но… сами понимаете, зарплата невелика. Я думаю, вы подружитесь.
И Алексей вспомнил жгучую брюнетку, которая в составе концертной агитбригады ездила каждое лето по стройотрядам вместе со студенческим театром. Точно, её так и объявляли перед сольным выступлением: Сашенька Маевская. «Ну что ж? – решил Пожарский, – Мир тесен. А за Сашеньку просто радостно! Молодец! Удачно вышла замуж!»
Почему?
Сентябрь прошёл в непрерывных занятиях в театральной студии. Не могло этому помешать и традиционное участие школьников в сельхозработах. Почти каждый день с утра подгоняли автобусы, и учеников средних и старших классов вывозили на картофельные плантации. Куда девались тонны выкопанной картошки, было загадкой. Сельчане кормились с урожаев, снятых с собственных огородов, да и многие из горожан заготавливали так называемый «второй хлеб» на дачных участках и на сотках, выделяемых для посадки картофеля. «Закрома родины пополнились миллионами тонн нового урожая» – сообщала пресса. Где они находились эти «закрома»? Государственная тайна.
Не смотря на неизбежные трудности и монотонность работы, мальчишки и девчонки в этой уборочной эпопее проявляли юношеский задор, находя во всём походную романтику. Поездка в автобусе сопровождалась пением популярных песен, а обеденный перерыв превращался в весёлые посиделки с играми и развлечениями. По кругу шла гитара. Тогда‑то и узнали явленские школьники о студенческом фольклоре в исполнении молодого учителя Пожарского. Алексей напевал неизвестные для учащихся куплеты, то наполненные иронией, шутками и намёками на взрослую жизнь, а то лирические и задушевные, об искренней любви и преданности.
А после вынужденных сельхоззаготовок у ребят находились силы и на репетиции, на которых Алексей наслаждался любимой работой. Ребята увлечённо осваивали всё предложенное им и трудились без устали. Порой всем составом сидели в зале и ждали, пока шёл разбор мизансцены всего лишь двух героев. Поначалу режиссёр гордился собой, думая, что все его юные актёры вникают в азы сценического действа. Но, благодаря лопоухому Митьке Орехину, того, что первым выбрал себе роль Зурина, однажды многое разъяснилось.
– Алексей Егорович, а нельзя ли ваши чудесные тайны раскрывать до начала репетиции, я тогда, если не занят на сцене, с вашего разрешения мог бы домой смотаться. Надо воды натаскать, мамка на завтра стирку решила затеять.
Все посмеялись над хриплым Митяем, но по глазам ребят Алексей понял, они его поддерживают.
«Так вот почему все сидят допоздна! Ждут интересных рассказов. Ну, что ж, сам привязал их к себе сообщениями о малоизвестном».
– Хорошо! Я согласен. Итак, не кажется ли вам, дорогие мои, странным, что и Пётр Гринёв, и Маша Миронова были единственными детьми в своих семьях? Не задумывались? А давайте поразмышляем на эту тему. В восемнадцатом веке почти все семьи были многодетными. Женщины рожали почти каждый год. В роду должны были быть наследники. Но… очень часто дети умирали. К примеру, у Петра Первого было одиннадцать детей. Не знали? И ни одного наследника по мужской линии. Старшего сына от первой жены, обвинённого в государственной измене, он заточил в крепости, где тот и скончался. Другие умирали младенцами или в раннем детстве. Из дочерей лишь Анна дожила до двадцати лет и Елизавета, ставшая затем императрицей, она единственная умерла в зрелом возрасте пятидесяти двух лет. В общем, выживали в дворянских семьях не многие. Нередко случалось и так, что наследовать имение и титул было некому. Так произошло в семье полководца Суворова, после внуков некому оказалось передавать княжеский титул, полученный фельдмаршалом за военные победы. Он, кстати, был не просто современником тех событий, что описываются в «Капитанской дочке», Суворов, будучи генералом, доставил пойманного Пугачёва в Симбирск, отбиваясь от не разбитых ещё повстанцев.
– А я летом в областном центре смотрел новый фильм «Емельян Пугачёв» 21, там про Суворова даже не упоминается, – высказал своё сомнение Андрей Стройнов.
– Это и понятно, зачем показывать, как один национальный герой везёт другого в клетке на казнь. Но если бы ты, Андрей, смотрел фильм повнимательнее, то заметил бы, что в нескольких эпизодах на экране появляется офицер, удивительно похожий на Александра Васильевича Суворова. Так режиссёр попытался восстановить историческую правду. Однако вернёмся к нашим овечкам, то есть к многодетным семьям. Общеизвестно, что у Александра Сергеевича Пушкина была старшая сестра Ольга и младший брат Лев. А ведь мать поэта, кроме них, ещё пятерых родила. Но их, как говорится, бог прибрал. У самого Пушкина жена за шесть лет совместной жизни пять раз была «брюхатой». Так сам Александр Сергеевич называл интересное положение своей жены – красавицы Натальи. И в семьях наших героев скорее всего детей тоже могло быть немало, но выжили только Пётр и Марья. В те времена повсеместно свирепствовали детские эпидемии кори, скарлатины, коклюша. К ним следует добавить и другие заразные инфекционные болезни: оспа, дифтерия, чахотка. Причиной тому были в первую очередь отсутствие должной гигиены и прививок. Кстати, рожали в те времена только в домашних условиях. И помогали роженице либо родственники, либо повивальные бабки. В деревнях их окликали по-простецки – повитухами. Слышали, наверное, о таких? А вот почему именно это слово появилось? Не догадываетесь? После того, как ребёнка заворачивали в пелёнки, именно баба повитуха первой обвязывала, то есть «обвивала», «повивала» дитятю лентой, чтобы тот не распеленался. Вот и всё. Ну, конечно, повитуху в народе ещё называли «пупорезкой», «приемницей», «знахаркой». В общем, акушерок тогда не было, и младенческая смертность, как и детская, была ужасающей. Это касательно общей статистики в те далёкие времена. А у меня есть по этому поводу и своя версия. Дело в том, что история семейства Гринёвых и Мироновых вымышлена. Их имена и судьбы придумал и изложил в виде дневника героя сам Пушкин. А чтобы придать повествованию достоверность, Александр Сергеевич при публикации даже не упоминал свою фамилию как автора. Этот приём он уже использовал в своём творчестве. Так появились пять рассказов, объединённых одним названием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Писатель сам определял, сколько детей будет в семье его персонажей и, зачастую, чтобы не отвлекаться на братьев и сестёр и не тормозить сюжет, оставлял только одного ребёнка. Пример тому есть почти в каждом произведении Пушкина. Это и заглавные герои в первой же поэме «Руслан и Людмила», затем в повести «Дубровский» – Маша Троекурова и Владимир Дубровский, в «Барышне и крестьянке» – Лиза Муромская и Алексей Берестов, по одной дочери было и у станционного смотрителя Вырина, и у мельника в «Русалке», и у Гаврилы Гавриловича в «Метели», и единственным наследником барона был сын Альбер в «Скупом рыцаре», и Евгений в семействе Онегиных, и Владимир у Ленских. Таков авторский выбор.
– А сёстры Ларины? – не удержалась с вопросом розовощёкая Оля Кузнецова.
– Молодец! Правильное уточнение! – поддержал её Алексей Егорович. – Ларины, как исключение, лишь подтверждают правило. Пушкину нужны были обе сестры для противопоставления: одна – «кругла, лицом красна, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне», другая – «умом и волею живой, и сердцем пламенным и нежным» одарена. А ещё младшая сестра – легкомысленная виновница дуэли (ну какая без неё интрига?), а старшая – авторская любимица. Неженатый ещё Пушкин изобразил в ней «лучшие черты русской женщины». Не я это заметил, а Белинский. И в заключение ещё одно доказательство, что жизнь – это не литература: после смерти Пушкина, Наталья Николаевна родила ещё троих детей во втором браке.
Ничего себе!
Традиционно в первое воскресенье октября вот уже пятнадцать лет в Советском Союзе отмечался День учителя. Накануне, обычно в пятницу, в областном центре собирали педагогов на торжественное собрание, вручали грамоты и благодарности.
Степана Нестеровича предупредили, что он включён в делегацию от Явленского района. После обеда за ним в школу заехала машина первого секретаря райкома партии.
– Это к добру! – заметил капитан Ржавин, провожая директора. – Вечером собираем мужской клуб, и ждём вас, как говорится, на щите!
Отменив репетицию в этот день, Пожарский решил заглянуть, наконец‑то, в спортзал – надо же как‑то время скоротать, да и неудобно уже перед Мариной Юрьевной, ходит за ним целый месяц, уговаривает.
Появление Алексея Егоровича на тренировке вызвало бурное одобрение молодых учительниц, они играли в волейбол. Быстро переодевшись, Алексей влился в одну из команд, с удовольствием выполнял подачи, ставил блоки у сетки, отбивал мяч на приёме, в общем, отдавался игре с азартом, как в студенческие годы. А кроме этого, старался ещё и повеселить компанию шутками перед подачей: «Налетай, подешевело!», «Руки… мыли? Руки мой перед игрой!», «Мяч летит на парашюте, пусть летит, а мы пошутим!», «Мяч подам я очень метко, ты держи его под сеткой!»
После тренировки, девчата благодарили Пожарского за то, что он внёс разнообразие в игру и повеселил их всех.
Марина Юрьевна попросила его помочь установить стол для пинг-понга, чтобы проверить уровень теннисного мастерства Пожарского.
– Ну-ну! – захихикали, уходя девчонки. – Алексей Егорович, не подведите.
Алексей неплохо владел ракеткой, но учительница физкультуры неустанно гоняла его, запуская теннисный шарик из угла в угол стола. В общем, из всех сыгранных партий Марина Юрьевна не проиграла ни одной.
Лёшка не ожидал такого фиаско, расстроенный, пошёл переодеваться. Когда стягивал через голову мокрую футболку, вдруг почувствовал, как чьи‑то руки хищно обхватили его из-за спины.
– Не знаю, почему, но потный разгорячённый торс мужчины меня сильно возбуждает, – это была Марина Юрьевна.
Алексей попытался развернуться. У него ничего не получилось, полуснятая, влажная от пота футболка висела на руках, как наручники.
Марина с жаром дышала ему в ухо:
– Неужели ты не замечаешь, как я хочу тебя?
– Стоп, стоп, стоп, стоп! – ничего другого в этот момент парню на ум не приходило.
А пылкая «пантера» губами уже впилась ему в шею поцелуем. Лопатками он ощущал прильнувшие мягкие груди. Самое неожиданное для Лёшки было то, что он уже почувствовал в своём паху предательское шевеление. В этот момент физиология сама управляла кровяными потоками, забирая кровь от мозгов и направляя её вниз.
И вдруг в самый напряжённую минуту за пределами раздевалки прозвучало его имя:
– Алексей Егорович! – звонкий голос капитана Ржавина спасительно размножился эхом в пустом спортзале.
Из горла неудовлетворённой «пантеры» вырвался приглушённый рык:
– Как не вовремя! Дура! Надо было на ключ закрыться!
Когда на пороге раздевалки появился бравый Арамис, Марина уже отпрянула от Алексея:
– Да здесь он, здесь, Анатолий Петрович! Капитан, как всегда, на передовой!
Оттесняя Ржавина в дверном проёме, Марина сделала рукой резкий выпад в направление ширинки военрука. Тот сложенными ладонями успел прикрыть ценное место.
– Хорошая реакция! Не расслабляйся, служивый! – и амазонка исчезла за дверью.
Алексей, раскрасневшийся, растерянно стоял, вытянув руки с футболкой.
– Тебе помочь? – предложил Анатолий Петрович.
– А? Нет! Спасибо! – приходя в себя, отказался Лёшка.
Пока он переодевался, Ржавин наставительно поучал:
– Я скажу тебе так, дорогой Дартаньян, всё это – твоё личное дело. Марина – баба горячая, несколько озабоченная «миледи». Но имей в виду. Муж у неё – здоровенный громила. Правда, он то на вахте, то беспробудно пьян. Но многим её полюбовникам зубы по одному пересчитал. Его у нас, в Явленке, боятся. Дурак дураком, когда выпьет. Ты мальчик хрупкий, он тебя на раз переломит. Давай-ка лучше в оружейку поднимайся, Степан Нестерович приехал.
Стол уже был накрыт. Директор ещё не подошёл. Мушкетёры приготовились к встрече, прислушиваясь к стуку неритмичных шагов: широкий с перекатом с каблука на подошву, затем укороченный с опорой на костыль и с пристукиванием тросточкой. Дверь открылась. На пороге стоял бравый Степан Нестерович. На пиджаке, отливая серебром, сверкала новая награда. Да и сам Гроздов светился, как надраенная бляха. Было видно, что он доволен наградой и просто счастлив.
Арамис, Партос и Дартаньян акапельно исполнили поздравительный туш в честь награждённого, а затем ринулись обнимать и поздравлять дорогого Атоса.
– Ну, ладно, ладно, друзья мои! Спасибо, конечно, за ваше внимание ко мне. Но вы не представляете, как хочется выпить!
– Давайте за стол, – предложил трудовик.
Расселись, налили, приготовили закуски.
– Позвольте начать мне, – взял инициативу в свои руки капитан. – Ещё в годы войны молодой офицер Степан Гроздов после тяжёлых ранений на фронте прибыл в Явленку. Славный воинский подвиг младшего лейтенанта был отмечен боевым Орденом Красной Звезды. И вот спустя тридцать пять лет партия и правительство вручили бессменному директору средней школы Орден Трудовой Славы. И мы счастливы, что имеем возможность поздравить нашего дорого Степана Нестеровича с заслуженной наградой. Два коротких, один протяжный…
И все дружно подхватили:
– Ура! Ура! Ура-а-а!
Выпили, закусили.
– Спасибо, дорогие мои! – растрогался Гроздов. – Без сомнения, этой наградой отмечена вся наша школа. Что бы я смог сделать без вас! И вот теперь после того, как мы вместе обмыли орден, он стал настоящим. Я почему‑то несколько дней назад, когда у меня в исполкоме запросили орденскую книжку, якобы для сверки, не догадался о новой награде.
Степан вынул из внутреннего кармана небольшое красное удостоверение и передал его Алексею.
– Зато вручение, я думаю, стало приятной неожиданностью, – предположил Тищенко.
– Это точно! Я даже разволновался, когда меня пригласили на сцену для награждения. Ну, думаю, грамоту, как обычно, вручат, а тут, на тебе, орден! Сам первый секретарь Василий Петрович Демиденко приколол его на грудь и руку пожал.
Алексей с интересом слушал директора и внимательно разглядывал орденскую книжку 22.
– Степан Нестерович, вы меня простите, пожалуйста, но я полюбопытствую. Вот на обложке изображён герб Советского Союза. Я несколько раз пересчитал и получается, что вокруг колосьев шестнадцать ленточек. Каждая символизирует Союзную республику, а их ведь пятнадцать.
– А! Молодец Алексей Егорович! Наблюдательность – хорошая черта, а любознательность – похвальная! Это не ошибка, просто вы очень молодой человек. А часть истории нашей для вас тихо умалчивается. Впрочем, лучше об этом может рассказать Анатолий Петрович.
– А я с удовольствием! – согласился военрук. – Но чуть позже, сначала предлагаю выпить!
Все поддержали своевременный призыв. Слово взял директор.
– Не будем забывать, что сегодня канун нашего профессионального праздника – Дня Учителя! Все мы очень разные! Анатолий Петрович – военный человек, Олег Иванович – инженер, вот Алексей Егорович – кроме того, что педагог, ещё артист и режиссёр. Но всех нас объединяет учительская судьба. Я вижу, как вокруг каждого из вас собираются школьники, как вы увлекаете их своим любимым делом, как они тянутся к вам, верят в вас и любят. Да это ж самое важное – научить детей верить и любить. Всякие испытания могут вставать у нас и у них на пути, но главное – научиться и научить взаимопониманию, не важно через какой учебный предмет. Вы занимаетесь благородным делом, с чем я вас и поздравляю! Дай бог здоровья и наставникам, и нашим подопечным – ученикам! Им благоразумия, нам терпения! А если даже что‑то иногда идёт не так – грех обижаться на судьбу…
– Другой не будет! – продолжили мушкетёры хором и подняли стаканы.
После закусочной паузы капитан Ржавин, вытерев салфеткой губы, начал свой рассказ:
– Скажите, Алексей Егорович, случалось ли вам гулять по ВДНХ в Москве?
– Один раз был на экскурсии, организованной обкомом комсомола для студентов-отличников.
– Превосходно! А не запомнился ли вам фонтан на центральной аллее под названием «Дружба народов»?
– Конечно! В центре хлебные снопы, а по периметру золотые женские фигуры в национальных костюмах.
– Так! Всё верно! Каждая из них символизирует свою республику. А не было желания их посчитать?
– Нет! Вроде и так понятно…
– Что их там шестнадцать! – Анатолий Петрович многозначительно опустил голову и одновременно приподнял брови.
Алексей в удивлении повторил его мимику, быстро соображая: «Слово «республика» женского рода, поэтому там изображены девушки как сёстры, если шестнадцатая фигура символизирует Советский Союз (а это слово мужского рода), то должна бы, по логике, стоять фигура брата. Но её там точно нет!»
Ржавин тянул паузу, давая возможность Пожарскому прийти к какому‑нибудь выводу, и кивал головой, как бы ожидая ответа. Алексей пожал плечами.
Старшие мушкетёры переглянулись, дружно вздохнули и развели руками.
– Итак! – капитан продолжал рулить. – Установили фонтан в 1954 году. Ну, Вас тогда ещё, наверное, и в планах не было? А в то время в Советском Союзе было шестнадцать союзных республик. Кроме известных вам ныне, с сорокового года существовала ещё и Карело-Финская ССР.
Капитан открыл один из шкафов и достал металлическую коробочку, в ней оказались монеты. Пошурудив в них пальцами, он достал одну и передал Алексею. Это оказался «троячок» – три копейки 1954 года.
– Посчитай ленточки на гербе! – попросил Ржавин.
Их оказалось шестнадцать. Сколько раз видел Лёшка подобные старые монетки, когда играл в детстве в «чику»! И не догадался посчитать эти несчастные ленточки.
– В общем, в 1956 году Никита Сергеевич пошёл на уступки новому президенту Финляндии и расформировал союзную республику, понизив её статус и убрав из названия слово «Финская». Теперь это Карельская Автономная республика в составе РСФСР. Но слово из песни не выкинешь. Многие документы, созданные в те года, имеют печать и герб СССР с шестнадцатью ленточками, как у Степана Нестеровича на орденской книжке. Не стали разрушать и фонтан на ВДНХ. А вот Карело-Финский павильон упразднили навсегда, правда, там периодически устраивают всякие выставки, кстати, именно там демонстрировали модель первого искусственного спутника Земли.
Анатолий Петрович, блистая эрудицией, постоянно поглядывал в сторону директора, и тот одобрительно кивал головой.
Довольный собой, Ржавин наполнил стаканы «коленвалом» и предложил:
– Не будем, друзья, забывать о празднике. Предлагаю. За нашего главного учителя Степана Нестеровича Гроздова, за его свежую награду, и за то, чтобы к ордену третьей степени поскорее добавились ордена второй и первой, и будет у нас, в Явленке, свой полный кавалер орденов Трудовой Славы.
По-домашнему
Выходные дни для Пожарского были дополнительными рабочими. Он приходил в школу по воскресеньям и проверял накопленные за неделю ученические тетрадки с домашними заданиями и диктантами. Благое время, тишина, никто не отвлекает. Он обычно брал с собой бутылку молока и батон на перекус. Но в воскресный день седьмого октября после проверки тетрадей Алексей по просьбе баб Маши должен был явиться на обед.
Из хаты, возбуждая аппетит, на веранду проникали ароматные запахи обжаренного в масле лука. Рядом с входной дверью стоял посох с набалдашником. «Ёк-макарёк в гостях!» – решил Алексей.
– Ну вот явился именинник, – радостно приветствовал его дед Мирка, восседавший за обеденным столом, как хозяин.
– Здравствуйте! А почему именинник? – удивился Алексей. – Я в июне родился.
– Ну и что? Ты забыл, что ли? Сегодня день венценосного Стефания, наречённого в честь святого первомученика Степана, апостола Христова, – не унимался дед.
– Алёшенька, ты не слушай его поперечного, давай-ка к рукомойнику да за стол, – пыталась отвлечь квартиранта баб Маша.
Пока Пожарский мыл руки, дед Мирка всё не унимался.
– Как это не слушай? Ты, Мария, в мужицкие дела не встревай! Я специально зашёл в церковь к батюшке, спросил, у каких святых сегодня именины. Он достал месяцеслов и стал перечислять, много кого назвал, эх, полсела могут сегодня гулять! А я запомнил, что и Степан среди других есть. Вот! – вытащил он из кармана чекушку. – Не зря же я в сельпо деньги оставил?
– Так я же, дедушка, не Степан – Алексей.
– Как Алексей? Вот ёк-макарёк! Когда перекрестился?
– Да отроду им был.
– Погодь, ты ж директор?
– Нет! Учитель.
– Вот те на! Тебя что разжаловали?
– Да угомонись ты, пень трухлявый! – опять вмешалась баб Маша.
– Как угомонись? Он у тебя живёт? Живёт! Ну? Значит, Степан!
– Да ты забыл? Стёпа уж давненько, как съехал. А это молодой учитель. В школе работает у Степана Нестеровича, деток учит. Алексеем Егоровичем величают.
– А-а! Это тот, что на метле прошлый раз прилетел?
– Ну да! Ой! На какой метле? Чертяка старый, что ты меня в грех вводишь? Окстись, непотребный! Сегодня День учителя, праздник у Алексея. Вот поздравить надо!
– Ну, а я что против? – обрадовался такому повороту событий дед. – Не зря всё‑таки в сельпо заглянул!
– Так наливай! – уже начинала сердиться баб Маша. – Борщ стынет!
Это был первый праздник в жизни Алексея, который он отмечал уже третий день подряд: в пятницу – в мужском клубе, в субботу – ученики поздравляли во время уроков, а сегодня вот – в домашней обстановке.
Выпили, закусили.
– Хорошая у тебя работа. Всё время в тепле да под крышей. Дети вокруг. Это ж наше будущее. Что ни говори, а они нас переживут, – пустился в рассуждения дед Мирка.
– Ага! Тебя переживёшь! Уже, верно, три поколения народилось и ушло, а тебя господь всё не приберёт!
– А зачем я ему, пень трухлявый и чертяка старый, так ты меня называешь? Бог‑то он всё слышит.
– Обиделся, что ли? – удивилась баб Маша.
– Зачем обиделся? На обиженных воду возят, а я что, лошадь? – парировал дед Мирка.
– Причём тут лошадь? – не поняла хозяйка.
– Вот молодёжь, ёк-макарёк! Забыла, что ли? В ранешние времена таскали водицу с реки в бочках. А запрягали‑то в телегу лошадку, да не рысистого скакуна и не здоровую породистую конягу, а каких‑нибудь бракованных, увечных кобылок. Они‑то, богом обиженные, и возили воду. Отсюда и поговорка пошла про обиженных, на которых воду возят. Верно, учитель?
Алексей кивнул, хотя по этому поводу он знал из курса фольклористики другую версию: «на обиженных воду возят, а на добрых верхом ездят», – но не стал прерывать интересный диалог стариков.
– Вот сколько лет знаю тебя, дед Мирка, а всё удивляюсь, – рассудила баб Маша, – то дурачком прикидываешься, то не помнишь ничего, а то наговоришь с три короба, ну, прям философ.
– Так это ж я всё для тебя стараюсь. А вдруг понравлюсь, обратишь на меня внимание, снизойдёшь к убогому, да и пойдешь за меня, – выдал дед Мирка восторженную тираду и подмигнул Алексею.
– Ну вот, каждый раз про одно и тоже. До смертинки три пердинки, а туда же – в женихи!
Алексей не смог сдержаться – и в голос рассмеялся. За столом его поддержали, и они втроём предались примиряющему смеху.
Чекушка закончилась быстро.
– А вот Алексей Егорович давеча зарплату первую получил, – погордилась за квартиранта баб Маша, – со мной не только рассчитался, но и авансом заплатил за проживание.
– Да ты что? Первая зарплата? – дед Мирка округлил глаза. – Ну, здесь одной чекушкой не обойдёшься. Твоя очередь, Лёха, в сельпо бежать.
– Да я к этому случаю приготовился, – Алексей поднялся из-за стола, – у меня в запасе имеется.
– Вот, ёк-макарёк, – проворчал дед Мирка, когда Алексей скрылся в своей спальне, – знатьё бы, что у вас тут запасы имеются, не ходил бы в сельпо.
Но баб Маша его не слушала, занимаясь сменой посуды и выставляя новые закуски.
Алексей принёс обещанную чекушку, хотя в заначке была и поллитровка, но завтра у него у самого уроки с утра, да и старики – это ж не мушкетёры по состоянию здоровья.