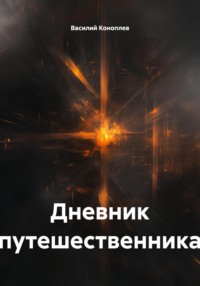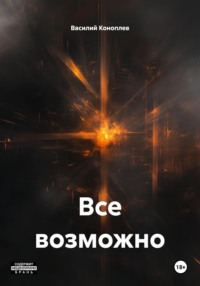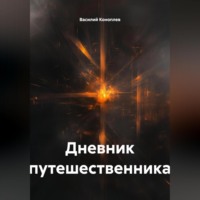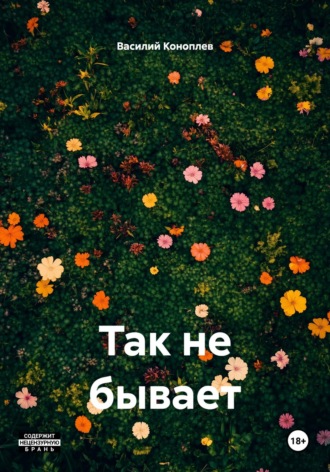
Полная версия
Так не бывает
Ольга
Своего отца Оля Кузнецова почти и не помнила. Ей ещё и четырёх не исполнилось, когда его не стало. Её родители, молодые педагоги, после пединститута оказались по распределению в Явленке. Трудились в школе. Летом, как и многие молодые учителя, отец подрабатывал воспитателем в пионерском лагере, который располагался на берегу реки. Беда случилась во время купания. Три мальчугана заплыли за ограждение, их потянуло течением к кустам, а там омуты. Первым бросился на спасение детей именно её отец. Подныривал под пацанов, выталкивал испуганных, бултыхающихся мальчишек ближе к берегу, а самого его вода так и не отпустила. Спасая чужих сыновей, молодой человек осиротил собственную дочь.
В памяти остался образ большого сильного человека: отец садил её на ладонь, поднимал высоко над головой, затем подкидывал, ловил в свои объятия, и долго они, так обнявшись, и кружились. Она всем тельцем прижималась к отцу и была счастлива. И потом, годы спустя, ей постоянно вспоминалась эта мужественная отцовская ласка.
Мама замуж больше не выходила, всю себя отдавала воспитанию дочери. Правда, из школы ушла – ей предложили место в районо. Оленька росла послушным, добрым ребёнком. Учёба давалась ей нельзя сказать, чтобы легко, зато усердие всё компенсировало. Всегда аккуратную, опрятную, дружелюбную, её любили и учителя, и одноклассники. На её розовощёком лице так прямо и читалось – отличница. Маленький рост не мешал ей быть активисткой в общественной жизни, её утвердили школьным комсомольским вожаком.
Из одноклассниц Оля сблизилась только с Настей Петровой. «Хочешь найти Петрову, ищи Кузнецову» – ходила о них присловица. Странная была между ними дружба. Настюха – разбитная девчонка – училась лишь бы не на двойки, чтобы мать не била. Смазливая петровская мордашка с кудрявой головкой нравилась парням. За Настей всегда кто‑нибудь да ухаживал. Даже драки случались из-за неё. Обо всех своих приключениях подружка рассказывала Ольге в лицах: как кто целуется, какие подарки приносит, как надоели все ей со своими приставаниями. В десятом выпускном классе Петрова закадрила с Андреем Стройновым. Он за лето сильно вытянулся, отрастил волосы до плеч, стал похож на актёра Олега Видова из фильма «Всадник без головы». Удивительно, но на Ольгу Кузнецову Андрей не произвёл никакого впечатления. «Хлипковат» – думала она, глядя на одноклассника. «Мужчина должен быть сильным, мужественным, ну и умным, красивым, как папа, а уж если полюбить, так один раз и на всю жизнь, как мама», – внушала Оля сама себе. Да и выстраивать с кем‑то отношения у неё не было ни времени, не желания.
Ещё восьмиклассницей, когда изучали в школе «Евгения Онегина», Ольга сделала для себя вывод, что её тёзка, Ольга Ларина, любить не умеет и не способна, слишком легкомысленна, а вот её сестра Татьяна – молодец, всей душой полюбила Евгения, да так сильно, что смогла превозмочь стеснение и первой призналась в своих чувствах мужчине.
А в девятом классе до умопомрачения спорили подружки, соглашаться ли с утверждением Веры Павловны: «Умри, но не давай поцелуя без любви!»
– Я согласна и с ней, и с Чернышевским 23, – настаивала в споре Оля.
– Да? А кто первый произнёс эту фразу в романе? А? Многоопытная и разочарованная француженка Жюли. Ей легко быть светской ханжой, уставшей от продажной любви, – настаивала на своём Настя.
– Если ты хочешь быть и чистой, и верной, полюбив навсегда своего единственного, как же можно перед этим тренироваться с другим? – возражала Кузнецова.
– Да очень просто! Если ты будешь как желторотый птенец открывать свой неопытный клюв, то как бы твой возлюбленный не стал бы искать страстных поцелуев на стороне, – не успокаивалась Петрова.
Ольга, хоть и возмущалась, но где‑то в тайных глубинах души была согласна со своей более опытной подругой.
Repeter
Каждая репетиция была не похожа на предыдущую. Алексей старался так увлечь ребят, чтобы им было интересно: а что же будет завтра?
У Пожарского был полный набор театрального грима: грубые салфетки – их называли в театре «лигнин»; вазелин – с его помощью грим наносили и снимали; «гумоз» – специальная глина для увеличения носа и подбородка; коробочки красочных мастик для раскрашивания лица; обоюдозаострённые бумажные растушёвки для рисования морщин и подводки глаз. А театральная пудра привела всех в умиление! Когда, уже на сцене районного дома культуры Алексей показал ребятам, как может блестеть лицо на сцене под светом прожекторов, все поняли – без пудры ну никак нельзя обойтись! В своё время Алексей выписал её из Всероссийского театрального общества по почте. Оттенков восемь было у него в комплекте.
– У мамки белая и розовая пудра есть! И всё! – это Митька Орешин надтреснутым голосом оценил возможности гримёрки. – А здесь, прям радуга цветная! Если мамка узнает, что я пудрюсь, домой не пустит!
Все посмеялись, но попробовали: как это – выглядеть смуглым.
Алексей Егорович после общего сбора в гримёрке попросил остаться только исполнителей главных ролей Марии Мироновой и Петра Гринёва.
– А что новой истории не расскажите? – как всегда за всех прохрипел Орешин.
– Грим для вас – это дело привычное и не удивительное, да? – Алексей сделал вид, что обиделся. – Чем же вас можно удивить ещё? А знаете ли вы, уважаемые школьники двадцатого века, что современники Пушкина знали о его произведениях намного меньше, чем вы?
– Это как? – не понял Орешин.
– Вот вы уже в шестом классе изучали повесть «Дубровский», а при жизни Пушкина это произведение не было опубликовано, так оно и пролежало в черновиках. И лишь через четыре года после смерти писателя читатели впервые узнали о благородном разбойнике Владимире Дубровском. Кстати, название повести придумали издатели, а не автор. Не знали при жизни поэта и его знаменитую ныне поэму «Медный всадник», не пропущенную в печать цензурой. По той же причине не увидела свет и самая известная теперь его сказка «О попе и его работнике Балде». Да и «Капитанскую дочку» мало кто успел прочитать. Пушкин опубликовал повесть в конце 1836 года в журнале «Современник», на который подписано было всего двести человек. Известно, что в начале января 1837 года даже не все экземпляры журнала были переплетены. А через три недели поэт погиб на дуэли. Это мы с вами сегодня знаем про историю арапа, которого царь женил, а современники Пушкина об этом и не ведали. Так же, как и про «Каменного гостя». Да и «Скупого рыцаря» Александр Сергеевич опубликовал не под своим именем.
– Вот тебе на! – опять не удержался лопоухий Орешин. – «Ужасный век! Ужасные сердца!»
– В какой‑то степени, Дима, именно так! На этом, дорогие мои, всем – до свидания! А мы вернёмся к нашим овечкам, то есть к репетиции любовной сцены главных героев.
– Спасибо, Алексей Егорович, значит, пока Олька будет учиться целоваться, я успею посмотреть «Очевидное-невероятное». Прошлый раз передача была про антропомаксимологию, – он артистично выдержал паузу, оценивая реакцию окружающих на его артикуляцию и мудрёное слово. – Я был очень удивлён резервными возможностями человека. Ожидаю от научно-популярной передачи новых впечатлений. О! сколько там открытий новых!
Как всегда, подобной скороговоркой Орешину удалось всех повеселить перед уходом.
Начали репетицию.
Первая пара Ольга Кузнецова и Николай Фролов никак не могли настроиться на любовную сцену. Тогда их дублёры Настя Петрова и Андрей Стройнов попытались в момент прощания героев не изображать, а по-настоящему поцеловаться. Было видно, что опыт в этом у них уже был.
– Стоп! Не то! – остановил их Алексей Егорович. – Целоваться в жизни и на сцене – это не одно и тоже. Здесь не физиология важна, а повышенная чувственность. Для героев это и первый поцелуй, и, возможно, последний в их жизни, прощальный. И само прикосновение губами зрители могут и не увидеть, но почувствовать.
– Это как? – не понял Андрей. – Покажите!
– Ну, тогда все идите в зал, а Ольга останься на подмостках.
Алексей взял девушку за обе руки, посмотрел в глаза, притянул её к себе, пылко прижал к груди и с жаром произнёс реплику Петра Гринёва: «Прощай, ангел мой, прощай моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя моя молитва будет о тебе!»
После этого он отодвинул её от себя, она запрокинула голову назад, взглянув ему в глаза. Искра желания и страха сверкнула в этом взгляде. Затаив дыхание, они стояли так, глядя друг на друга, – и вдруг Алексей, обхватив её одной рукой и закрыв другой от зала, приблизился к её губам настолько, что почувствовал жар её дыхания. В этой позе они замерли. Пожарский почувствовал, что Ольга сначала напряглась, задрожала, а затем вся обмякла. «Она что, теряет сознание? – мелькнула мысль у Алексея. Он вернул её в прежнюю позу. Ноги, действительно под ней подкашивались. Она прикрыла лицо руками, а он, не оглядываясь, умчался в кулисы.
В затянувшейся тишине из зала вдруг раздался негромкий голос Насти:
– Вот это да! А ты, Андрей, так сможешь? А то обмусолишь всю меня губами: желание есть, а чувств нет!
– Ну, наконец‑то! Анастасия всё правильно поняла, – поддержал Настю режиссёр, выглянув из-за кулисы, –давайте будем репетировать: «repetér» – «повторять».
Выйти в люди!
Алексей соскучился по дому. На выходные он решил съездить в родную деревню – в Бугровку. У него была приготовлена приличная сумма денег, тех самых – из чёрной кассы. Наконец‑то, он сможет сам помочь маме. Вот и вырос у неё сын, стал независимым, самостоятельным. Когда пять лет тому назад Пожарский уезжал поступать в институт, на нём был костюм с выпускного вечера, на плечах рюкзачок с картошкой, а в кармане семьдесят рублей на первые пару месяцев.
Батька был механизатором широкого профиля, мог управлять любым совхозным трактором или комбайном. Алёшка сызмальства любил запах солярки и шум работающего двигателя. Отец брал его помощником то на сенокос, то на уборочную. Папка в кабине посадит его на колени, сам на педали нажимает, а он, мальчуган, смело рулит. «В жизни пригодится», – говаривал отец для самооправдания, а дома вечером нравоучал: «Это, сын не для тебя! Хватит с нас, что мы с мамкой на земле убиваемся. Вон учительница твоя говорит, что тебе дальше учиться нужно, ты – талант! Не загубить бы! В общем, сын, ты должен выйти в люди!» «Какой я талант? – думал Лёшка. – Ну, на баяне или гармошке могу любую мелодию подобрать, ну, стишки там к празднику зарифмовать, продекламировать их на праздничной сцене в чью‑нибудь честь – и что? А вот заставить слушаться себя железного коня – это совсем другое! Папка‑то это может!» Хотя, пацаном, он замечал, что отец постоянно упахивался, и всегда был на работе. Чтобы днём он когда прилёг, такого и не припомнится. Если не на совхозном поле плугом пашет, то на домашнем огороде лопатой копает, если не в МТМ 24 занимается ремонтом техники, то у себя в сарайке что‑нибудь мастерит. И врезалось в память его лицо: сухое, строгое, с морщинами в углублениях губ и с желваками, бегающими по щекам, они скрывали боль. Батька был язвенник. И не сказать, чтобы спиртным злоупотреблял (как все – по праздникам), а на рези в животе порой жаловался. Видно было, терпел. А зря! В тот злополучный день он с утра, как обычно, глотнул облепихового масла (мамка настояла), взял с собой тормозок с перекусом и термос с травяным чаем. Никто и не думал, что живым отца в семье больше никто не увидит. Когда он, скрюченный болью, не смог управлять комбайном, его на полевой летучке отправили в больницу. Часа два его трясли до города. доставили уже в бессознательном состоянии. Потом врачи объясняли – перитонит. Стечение обстоятельств: и прободение язвы, и гнойный аппендикс. Спасти было невозможно.
До областного центра из Явленки Лёшка ехал в районном автобусе, размышляя, что мамка денег для себя так просто не возьмёт, и поэтому искал объяснение: надо обновить памятник на могиле отца. Старшие замужние сёстры с головой ушли в заботы о своих новых семьях. Им до сельского кладбища и дела нет. Жестяные памятник и надгробие уже проржавели, надо бы заменить их на гранитные, а деньги где взять. Вот, сын заработал. Убедительный аргумент.
Автобус шёл медленно, Алексею думалось легко. Мысли перескакивали с одной на другую. И эта другая мысль была об Ольге Кузнецовой. Вчера во время репетиции он так вошёл в образ в любовной сцене, что, казалось, голову потерял. Он был действительно влюблён, но не в Машу Миронову, а в десятиклассницу Ольгу. Когда она после мнимого поцелуя обмякла в его руках, его как молнией пронзило: «Да ведь она тоже по-настоящему любит!» Он гнал от себя эту мысль (она ведь школьница!), старался думать, о чем‑нибудь ином. Например, о друзьях. Если будет возможность, надо в городе заглянуть к своему товарищу по студенческому театру Владимиру Льнянову. Он уже был женат. Счастливчик! Жил он с молодой женой в отдельной кооперативной квартире. У них появился малыш. Надо обязательно их проведать.
С автовокзала по телефону-автомату Лёшка позвонил Володьке, в трубку ответил незнакомый женский голос: «Сейчас посмотрю, он где‑то здесь». Через паузу Вовкин голос: «Лёха, приезжай, ты где? Сегодня похороны. Брат Колька умер!»
Старший брат Володи, Николай, жил в небольшом городке Сибирской тайги, как говорится, туда даже царь декабристов не ссылал. Беда случилась внезапно. Крепкий, краснощёкий парень Николай Льнянов в свои тридцать с небольшим лет выглядел настоящим русским богатырём. Широкоплечий, приземистый, мускулистый, всегда с приветливой улыбкой, он искренне наслаждался жизнью: Жена, дети, как положено; привечал друзей и любил застолье; имел своё охотничье угодье, азартно рыбачил, забираясь на моторной лодке в небольшие горные речушки; кулями заготавливал кедровые шишки; выбираясь в отпуск на «большую землю», путешествовал по Европе – в общем, жил на широкую ногу, ни в чём не отказывал ни себе, ни своим родным. И вдруг… Стало трудно дышать. Замучила головная боль. Лёгкая операция, как обещали врачи, по удалению полипов в носу действительно помогла. Но через три года стало совсем плохо. Голову разрывало мучительной пыткой: терпеть мочи нет, легче сдохнуть! Обезболивающие не помогали. Только коньяк. Покупал его ящиками. Лёг на обследование в областную больницу. Предложили ординарную операцию под общим наркозом. Без всякого опасения согласился. И вдруг, уже второй «и вдруг»… Оказалось – это не полипы, а онкология. Хирург вскрыл носовую полость и ужаснулся. Метастазы уже ушли в мозг, а это профиль не отоларинголога. Третий «и вдруг» был летальным. От наркоза Николай так и не пришёл в себя. Бедная жена в безысходности не знала, что делать, а когда родители Николая по телефону потребовали везти тело в Казахстан, где они жили, совсем растерялась. Хорошо друзья Колькины оказались рядом. Всё устроили. И вот на девятый день после кончины покойного доставили в Петропавловск. Об этом подробно рассказывал Алексею Володька. Чувствовалось, ему просто хотелось выговориться.
– Вовик, чем я могу помочь, может деньги нужны? – Алексей искренне желал принять участие в печальных событиях.
– Спасибо, Князь! Всё уже организовано и оплачено. Просто будь рядом. Для меня это важно!
Володька энергично распоряжался и в траурном мероприятии у дома, и на кладбище. Был сосредоточен и спокоен. Командовал, как ровнее установить надгробие и памятник с обязательной красной звездой. Друзья Николая подошли к Володьке и предложили помянуть покойного по сибирской традиции прямо у могилы. Налили в стакан водки, плеснув сперва на свежий надгробный холмик. Володя выпил, не закусывая. Алкоголь подействовал почти сразу. Пока подходили к автобусу, пока в него усаживались, Льнянов вдруг взахлёб разрыдался на плече у Пожарского. Алексей и не пытался его успокоить, пусть через слёзы выплеснет из души накопившуюся горечь.
– Как мне больно, Лёха! Как жаль брата! Всё! Закопали его! Теперь я у мамки и папки один. Они так любили Николая!
Пока ехали на поминальную трапезу, Володька как будто задремал: затих, упёршись лбом в стекло автобусного окна, и не реагировал ни на что. Алексей вспомнил похороны отца. После того, как установили оградку, казалось, все присутствующие перестали плакать и горевать. Исполнив погребальную традицию, родственники успокоились и как будто просветлели, вздохнув. От кладбища до села шли пешком. Разговаривали о делах земных, не связанных со смертью отца. Алёшка удивлялся: они что, забыли сразу, что папка умер? Это были в его жизни первые похороны. Деды ушли из жизни, когда он был совсем маленьким. А теперь он, девятиклассник, в одночасье стал единственным мужиком в семье, ответственным и за дом, и за мамку, и за себя. Именно тогда Алексей и дал себе обещание исполнить отцовский завет – выйти в люди!
Конкуренция
Чем отличается драматический школьный кружок от театра? Вопрос, казалось бы, риторический, но требующий принципиального разъяснения. Выступление кружковцев, как правило, одноразовое. В театре же спектакли играют многократно.
К ноябрьским праздникам Наталья Ивановна Полянская традиционно готовила учеников к пафосному представлению: обычно это были короткие инсценировки на революционные темы, чтение стихов, исполнение бравурных песен. К ней в кружок записалось всего человек пять. Зато к Пожарскому – все двадцать. С верными ей девчонками она подготовила монтаж по воспоминаниям Леонида Ильича Брежнева 25 «Целина». В прошлом году они инсценировали первые две книги генсека «Малая Земля» и «Возрождение». В общем, перед каникулами в освобождённом от учебных столов классе состоялось выступление кружковцев. Собрались учителя, одноклассники, несколько родителей. Под музыку девочки озвучивали патетические слова партийного вождя. Выступление это было одноразовое. Но в лице администрации школы имело восторженную оценку. Что и говорить: налицо результат кружковой работы. «А когда хоть что‑нибудь сможет показать молодой учитель Пожарский? И покажет ли вообще?» – высказывала свою претензию руководитель методического объединения. Надо отдать должное и завучу, и директору, никто из них не подгонял Алексея Егоровича. Терпеливо ожидали премьеры, предполагая увидеть «нечто потрясающее», так внушал им директор клуба Яков Моисеевич Горин.
Незаметно подошла к концу первая учебная четверть. На каникулах репетиции не прекращались. Чаще собирались в клубе. Директор Горин уже заказал афиши для спектакля, следил, чтобы все прожектора на сцене работали исправно, постоянно интересовался у режиссёра, нет ли каких проблем. Юные актёры подбирали одежду и обувь в костюмерной, и Сашенька Маевская, то есть Александра Леонидовна Горина, с увлечением помогала в этом Пожарскому. Особенно она была незаменима, когда примеряли женский гардероб. Устроив просмотр нарядов, режиссёр был требовательным, но объективным, и всё же, когда вышла на сцену под свет прожекторов и софитов Ольга Кузнецова в образе героини, сердцебиение у Алексея участилось: до чего ж она красивая! Маленькая, милая, стройная, нежная и хрупкая. Ну, как Гринёву не влюбиться в такую Машу Миронову. «Гринёву можно, а мне – нельзя! – внушал себе Алексей Егорович. – Жаль! Я учитель, я педагог. Она ученица, ребёнок ещё!»
Школьный трудовик Олег Иванович Тищенко предложил свою помощь в изготовлении реквизита для спектакля. Табуреты он делал с точёными ножками. Скамейки массивные, на вид тяжёлые, но в действительности лёгкие в переноске. Особенно Тищенко преуспел в изготовлении оружия. У него нашлись чертежи мушкетов восемнадцатого века, он узнал, что их ещё называли «фузеями». К их изготовлению на уроках труда он подключил учеников. Можно сказать, вся мужская половина школы помогала Пожарскому создавать спектакль. И, главное, Тищенко-Партос придумал стреляющий макет пушки для Белогорской крепости, благо она там по сюжету была одна. В его представлении пушка должна выглядеть похожей на реальную, но не медная и не чугунная. Жестяная, усиленная с помощью папье-маше и раскрашенная. При выстреле орудие должно изрыгать пламя и дым, грохот нужно было, конечно, записать на магнитофонную плёнку. Алексей при создании спецэффектов даже не мог себе представить, что такое возможно. Специально для этого он выстроил мизансцену, когда осаждённые, ожидая приступа пугачёвцев, смотрят в зал и туда же палят из пушки. Эффект должен был быть грандиозным. Предполагалось, что выстрел произведёт сильное впечатление на публику. Специально воздействовать на зрителей режиссёр предполагал в трёх сценах. Первая – дуэльная: там в самый напряжённый момент схватки неожиданно раздавался вопль Савельича, выбегающего из зрительного зала, тогда‑то Швабрин и втыкал шпагу в грудь Гринёва. Вторая – с пушкой. А третья, заключительная, во время казни Пугачёва. Сцена постепенно должна заполняться любопытствующей говорливой толпой, все пялили глаза в зал, кидали реплики. Получается, что эшафот находился между зрителями и действующими лицами. Звучали прощальные слова Емельяна, и – удар топора. Затем вскрик народа. Постепенно, набирая мощь, звучала скребущая по сердцу музыка. Народ, перекрестившись, молча разбредался. Свет медленно затухал. Прижавшись друг к другу, на сцене оставались только Гринёв и Миронова. Последний прожектор, направленный на них, постепенно угасал. Голос рассказчика подытоживал: «На этом заканчиваются записки Петра Андреевича Гринёва».
Справедливость?
В понедельник, только вернувшись с осенних каникул, все учащиеся на переменах, и педагоги азартно обсуждали первую серию нового телефильма «Место встречи изменить нельзя» 26. Пожарский не принимал участия в обмене мнениями. Телевизор стоял в большой комнате, и баб Маша не всегда включала его по вечерам. Алексей не страдал от этого, в тишине занимаясь своими делами. Главное, что он понял из отдельных реплик в школе, действие в картине происходит в Москве после войны, герои – сотрудники МУРа 27, в ролях Высоцкий, Конкин, Юрский, в титрах заявлены ещё Джигарханян, Куравлёв, Белявский, Евстигнеев. При таком составе актёров кино, конечно, должно быть интересным. А когда Алексей Егорович услышал имена персонажей – Жиглов и Шарапов, сразу сообразил: так это же по книге братьев Вайнеров 28 «Эра милосердия».
Года три назад Володька Льнянов принёс Пожарскому захватывающий детектив. Они постоянно обменивались книгами, потом, прочитав, делились впечатлением. Увлечённо дискутировали и, порой не придя к общей точке зрения, расставались под утро, каждый убеждённый в своей правоте. Действие в романе разворачивается сразу после войны. Отдав миллионы жизней за победу, прожив четыре года среди мук, голода и смертей, советские люди заслужили мир, счастье, жизнь без насилия и злобы, граждане в стране надеялись на новые времена. Даже по календарю неких папуасов должна была наконец‑то настать эра милосердия. А в действительности в мирном городе идёт борьба с бандитизмом, воровством и убийствами. И чтобы добиться порядка, милиционерам тоже приходится стрелять на поражение. Жиглов считает, что все средства хороши для достижения цели: «Вор должен сидеть в тюрьме!» Но посадить вора используя нечестные приёмы, как в случае с Кирпичом, когда Жиглов подкидывает тому в карман кошелёк, – это, по мнению Шарапова, не справедливо. Кто из главных героев прав? Ну, ладно Кирпич, с ним всё понятно, он – враг. Такой же, как на войне, даже хуже, немец хоть форму фашистскую носит, а этот под своего косит. И цель у вора вражеская – ограбить. А вот как быть с загнанным в воровское логово Левченко? Бывшего фронтовика-разведчика отправляет за решётку отожравшийся в тылу особист. И где справедливость?
Вот на эту тему Льнянов с Пожарским и дискутировали. А что сейчас? В эпоху развитого социализма, через шестьдесят лет после революции наступила всё‑таки эра милосердия или нет?
Ведь до сих пор не сложно оговорить человека. Слава богу, сейчас из-за навета в Туруханск не ссылают, не тридцатые годы.
В сорок четвёртом Степан Нестерович Гроздов, узнав в исполкоме, что мать посадили за то, что она выносила зерно с элеватора и её с поличным взяли на проходной, был так раздосадован, что даже забыл поинтересоваться, а куда в какой детский дом отправили сестрёнку. Потому‑то он сразу и согласился остаться у баб Маши в Явленке, возвращаться в город не хотелось. Казалось, все с укором будут смотреть на него, как на сына преступницы. И главное, муж‑то у воровки геройски на войне погиб, один сын ногу потерял, другой без вести пропал, а она, зерно тырила, из которого для фронтовиков хлеб пекли. Позор! Простить такое было невозможно.
Работая в школе, Степан старался об этом не вспоминать. Окунался в дела с головой, только поспать и приходил домой. Иногда совесть грызла, стыдно было, что не забрал он к себе сестрёнку. А что он ей мог предложить? Сам жил, снимая комнату. С утра до вечера в школе. Одноногий. А в детском доме как ни как напоят, накормят, одёжкой обеспечат, образование дадут. Это он так сам себя успокаивал. Но однажды в конце сороковых, находясь по делам в областном центре, зашёл Степан в городское адресное бюро. Заполнил бумажку с данными про сестру и получил справочку о том, что Вера Егоровна Гроздова проживает в студенческом общежитии учительского института.