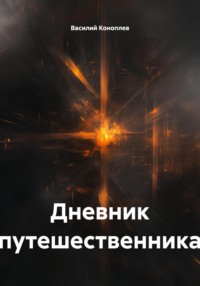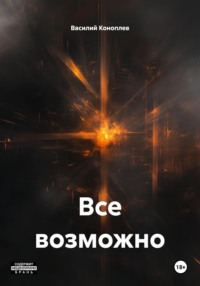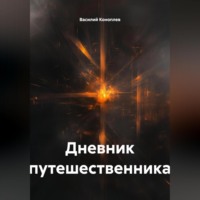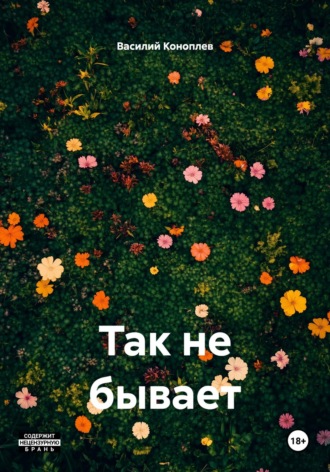
Полная версия
Так не бывает

Василий Коноплев
Так не бывает
Алексей. 1979 год.
С двадцать пятого августа у Алексея Пожарского начиналась новая жизнь. Накануне он, выпускник областного пединститута, приехал по распределению в районный центр Явленку 1 работать в школе учителем русского языка и литературы. Пожилая секретарша в приёмной директора приняла от него заявление, после заполнения анкет, она подробно объяснила, как пройти в райвоенкомат для постановки на воинский учёт. Когда же секретарша хлопнула ладошкой по папке с собранными документами, Лёшка подумал: «Ну, вот и всё, попал! Завели на меня личное дело!»
– Да, мил человек, – как будто прочитала его мысли секретарша, – начинается ваш трудовой стаж. Пойдёмте к директору.
Седовласый старик в потёртом кителе с орденом Красной Звезды неловко привстал и протянул руку навстречу Алексею через стол.
– Ну, вот и хорошо! С прибытием! Меня зовут Степан Нестерович Гроздов, а вас, молодой человек?
– Алексей Пожарский… Егорович, – Лёша пожал крепкую мозолистую руку директора.
– Ничего-ничего! Привыкайте. Теперь вы на всю жизнь для коллег и учеников будете Алексеем Егоровичем.
Жестом директор предложил присесть напротив него, а сам стал просматривать оставленную секретаршей папку с документами.
– Вот оно как, красный диплом! Отличник, значит! Это хорошо! Ну, я думаю, всё у вас получится. Семейное положение: холост. Это дело поправимое. Коллектив у нас женский. Мужиков всего трое. Трудовик, военрук и я. Так что держи ухо востро! Бабы у нас, то есть сельчанки, народ – ух! Ядрёный! Да ты не смущайся! Дело молодое! – директор подмигнул, без обиняков переходя на «ты». – Ну, да ладно, не об том речь. Я смотрю, ты к нам прямо с чемоданом. И правильно. Мы подготовили тебе жилище. Добротный дом, крестовой! Там баб Маша живёт. Одна. Пенсия у неё небольшая. Вот она и пускает на подселение. Порядок и чистота у неё идеальные. Ну, пойдём. Я тебя сам отведу к ней. Познакомлю, так сказать.
Степан Нестерович как‑то неуклюже стал выбираться из-за стола. Опираясь на тросточку и прихрамывая, он вышел на средину кабинета. И тогда Алексей увидел, что у директора был только один левый башмак, а из-под правой штанины выглядывал алюминиевый костыль с резиновым набалдашником.
Жила баб Маша неподалёку от школы. Когда мужчины подошли к её дому, она, как будто ждала, уже стояла на крылечке:
– Вот и Стёпушка пожаловал. Здравствуйте, гости дорогие. Милости прошу в дом.
Пройдя широкую веранду, Алексей оказался в просторных хоромах. Слева у окна расположился стол, напротив – печь с чугунной плитой. Одна дверь напротив входа вела, видимо, в большую комнату, другая, справа, – в комнату поменьше. А вместительная прихожая служила одновременно и кухней, и столовой. Обычно летом баб Маша готовила на лёгкой плите во дворе, но по случаю прихода гостей протопила печь в доме. Знакомый с детства запах свежевыпеченного хлеба принял Алёшку в свои объятия.
– Вот здесь, – женщина указала на дверной проём справа от входа, – будет ваша комнатка, не смущайтесь, проходите.
– Это, баб Маша, и будет наш новый учитель литературы Алексей Егорович, – представил директор молодого педагога.
– Ага, вместо Грудинихи, значит? – осведомилась хозяйка. – Оно и понятно, если Грудиниха ушла в декрет, вернётся нескоро. Пока пятерых не родит. Я их всех Грудининых знаю. У мамки её детей‑то семеро, а у бабки – одиннадцать было.
– Ну, ты, Алексей Егорович, баб Машу не переслушаешь, ты давай, чемоданчик свой в спаленке пристрой, пиджак скидывай и выходи к нам.
За шторками скрывалась большущая «спаленка». В общаге, где прожил Лёшка студентом четыре года, на такой площади поместилось бы кроватей пять. А здесь стол, койка, шифоньер и книжный шкаф, расставленные вдоль стен, открывали центр комнаты, как будто для танцев. «Здесь теперь и предстоит мне жить!» – с восхищением подумал Лёха.
Когда квартирант опять появился в кухне, директор сидел во главе стола, хлебосольно накрытого хозяйкой, и разливал по стопкам водку, по-доброму прозванную в народе «коленвал».
Вообще‑то, Алексей к спиртному был равнодушен. И на студенческих капустниках ни водку, ни «бормотуху» не употреблял. Приходил со своей бутылкой сухого вина, и одного стакана ему хватало на весь вечер. За что сначала его наградили обидной кличкой «Аристократ» с добавкой «хрéнов», а потом, с чьей‑то лёгкой руки, за ним закрепилось более благородное прозвище «Князь Пожарский».
Однако рассказывать о своих алкогольных пристрастиях «старикам», так для себя он окрестил баб Машу и директора, Алёша не стал.
– Присаживайся! – пригласил его Степан Нестерович. – Да и ты, Мария Ивановна, давай к нам, хватит хлопотать, на столе всё есть: и выпить, и закусить.
Было видно, директору не терпелось.
– Да, что ты, Стёпушка, лошадей‑то гонишь? – попыталась оправдаться баб Маша. – Вон у Алексея Егоровича тарелка пустая. Я вот щей томлёных налью.
– Это правда, щи у баб Маши – за уши не оттащишь! Мне тоже наливай! Да что ж это будут за щи без водочки? Ну, давайте! С приездом, как говорится, в наши края, за знакомство и на здоровье!
Директор опрокинул стопку, смачно сглотнул, закрыл глаза от удовольствия, наслаждаясь процессом:
– Хорошо пошла! Вот что значит – добрый человек к нам приехал, баб Маша! Отличник!
Мария Ивановна только слегка пригубила, Алексей тоже не стал пить до дна.
– Э-э! Так не пойдёт! Оставлять на дне – плохая примета! – Степан Нестерович всё замечал. – Ты, Егорыч, на женскую рюмку не гляди. Ты же мужик!
– Вы уж допейте и закусите! С дороги‑то оно ничего, хорошо! – поддержала директора баб Маша. – Да и Степан не отстанет. Он у нас такой!
Алексей опустошил свою стопку.
– Ну и молодец! Теперь давай щец отведай!
Щи были настоявшиеся, со сметанкой, доесть их, правда, Алексей не успел: директор налил уже повторно.
После третьей Степан Нестерович запел:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!
Пел директор самозабвенно, хмуря брови, периодически закрывая глаза.
– Он всегда её поёт, когда выпьет, – баб Маша стала поправлять посуду на столе, – сейчас начнёт рассказывать про то, как воевал.
Она вздохнула, промокнула фартуком слезинку на своей щеке, взяла со стола суповые тарелки и отошла к мойке.
Степан Нестерович допел припев и заговорил спокойным голосом:
– Мария Ивановна не любит вспоминать о военной године. Оно и понятно. На фронте погибли и муж её, и сыновья. С младшим из них, Федькой, мы в одном полку служили. Меня летом сорок второго после учёбы направили в артиллерийскую школу. Я же в учительском институте обучался, вот военный комиссариат и отобрал нас на ускоренные курсы. А когда прибыли на передовую, то оказались мы в одном полку с земляком Фёдором Дайкаловым. Ну, как с земляком? Он из Явленки, я с областного центра. А там на передовой это почти что родственники. Федька сызмальства к радиоделу пристрастился. И на фронт его взяли связистом. Вот он и тасках катушки с проводами между батареями. А в свободные минутки заглядывал ко мне во взвод. Он мне всё про мамку, это значит, про Марию Ивановну, и про отца рассказывал. Гордился он им очень. Ты что? Григория Дайкалова все знали. Плотник был знатный. Вот этот дом самолично срубил. Да ещё сколько в селе под конёк возвёл и не счесть! Ну, а повоевать‑то нам с Фёдором довелось всего в одном бою. Поставили нашу часть в самый раз там, где немцы готовили прорыв. Видел я, что Федька, где ползком, где перебежкой мотался между окопами, пытался восстановить повреждённые провода, отчаянный парень. Связь – это ж первое дело для командиров. В общем, когда фашист пошёл танковой атакой, нам по телефону из штаба было категорически запрещено открывать огонь. Ну, чтобы себя не обнаружить и начать бить в упор. Да какой там. В общем, подожгли мы несколько передовых танков, а те, что шли за ними повернули назад. Радоваться бы! Но тут фрицы стали бить прицельно, по обнаруженным огневым точкам из закрытых своих позиций. Очнулся я в медсанбате. Ну, сестричка и рассказала, что командир дивизиона погиб. «А связист Дайкалов? – спрашиваю её. «Прямое попадание, все, кто был в штабной землянке, все погибли!»
На этих словах Мария Ивановна, уголком косынки прикрыв глаза, скрылась в большой комнате.
– Давай, помянем Фёдора и всех Дайкаловых, не вернувшихся с войны, и моих отца и брата, – не дожидаясь Алексея, директор опрокинул стопку и, не закусывая, сразу обратился к молодому собеседнику: – У тебя‑то в семье кто воевал?
– Дед по отцу. Он десять лет назад умер. Только на пенсию пошёл.
– Да, мне вот тоже недолго до пенсии. А потом вы, молодые, нам на смену.
Степан Нестерович разлил остатки водки.
– Давай, как говорится, чтобы не последняя, – он опять выпил. – Ты отдыхай, а завтра с утра в школу. Представлю тебя коллективу. Августовский педсовет, так сказать. Баб Маша, я пошёл.
Опираясь на трость, Степан Нестерович поднялся и уверенно пошёл на выход.
– Может, мне вас проводить? – догнав его уже на крыльце, предложил вслед уходящему директору Лёха.
– Не надо! – подняв руку вверх, остановил его Степан Нестерович.
– Ему недалеко, – пояснила подоспевшая баб Маша, – у Стёпы квартира при школе.
Она присела на ступеньки, глядя в след прихрамывающему ветерану, продолжила:
– Сейчас у него лёгкий протез, вон как с тросточкой смело шкандыбает, а когда приехал к нам после госпиталя без ноги, скакал на двух костылях. Он тогда специально заглянул в Явленку, чтобы рассказать, как погиб Феденька. Они с ним так и договорились: кто выживет, расскажет родственникам, как было.
Алексей присел рядом с Марией Ивановной. Вместе они наблюдали, как встречные приветствовали Степана Нестеровича, а бегущие мальчишки приостанавливались перед ним и, поздоровавшись с директором, продолжали мчаться куда‑то по своим пацановским делам.
– Крепкий он, – восхитился Лёшка, – практически один выпил пол-литра и хоть бы хны!
Баб Маша вздохнула.
– Молодой был – только по сто грамм наркомовских принимал. А потом уже стал двойную норму выпивать, говорит, мол, мы как на передовой. Однако в одиночку, сам с собой, никогда не пьёт. Ему поговорить надо. Он ведь у меня жил долго. Как приехал тогда из города к нам, так и остался. Да его почти сразу и директором назначили. А когда уж новую школу построили, съехал от меня. Там с одной стороны комната сторожа, а с другой – директорское жильё. Но меня Стёпа не забывает. То зимой ребятишек пришлёт, они мне двор почистят, то дров подкинет, то уголька.
Степан
Летом сорокового года родители уговорили Степана поступить в учительский институт. Стало известно, что учёба в старших классах школы и в вузах с первого сентября станет платной. Степан с отличием закончил семилетку и уже год отучился в восьмом классе. Институт проводил экспериментальный набор студентов с неполным средним образованием – в школах не хватало учителей. И вполне логично, по убеждению отца, было оплачивать не просто среднее образование сына, а сразу и профессиональную подготовку 2.
После первой же сессии приятной неожиданностью для Гроздовых стало решение ректората освободить Степана от платы за учёбу, более того, за отлично сданные экзамены ему была назначена стипендия. В общем, из иждивенца шестнадцатилетний Стёпка с января сорок первого года превратился в кормильца. В семье Гроздовых было трое детей: шестнадцатилетний Степан, на год младше Антон и сестрёнка Верочка – десятилетняя белокурая девчушка. Жили они в бараке, как и большинство семей сотрудников элеватора, где работали мать с отцом.
Мамка всё время твердила: «Учитесь, дети! Не хочу, чтобы вы всю жизнь только лопатой командовали». Степана и не надо было уговаривать. Учился он и в школе, и в институте с удовольствием, как говорится, с огоньком. Знаний из учебников и лекций ему не хватало, поэтому он часто засиживался в читальных залах городских библиотек. Институт только‑только организовался, у него пока не было не только книжного фонда, но даже и собственных аудиторий. Занятия проводились в школьных кабинетах, где договорятся, в третью смену. Так что с главой семьи Степан порой виделся только в выходные дни. Отец ещё с работы не успевал прийти, а сын убегал на лекции и возвращался домой зачастую после полуночи, когда батька уже спал, а мать поднималась только покормить Стёпку, чтобы тот не громыхал посудой.
Став студентом, Степан сильно изменился. Крепкий и рослый от природы, он быстро проскочил подростковую неуклюжесть, и теперь статный парень выглядел солидно. К нему с уважением относились не только сверстники, но и преподаватели. Родители гордились своим старшим сыном. А вот младший был полной противоположностью брату. Учёба для Антошки была непосильным бременем. С удовольствием он посещал только уроки немецкого языка, легко он ему давался. Остальные предметы мальчишка не воспринимал. Закончит ли он семилетку, одному богу известно. Ведь уже успел побывать второгодником, дважды отсидел в пятом классе. И несмотря на это, мальчишкой он был добросердечным, общительным, дружелюбным. Но когда речь заходила о выполнении домашнего задания, глаза его грустнели, и он придумывал всякие отмазки. Да лучше лишний раз принести воды домой или наколоть дров, он никогда не отказывал в этом соседям, за что его все любили и привечали: то чаем напоят, то лакомством угостят, которым он, кстати, всегда делился с младшей сестрёнкой.
Верочку любили и баловали в семье. «Солнышко» с нежностью окликал её отец. И правда, когда она, оживлённая, появлялась после школы с портфелем в руках, в комнатах становилось светлее и радостней. Очаровательная детская улыбка, трогательные лучики весёлых глаз неудержимо пленяли и вызывали умиление.
Каждый выходной отец придумывал для ребятишек какое‑нибудь интересное дело. Зимой строили снежный городок и большую горку, на которой каталась детвора со всей округи. Летом, прихватив немудрёный перекус, который мама называла «тормозок», совершали пешие походы то на речку искупаться и порыбачить, то в лес по грибы и ягоды.
А вот в начале лета 1941 года Гроздовым было не до походов. У Стёпки – летняя сессия, у Антохи – экзамены за седьмой класс.
В воскресенье двадцать второго июня Степан с утра готовился к экзамену. Пообедали все вместе. В три часа (по московскому времени это в двенадцать) из радиотарелки объявили, что ожидается важное правительственное сообщение. Мать выбежала во двор, чтобы позвать мужа, он что‑то мастерил вместе Антоном. Через пятнадцать минут сообщили, что у микрофона народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов.
Тревога мелкой дрожью отозвалась в груди. «Ну, не война же!» – подумал растерянно Степан.
Нарком долго рассказывал о том, что без предъявления претензий Германия совершила разбойничье нападение, атаковала наши границы, есть погибшие и раненые, их более двухсот. Чувствовалось волнение в голосе Молотова. Он, слегка заикаясь, вспомнил, что нападение Наполеона на Россию привело к его краху, потому что народ поднялся против зазнавшегося врага всем отечеством. И через пять-шесть минут речи, наконец, прозвучали самые страшные слова: «Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу».
Значит, это не конфликт на границе, это – Война.
– Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами, – закончил своё выступление Молотов.
Мама растерянно посмотрела на папу и неожиданно зарыдала, уткнувшись ему в грудь, как будто знала больше, чем услышали все. А Степан вдруг осознал, что в речи наркома впервые немцы были названы фашистами.
В понедельник стало известно, что объявлена мобилизация военнообязанных 1905–1918 года рождения.
Нестер Гроздов родился в пятом году, призвали его в июле сорок первого. А уже в сентябре пришла похоронка. Мать молча сидела за столом, глядя на листок с извещением. «В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 7 сентября 1941 года».
Антон, узнав о смерти отца выскочил за дверь, потому что всегда прятался, когда плакал. У Степана почему‑то глаза были сухими. Он до боли в пальцах сжал кулаки. Отчаяние от бессилия и невозможности что‑либо изменить в случившемся, вызывали жгучую ненависть к фашистам, не к конкретному человеку, а ко всем. Тогда же он решил для себя, если встретит на фронте немца, (а на фронт он обязательно попадёт, несмотря, на то, что ему ещё семнадцать лет), возьмёт за грудки, в глаза вражеские посмотрит и спросит: «За что? За что они убили отца? Что он плохого им сделал?»
Мама после похоронки сильно изменилась: поседела, постарела, стала молчаливой и с головы не снимала чёрный платок.
Вместе семья Гроздовых собиралась теперь очень редко. Антон устроился разнорабочим на элеватор. И они с мамой работали в разные смены. Степан хотел бросить учёбу, но мать попросила не делать этого. Тем более, что ему, как успешному студенту, тоже выдавали карточки, правда, не на продукты, а на трёхразовое питание в заводской столовой. Домашним хозяйством фактически занималась одна Верочка: десятилетняя девчонка топила печь, мыла полы, отоваривала карточки, готовила немудрёную пищу, при этом усердно училась в школе.
Осенью в учительском институте сменился почти весь преподавательский состав. Местные педагоги ушли на фронт, их сменили эвакуированные из Минска, Москвы и Ленинграда. Степану среди них запомнилась преподавательница географии Александра Фёдоровна Павлова. Статная дама лет сорока. Её низкий грудной голос завораживал. Говорила она негромко, спокойно. Занятия по её предмету всегда проходили увлекательно и необычно: то это было путешествие по морям и рекам планеты, то исследование глубин океанов и недр земных. Всё в приезжей даме было необычным и не похожим на других педагогов. Каштановые волосы, всегда чистые и пышные, заколоты были таким образом, что волной поднимались над высоким лбом. Длинная юбка и приталенный пиджак придавали стройной фигуре некую строгость и притягательность одновременно. Все парни на курсе Степана были в неё тайно влюблены так же, как и в Любовь Орлову, Марину Ладынину, Валентину Серову. Только киноартистки все улыбчивые, а глаза преподавателя Павловой всегда были грустными, никто не видел её смеющейся. Всю зиму и весну сорок второго года она читала лекции и проводила семинары, а экзамены летом принимал другой преподаватель. А случилось вот что.
Среди студентов второго курса, на котором учился Степан, были два неугомонных паренька Санька Петров и Пашка Игнатов. Вечные непоседы, они устраивали на переменах всяческие развлечения и гонки друг за другом. В тот злопамятный день один из них был дежурным. В перерыве внутри пары, которую вела Александра Фёдоровна, Сашка должен был отмыть классную доску. Он, прихватив, ведро и тряпку, принялся за работу. Павел в это время намочил другую тряпку и, не сильно её отжав, запустил в доску со всей силы. Было среди учащихся такое баловство: нужно кинуть мокрую тряпку так, чтобы она прилипла к доске и висела на ней какое‑то время. Устраивали даже соревнования, чья тряпка продержится дольше. В общем, развлекались так и второкурсники. С возгласом: «Три тщательнее!» – Пашка осуществил подобный трюк. Пролетев над головой Саньки, бедная тряпка расплющилась на доске, неимоверно разбрызгав лишнюю влагу вокруг себя, в том числе и в лицо дежурного. Обидно! Осознав свою оплошность, Игнатов кинулся в конец класса, зачем‑то вскочил на сидение парты последнего ряда и замер в ожидании ответной реакции друга. Петров, не торопясь, изо всех сил отжал тряпку, слепил из неё твёрдый колобок, и, как снежок, запустил его в Пашку, который, увернувшись, ловко спрыгнул с парты. И в тот же момент за его спиной раздался грохот бьющегося стекла. Все, кто были в классе, замерли в изумлении. В кабинет заглянул заместитель декана, он в это время проходил мимо.
Более ужасной ситуации невозможно было придумать. Это занятие проводилось в кабинете истории. На задней стене в ряд были размещены портреты членов Политбюро ЦК ВКП(б). В самом центре должен был висеть портрет Сталина. На его месте торчал из стенки только неприкаянный гвоздь. Изломанная рамка, накрытая тряпкой, лежала на столешнице парты.
– Кто? – сурово спросил замдекана. Взглянув на понурившего голову Петрова, так же кратко приказал: «Пойдём!»
Больше Сашку Петрова никто никогда не видел. Не появилась на занятиях ни в тот день, ни на следующий и Александра Фёдоровна Павлова. Лишь спустя много лет Степан узнал, почему из-за этой шалости безвинно пострадала преподавательница.
Закончились два года учёбы летом сорок второго года. Восемнадцатый день рождения Степана Гроздова совпал с вручением диплома, и он, не задумываясь, сразу пошёл на призывной пункт проситься на фронт. Но на передовой оказался только в сорок третьем в звании младшего лейтенанта после окончания артиллерийских курсов.
Степан стал противотанкистом, или, как сами пушкари признавались, «бойцом одного сражения». Стрелять из короткоствольной гаубицы, находясь в закрытой позиции, и вести огонь по невидимому противнику, конечно, безопаснее, но не для этого Степан рвался на передовую. Он по-прежнему жаждал встретиться с фашистами лицом к лицу.
Все пушкари во взводе были намного старше нового командира и опытнее как в делах житейских, так и в ратных. На два орудийных расчета младший лейтенант Гроздов был единственным из необстрелянных. Остальные прибыли кто из другой части, кто из госпиталя. Дело в том, что истребительно-противотанковый дивизион, к которому молодой взводный теперь был приписан, лишь накануне прибыл в район боевых действий после переформирования. Такова судьба противотанковых частей – их хватает на один бой.
Днём, получив задание от командира батареи окопаться и замаскироваться, Степан велел личному составу построится на поверку. После переклички объявил:
– Всем отдыхать, а как стемнеет, будем выдвигаться на огневую позицию. Разойтись, командирам орудий остаться.
Два старших сержанта, крепкие бывалые мужики, присели рядом со взводным у карты, расстеленной прямо на траве. Первым орудием командовал Дмитрий Нечаев, наводчиком у него был брат-близнец Яков. Опытные бойцы, уже третий год на фронте. Второй боевой расчёт состоял под началом Ивана Дубцова, широкоплечего сибиряка. Степан годился своим подчинённым в сыновья, однако старшинство командира по званию опытные бойцы принимали спокойно, с уважением.
– По донесению разведки в нашем направлении со стороны противника готовится прорыв бронетехники. На два орудия нам отведена линия фронта в двести метров, – Гроздов на карте указал участок между оврагом и лесом, – вот здесь. Место открытое. Для каждого орудия нужно подготовить четыре окопа с возможностью перекатывать пушку после трёх-четырёх выстрелов. Наша задача расположить склад с боезапасом так, чтобы доступ к снарядам был на минимальном расстоянии от любой огневой позиции. Задача ясна?
Степан взглянул на сержантов, те кивнули в ответ.
– Разрешите обратиться, товарищ младший лейтенант? – с прокуренной хрипотцой проговорил старший сержант Нечаев.
– Разрешаю.
– У вас на рукаве отсутствует нашивка артиллериста-истребителя. Ребята сразу обратили внимание. Наверно, в хозчасти не нашлось. У нас ефрейтор Дронов сам изготавливает не хуже заводских. С латунными стволами. Если вы не против, можем исправить эту ситуацию. Давайте пришьём. А то, как же в бой идти? Без нашивки. Как‑то не по-нашему.
Степан смутился, однако возражать не стал. Снял гимнастёрку и передал её бойцам. Справедливости ради, он мог бы сказать, что старшина обещал ему выдать нарукавный знак, когда привезут со склада дивизии, но промолчал.
Как стемнело, выдвинулись на линию укрепления, определённую штабом. Каждый нёс с собой охапку нарезанных веток. Прежде чем подкатить орудия, подготовили по четыре площадки для каждой пушки на расстоянии метров двадцать друг от друга, очистили и уплотнили между ними дорожки. Насыпной бруствер утыкали ветвями, соорудив тем самым зелёную ограду вдоль всей позиции взвода.
Никто не возмущался, когда необстрелянный ещё девятнадцатилетний офицер потребовал каждому расчету обкатать свою «сорокапятку» по всем огневым точкам. Пыхтели, но толкали в темноте орудия с места на место, вырубая на пути торчащие корни и закапывая глубокие ямки. Всё как по Суворову: «Больше пота в ученье, меньше крови в бою». А потом до рассвета таскали бойцы ящики со снарядами, распределяя их между огневыми точками.
Противотанкистов за глаза называли «смертниками». После того, как в сорок втором году были организованы истребительные артиллерийские подразделения, тогда рядовым и сержантам назначили двойной оклад содержания, среди гаубичников родились поговорки: «оклад двойной – тройная смерть» и «длинный ствол – короткая жизнь». И это было не из зависти. На истребителей танков смотрели с уважением, как на гвардейцев. Но если в гвардии знак отличия красовался на груди, сверкая красным знаменем, то у артиллеристов тёмный ромб с пушками крест-накрест на левом рукаве гимнастёрки смотрелся как «чёрная метка».