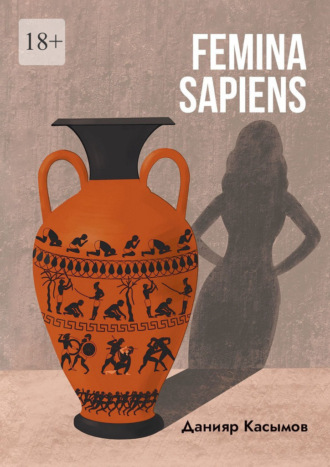
Полная версия
Femina sapiens
Последняя замысловатая фраза из сна звенела в голове. «Водитель! Это сказал водитель!» – вдруг осенило его.
Раньше, проснувшись от подобных эротических снов, часто заканчивавшихся поллюцией, он следом мысленно смаковал похождения плоти во сне. Он любил такие сны безмерно. В особенности из-за того, что во сне – он давно это подметил – ни одна женщина не отказывает! Ни одна не сопротивляется! Ни одна! Он может овладеть любой! Однажды он даже занимался сексом с родной матерью, и во сне это было вполне нормально; проснувшись тогда, малость пристыженный бодрствующим сознанием, он пытался прогнать сновидение, забыть, как если бы оно ему не снилось, а вышло наоборот: запомнил крепко. Бывали и поистине волшебные моменты, когда там, во сне, он знал, что это сон, и тогда – помня, что во сне все дозволено, – бросался на первую же встречную, просыпаясь с заляпанными трусами; но такое, к сожалению, бывало редко. В этот же раз думал не о сексе с той красоткой, а о словах, прозвучавших точно заклинание: «И „да“ и „нет“ вам некто скажет, и путь он в лимб вам всем закажет!»
Лишь коснувшись спиной спины жены, заметил, что невольно придвинулся к ней, чтобы чувствовать себя спокойней. «Мать родная! Вот это ночка!» Он так и пролежал до утра, не сомкнув глаз, снедаемый тревожными мыслями, и лишь с ранней зарей немного полегчало.
Полегчать – полегчало, да не отпустило. Целый день пролетел за мыслями об этих снах; за обедом ли, в компании коллег или на рабочем заседании в комитете, где он выступал: он обедал, шутил, выступал и отвечал на каверзные вопросы руководства, но делал все это механически, мысленно пребывая в каком-то подвешенном состоянии, сродни вдумчивой отрешенности.
Вспомнилось ему и читанное однажды из психологии: теория одной известной ученой (имя которой уже не помнил), что сновидения – это столкновения грез со страхами, совокупление мечты с тревогами, не только явными, но и подсознательными, особенно подсознательными. Скрытые в потайных уголках сознания, незримые для бодрствующего ока, случайно ли там оказавшиеся или загнанные туда велением пристыженной совести, они терпеливо ждут своего часа, когда сознание будет безоружно – во власти сна, чтобы безнаказанно и громогласно заявить о своем существовании. Не говоря уже обо всем известной Изадоре, вся нашумевшая теория которой вилась исключительно вокруг эроса, и все в поведении человека объяснялось им же; и немалая доля ее работ была посвящена именно снам, причем снам сугубо эротическим. Что бы она сказала об Икраме, будь ей доступны его сны?
«…И путь он в лимб вам всем закажет!» – откуда ж это? Откуда? Эти слова казались Икраму слишком в рифму, слишком стихотворными, чтобы быть плодом сновидения. Видимо, раньше он их уже где-то слышал, и вот они всплыли во сне. Еще утром, за завтраком, он набрал фразу на планшете, чтобы глянуть, что же выдаст «всемогущий» интернет, но не нашел ничего путного (не так уж всемогущ, оказывается). У Айгуль не стал спрашивать: спроси ее, пришлось бы пересказывать весь сон, начиная с секса с красивой незнакомкой, а об этом не могло быть и речи; мог, конечно, и рассказать, переиначив сновидение, но юлить и привирать не захотел. На ее же беглый вопрос о ночном кошмаре соврал, что ничего не помнит.
«Может, действительно всего лишь фраза из сна, не больше? – размышлял он. – Такой впечатлительный я, оказывается! Так маховик воображения раскрутился, и из-за чего? Из-за рассказа жены?.. Причем какого рассказа: об утреннике сына!»
Да, да, не зря мероприятие мальчика пришло ему на ум ночью, тогда он мигом связал его с первым сном, а второй сон – продолжение первого, ведь едкое «ай-ай-ай» именно оттуда.
И он возвращался в памяти к подробному повествованию супруги о своем «самом грустном дне в этом году»…
Накормив и спровадив сына в школу, умчавшегося заранее для финальной репетиции выступления на утреннике, Айгуль в порыве энтузиазма от полученной новости касательно конференции с участием Магнуса Кельда так увлеклась чтением одной из его научных статей, что сильно припозднилась с выходом из дома. Благо школа недалеко, лишь парк миновать; она же его пробегала, переживая, что если выход сына будет в самом начале, то, выйдя на сцену, «бедняжка» не обнаружит свою мать. Но все обошлось. Впопыхах ворвавшись в актовый зал, где все родители давно уж расселись, с облегчением смекнула, что успела и что юные исполнительницы сами сильно запаздывают с началом представления.
Одно выступление сменяло другое. То были незамысловатые мини-сценки, песни и стихотворения, посвященные мужчинам и отцам, воспевавшие и восхвалявшие мужские качества, которыми испокон веков тешили мужское самолюбие: среди них и мужественность, и физическая сила, и работоспособность, и прикладной склад ума вкупе с прямолинейностью, и, наконец, немногословность, говорившая якобы о твердости характера. Не обошли стороной и призвание мужчин: защищать и служить семейному очагу. И все складно, и все в рифму, но «чем дальше в лес», тем пасмурнее становилась мать Дамира, чем больше аплодисментов, тем сильнее ей хотелось на свежий воздух. Внешне, однако, ничто не выдавало в ней расстройства, владеть собой она умела; она и сама рукоплескала, чтобы не обнаружить себя и подбодрить сына, но ни капельки не наслаждалась представлением, а попросту… терпела. Годы работы в структурах министерства социального развития, включая недавнее погружение в гендерную тематику, настолько углубили ее знания и понимание социальных процессов, в том числе вопросов моделирования коллективного поведения, что школьный утренник по случаю Дня отцов предстал в ее глазах не чем иным, как откровенным муштрованием сознания детей, нацеленным, пусть и невольно, на прививание идеи о второстепенности мужского пола.
Одно стихотворение, выразительно продекламированное прелестной одноклассницей Дамира, буквально врезалось ей в память:
И пусть отцы немногословныВ поту служения своем,Сердец отважных бьются сонмы,И в дождь, и в снег, и ночью, днем.Пусть сдержанны они, но с твердой волейВсе беды гонят прочь от нас,И вот юнец – наследник доли,Ждет не дождется свой он час.И час придет: пробьют колоколаИ верный путь укажет нежная рука!Ни разу прежде она не ходила на утренники сына, ходил Икрам. «Мать святая!» – в душе сокрушенно восклицала она, жаждая поскорее убраться оттуда, забрав ребенка. Крепко досталось и Икраму, мысленно «обласканному» не одной парой бранных фраз за то, что, возвращаясь с подобных мероприятий, он не вдавался в подробности, отделываясь стандартной репликой, что «все прошло очень хорошо» (ах, пресловутая мужская немногословность!). «Очень хорошо». Ну что же тут хорошего?
Разумеется, увиденное не стало откровением для Айгуль, не в коконе ведь жила; она прекрасно знала родной люд, его нравы, чаяния и помыслы, но первое личное соприкосновение со срежиссированным детским мероприятием, где главной темой был мужской пол, без преувеличения произвело на нее шокирующий эффект. Она даже украдкой наблюдала за другими родителями: неужели ей одной не по себе? Судя по лучезарным улыбкам и нескончаемым аплодисментам, увы, одной… Но она не винила родителей; в конце концов, за улыбками и аплодисментами и пришли все сюда. Умиленные взрослые восхищались каждым словом, каждым жестом, каждой мимикой своих (да и чужих) детей. Она и сама, завидев сына, вся запрыгала внутри, готовая рукоплескать. Родительские чувства простительны. К тому же абсолютное большинство присутствовавших, Айгуль была уверена, не находило в услышанном ничего предосудительного, а некоторые и вовсе не особо вслушивались в содержание выступлений: доведенные до благоговейного умиления своими чадами, они только и ждали момента вознаградить детские старания аплодисментами и увидеть, как лица их отпрысков расплывутся в благодарной, застенчивой улыбке.
Но аплодисменты – это знак безусловного одобрения. В отличие от своих родителей, что пришли умиляться своими детками, юные исполнительницы за зубрежкой и репетициями прониклись праздничным материалом и как губка впитали сквозившую в нем канву межполовых взаимоотношений; и это уже посеяно в их неокрепших сознаниях, настежь распахнутых всему новому. Семя брошено; обильно политое нужной водой – аплодисментами и улыбками, оно уже принялось, готовое пойти в рост вместе со своим носителем. Девочки проглотили это. Мальчики проглотили это. Никто не поперхнулся. В их возрасте все поглощается в улет под слепящими лучами родительского одобрения.
Вконец расстроила Айгуль сценка с участием ее мальчика, которому досталась роль благородно-заботливого персонажа, показавшегося ей не благородно-заботливым, а угодливо-прислужливым. Ей стало нехорошо. Растянув на лице улыбку и рукоплеща, внутри она неистовствовала: «Да как они смеют?! Как они смеют лепить моего ребенка?!»
Первое, что тут же пришло ей в голову: поменять школу, немедленно! Ну а какая разница? Везде примерно то же самое, если не хуже; эта ведь одна из лучших школ города, тоскливо размышляла она, глядя на выступавших деток. «Вот она, юная поросль, едва-едва готовая сделать свои первые шаги в познании мира, но уже потеряна, уже отформатирована, уже… з-з-за-агажена серыми жерновами коллективного сознания… А ведь им всего по восьми-девяти лет от роду!.. Ох, потерянное поколение… уже потерянное… очередное потерянное…»
В унисон с подобными мыслями ее уязвленное и не на шутку разыгравшееся воображение понесло хозяйку дальше: ей вдруг представилось, как детям вскрывают черепную коробку, настраивают базовые функции поведения и мышления (у мальчиков вдобавок делают пару замыканий), после чего бережно закрывают ее и запаивают, нежно поглаживая по головке. И все это делают любя, непременно любя!.. «Э-э, не-е-ет, своего ребенка я вам не отдам! Мой ребенок не будет очередным кирпичиком, очередным… здоровым инвалидом!»
Айгуль, точно вулкан, вся клокотала внутри; наконец негодование изверглось лавой сумбурно-хаотичного возмущения, почти протеста, мысленно адресованного присутствовавшей публике: «Что же вы делаете? Что же вы творите? Здесь и сейчас вы лишаете детей – своих детей! – своего будущего, другого будущего; в особенности мальчиков… Сами же обрекаете их на ограниченную жизнь, сами, на жизнь в периметре колючего забора, протянутого не где-нибудь, но в их головушках… Ах, что может быть хуже здоровых и физически свободных людей с несвободным сознанием?! И во имя чего? Во имя пресловутой общепринятой нормы поведения!.. Тьфу!.. „Так у всех, так должно быть, так было всегда“ – три кита, на которых зиждется шаблонизация умов. Мать честная! Какая же умиротворяющая фраза: „Так у всех, так должно быть, так было всегда“. Слова, обещающие защиту, порядок и покой… совершенный покой. Так и неймется заключить эти слова в свои объятия – и не отпускать, и повторять, и верить, слепо верить. А что за ними? Промотанные жизни, вот что! П-р-о-м-о-т-а-н-н-ы-е! Не прожитые. Судьбы, убаюканные тусклостью запрограммированной жизни, и мечты, оставшиеся мечтами, грезы, оставшиеся грезами. А ведь до них рукой было подать! Лишь сделать шаг!.. Увы. Так и стоят: здоровые люди, со здоровыми руками и ногами, обездвиженные, уносимые привычным ходом расписанной жизни… уносимые».
Вулкан вулканом, а глянешь на нее – сущий айсберг. Владеть собой Айгуль умела.
После, когда родители, теснясь в классной комнате, собирали своих детей, наспех одевая и укладывая костюмы и прочий реквизит, чтобы поскорее броситься в объятия выходного дня, к Айгуль подошла Амина Гульсым – классная руководительница Дамира. Та, едва заприметив маму мальчика, в кои-то веки пришедшую в школу вместо отца, решила всенепременно перекинуться парой слов с редкой гостьей, тем более что знала: Айгуль Турсынай – не низкого полета птица. Айгуль же после испытанного в актовом зале вовсе не горела желанием вступать с ней в беседу, но вербального контакта было не избежать, ибо преподавательница пробивалась к ней сквозь кишащую людскую массу, как ледокол рассекает арктический лед, ни на миллиметр не сбиваясь с курса. За дежурными приветствиями последовала дежурная беседа, довольно короткая, так как Айгуль всем видом показывала, что ребенок уже одет и порывается выйти на улицу. На вопрос учительницы, понравилось ли ей представление, Айгуль буквально выдавила: «Организация на очень хорошем уровне… Все очень организованно». Во власти тягостных мыслей, порожденных увиденным, классная руководительница воспринималась не только соучастницей, но хуже – дирижеркой этого «организованного ужаса», поэтому Айгуль в беседе с ней была подчеркнуто сдержанна и немногословна, даже холодна, что контрастировало с энтузиазмом и восторженными репликами остальных родителей. «Как бы не отразился мой „холодок“ на отношении Гульсым к Дамирчику!» – позже забеспокоилась она, но ненадолго.
Этот случай натолкнул ее на тревожную мысль, что школа, будучи учреждением образования, выступает не только храмом просвещения, коим в идеале призвана быть, но и местом коллективного муштрования юного поколения и, как ни парадоксально, заточения его разума; во всяком случае, в этой стране. Причем местом довольно эффективным, принимая во внимание и нежный возраст подопечных, и непререкаемый авторитет наставников, и, наконец, то продолжительное время, что ученики ежедневно проводят в его стенах. Хорошо, если учительницы ограничиваются рамками своего предмета, как и должно быть, но раз на раз не приходится: нет-нет да и поддастся кто-нибудь соблазну выйти за эти самые рамки и воспитывать детишек, а может, и узрит в этом крайнюю необходимость, и тогда – пиши пропало, ваши отпрыски во власти мировоззрения и личных убеждений горе-учительницы. А иллюзий насчет своих соотечественниц в гендерном вопросе Айгуль не питала. Взять ту же Амину Гульсым, о которой только и слышно: и сильная педагогиня, и учительницей года становилась, и к детям, говорят, подход умеет найти, а вышла за рамки своей науки – и на тебе: не День отцов, а День рабов во всей красе!..
Такие печальные думы бороздили бескрайние просторы сознания обеспокоенной матери Дамира, которыми она поделилась с мужем, пересказывая события своего «самого грустного дня в году».
Услышанное натолкнуло Икрама на долгие размышления после.
Регулярно посещая школьные мероприятия и собрания сына, он даже не обращал внимания на такие моменты; не то чтобы не придавал им должного значения – он попросту их не замечал. Все ему казалось складным и естественным. Будь он на том утреннике вместо Айгуль, стандартный отчет «все прошло очень хорошо» снова бы лежал перед женой, а сам он, пожалуй, от души насладился бы представлением. Теперь же, взглянув на ситуацию с айгульской колокольни, Икрам ужаснулся, сетуя на свою невнимательность и инертность в гендерном вопросе, тогда как тематической информации и материалов дома пруд пруди: полки и рабочий стол жены завалены ими. Да и домашние разговоры, когда она делилась новостями с работы, были сродни мини-лекциям по данной проблеме, а все без толку! Объяснялось сие просто: пусть Икрам и прилежно слушал жену, местами поддакивал, задавал вопросы и демонстрировал прочие признаки активной вовлеченности в беседу, но в душе воспринимал такие разговоры чем-то абстрактным, сродни философствованию на досуге за бокалом вина. Все в таких разговорах он находил правильным, справедливым и очень нужным обществу, однако представлялось ему это чем-то бесконечно далеким и к повседневной жизни не имеющим никакого отношения. Для человека технической профессии и прикладного склада ума ему важно было «потрогать» предмет руками, «пощупать» его, чтобы поверить и принять, а работа жены точно воздух – «одна болтовня», поди ухвати! Но День отцов, на котором не было отца, все изменил для отца. На примере своего мальчика, которого можно и потрогать, и пощупать, и понюхать, «болтовня» жены перестала быть пустой болтовней и обрела для него самый что ни на есть прикладной характер. Такое последовательное механическое формирование сознания ребенка третьими лицами – будь то школа, улица или родня – вдруг предстало перед ним хорошо организованным техническим процессом, и его прикладной склад ума цепко ухватил это.
Со временем он стал чаще обращать внимание на то, что ему говорят, как говорят и почему говорят (особенно женщины), и как он реагирует на сказанное, и что при этом чувствует, пытаясь следом разобраться в причинах таких чувств. Подобная аналитическая активность, еще и с погружением в эмоциональные дебри, была Икраму в новинку; то, о чем с такой легкостью говорила Айгуль, ему давалось с трудом, как если бы сей навык атрофировался за долгим неиспользованием. В этом его разум походил на запылившуюся книгу, многие-многие годы пролежавшую на полке и ни разу не открытую, отчего пожелтевшие страницы поначалу перелистываются с трудом, характерно при этом похрустывая.
Копаясь в себе, он не находил себя особенно ущемленным или угнетенным в ипостаси мужчины. Все ему казалось вполне нормальным, даже естественным. «Я вроде на своем месте», – пожимал он плечами. Его работа была ему по душе: он занимался тем, к чему, казалось, у него были способности. Со слов родителей, склонность к техническим наукам подметили у него с ранних лет; так и пошло: технико-математический лицей, институт, работа. Общественно-гуманитарные и прочие науки его не интересовали. Какого-либо дикого желания или амбиций добиться чего-нибудь вне рамок своей профессии – завоевать или изменить мир! – он за собой не наблюдал. «Кому-то это интересно, кому-то – нет… Каждому свое», – размышлял он. Однако, подвергнув схожему анализу своих друзей, знакомых, коллег и родственников мужского пола, вспоминая своего отца, он отметил разительное сходство между всеми ними: никто из них не обладал таким «диким желанием и амбициями», всем им это было «не интересно». И подобно ему, они проделывают концептуально схожий жизненный путь. И наоборот: знакомым женского пола, судя по их разговорам, такие желания были ой как присущи. Хм?.. Первоначальная мысль «кому-то это интересно, кому-то – нет» приобрела далеко не стихийный оттенок, слепой случайностью уже не попахивало.
Пробудившееся любопытство – ключ к заветной кладовой: поворот ключа… щелчок… скрип двери – и… добро пожаловать в просторные чертоги памяти! Воспоминания, точно разбойники с большой дороги, отовсюду набросились на Икрама, лишь успевай отбиваться. Что только не вспомнилось! И все: слова, события, поступки – заиграло новыми красками, потому как глядел он на прошлое в совершенно новом ракурсе. Вспомнились, к примеру, слова бабушки, оброненные однажды маленькому Икрамчику, расстроенному очередным поражением в шашки от соседской девчонки: «Ну, не расстраивайся, ничего страшного… Когда-нибудь да выиграешь… Хотя у нее, конечно, преимущество: природа устроена так, чтобы был баланс во всем, без крайностей, поэтому, если мальчикам природой дарована физическая сила, то девочкам – сила умственная. Это закон природы… Это не значит, что мальчики – неумные, нет, просто девочки в этом изначально сильнее…» Ох, бабушка, бабушка, хотела утешить внука, а с утешением капельку яда в головку-то невольно прыснула. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад. Ну да ладно, старушка утешала как умела… Но вот ведь что получается: повтори такое ребенку – мальчику или девочке – раз десять-двадцать, и тот факт, что после института продолжают грызть гранит науки в основном девушки, становясь исследовательницами, учеными и докторшами наук, а парни мигом сворачивают в приземленно-прикладные профессии, уже не покажется банальной случайностью.
Голова Икрама гудела, мозаика складывалась сама по себе, перевернув хозяина вверх тормашками, отчего вид на окружающий мир открывался иной; для бедняги это стало настоящим откровением. По-новому взглянул на работу жены и на груды ее рабочих бумаг, заполонивших дом, к которым раньше он и на пушечный выстрел не подходил. «Э-э, никакая это не болтовня, а самый что ни на есть настоящий инструментарий! – мысленно рассуждал он, внимательно перелистывая материалы. – Да-а… здесь тебе и отвертки, и бокорезы, и пассатижи, и электрокабели, и мультиметры, и кусачки, и стрипперы, и гаечные ключи – всё здесь!»
С прозрением пришла тоска и душевный зуд: ему стало бесконечно жаль своего мальчика; о себе даже не думал, обреченно махнув рукой: «Я?.. Тьфу! Я все… пролетел… поздно… Но Дамир! Дами-и-ир!» Тягостное ощущение, что над разумом ребенка совершается насилие, камнем сдавило грудную клетку, и горше было оттого, что мальчуган даже не ведал, что стал объектом насилия, а такую жертву особенно жаль… Но кто, кто насильник? Кто виноват? Ответ подскочил крайне резво: общество, безликое общество! Оно, оно, разумеется, оно! Прежний Икрам удовлетворился бы ответом, но нынешний Икрам лишь сердито огрызнулся и, засучив рукава, пустился копать глубже. С разбором «общества» на составляющие пред ним стали мелькать лица, знакомые лица: лицо Амины Гульсым, лица родителей Санжара и Максата – закадычных дружков Дамира, в доме которых последний проводит немало времени и мало ли что там слышит, особенно от матери Санжара (та еще матриарша!), лица соседей и родственников, особенно тех, что в возрасте (уж больно словоохотливы), лица их с Айгуль друзей, что бывают у них в гостях, лица родителей Айгуль и своей собственной матери (отца уже не было в живых); ой-ой, круг неприятно сужался – вдруг всплыло лицо дочери и – ах! не может быть! – свое собственное лицо.
Да, да, свое лицо. «А как же иначе? – мысленно стегал себя. – А как ты хотел, отсидеться в сторонке? Э-э, не-ет, брат, не выйдет!» Его действия, поведение и, наконец, вся его жизнь – «живая речь» для сына, красноречивее любых слов! Мальчик все видит (пусть и не смотрит), все слышит (пусть и не слушает), все чувствует; и годы невольных наблюдений за родным человеком сделают свое дело прежде, чем он сформирует свое мнение на сей счет (свое ли?). Жизнь отца – фундамент для мировоззрения сына… Да и Айка, старшая сестра, с которой Дамир довольно близок, своим поведением и словами невольно «шлифует» сознание братика.
Каждый вносит свою лепту.
По незнанию ли или умышленно, осознанно ли или в силу привычки, любя, не любя или вовсе равнодушно – не важно, но каждый – каждый! – кладет кирпич, порой и мимоходом, в постройку «тюрьмы» для ребенка. И Дамирчик уже ходит вокруг этого строения, водит рукой по его стенам, свыкается с ним, а «строители» докладывают и докладывают кирпичи, единолично решая, где именно будут расположены окна, сколько их будет, куда они будут выходить – на север или на юг – и какого размера будут эти глазницы, сквозь которые обитателю надлежит лицезреть окружающий мир. Мальчик не выбирал эту обитель… Некоторые покидают такие жилища, большинство – нет.
Что до Айгуль, то в глазах Икрама она как-то не вписывалась в мозаику «доброжелателей», стоя особняком на этом фоне. Всегда внимательная к ребенку, свободная от предрассудков и социальных клише, она старалась поощрять сына в любых начинаниях и стремлениях, не ограничивая его узкими рамками «мальчиковского»; да и Икрама не раз просила поступать так же, на что прежний Икрам кивал, со всем неизменно соглашался, но был крайне невнимателен, когда доходило до дела.
Теперь же Икрам осознал всю глубину проблемы и что они с Айгуль попросту не в силах воспрепятствовать влиянию окружающих на своего ребенка, ведь в семье, где мальчик защищен и «свободен», он проводит все меньше и меньше времени, и все больше и больше в обществе, в нашем нормальном обществе… в обществе, пылко влюбленном в норму.
Немудрено, что на фоне подобных переживаний и размышлений бедолагу осаждали сны, изводившие его по ночам.
Оливковая ветвь
Молодой человек торопливо шел по просторному коридору, ширина которого раза в два превышала размер квартиры, в которой он проживал. Его шаги по мраморному полу, усиленные акустикой высоких потолков, гулко отдавались в воздухе, придавая, как ему казалось, значимость топоту его ног. Ему нравилось здесь слышать звук своих шагов. Немногие, пожалуй, обращали внимание на данную особенность этого здания, которую с первого же дня отметил он; оно и немудрено, ибо слух у молодого человека был отменный, самый что ни на есть музыкальный.
От всего в этом здании веяло властью, начиная с самого строения, поистине исполинских размеров, вплоть до каждой детали, будь то вешалки в гардеробе или дверные ручки кабинетов. Высоченные потолки, широкие коридоры, неброские отделочные материалы образцового качества и безупречный представительский дизайн интерьера придавали солидную, а лучше сказать – величественную атмосферу этому месту. Даже запахи здесь были иные: вроде ничего особенного, но в воздухе витала монументальность.
Похожий величественный ореол парил и на улице, на подступах к зданию. Каждое утро, когда Марко – именно так звали обладателя музыкального слуха – сворачивал с проспекта Пятого Ноября в сторону центрального входа в здание, он невольно вытягивался струной, демонстрируя безупречную осанку и собранность. А поворот – ах, этот поворот! – это простое движение в сторону парадных дверей, когда он отделялся от общего потока людей, возвышало его в своих же глазах; а если при этом он еще и ловил случайные взгляды прохожих, полные не то восхищения, не то зависти, тут уж Марко мнил себя вполне значимым человеком. Оно и неудивительно, ведь в этом здании определяли не то, как будут жить люди этого города, но как будут сосуществовать целые нации и государства.

