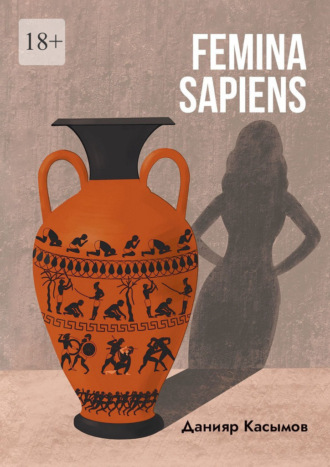
Полная версия
Femina sapiens
Здесь не бегали. Даже если очень спешили, передвигались сугубо шагом, пусть быстрым, но шагом. На первых порах он, бывало, трусил по коридорам, но потом сообразил, что этого делать не нужно; никто ему и слова не обронил на этот счет, он просто понял, что любого рода спешка, копошение и суета не только принижают тебя лично, но и умаляют само учреждение, тогда как резвый шаг (о-о, совсем другое дело!) придает ауру решительности, внушая окружающим стремление человека бросаться в океан вопросов, требующих его участия, и ценность его времени. Бег же создает впечатление, что сотрудник не успевает, а значит, плохо управляет своим временем, а значит, здесь ему не место.
Он возвращался к себе в кабинет после доклада руководительнице о ходе подготовки к мероприятию. Вроде прошло нормально, заключил он, вздохнув с облегчением. Каждый поход к ней – словно экзамен; местами голос предавал его, лихорадочно вибрируя, руки, передавая или собирая документы со стола, нет-нет да подрагивали. Уже второй месяц, как он работает здесь, а волнение не проходило. Еще бы! Ведь не у директрисы какой-нибудь компании второй ассистент, а у самой Симоны фон Армгард!
Марко и не ведал о существовании «госпожи фон Армгард» до того, как устроился сюда, устроившись же, сразу постиг магнитуду персоны, на которую работал, и понял это не по занимаемой ею должности и регалиям, а эмпирически: стоило ему, совсем «сырому» и растерянному сотруднику, чье волнение было красками написано на лице-холсте, побуждая окружающих одаривать его снисходительными взглядами и вяло реагировать на его запросы, обронить, чей он помощник, и отношение менялось на глазах: размеренность тут же сменялась усердием, все мигом решалось, все предоставлялось, и все в здании (да и за его пределами) чуть ли не из кожи вон лезли, лишь бы удовлетворить запрос субтильного новичка. Имя делало свое дело. Это и пугало Марко, и радовало. Имя, смекнул он, могло оказать ему услугу в будущем. «Пусть и краткосрочный контракт, но достойный пункт в резюме! – повторял он себе. – Да и всякое бывает, может, потом переведут в постоянный штат… Вон, тот же Юсуф начинал примерно так же, а теперь он – ее правая рука!»
Ему не терпелось в туалет, но он решил сначала передать Юсуфу поручение фон Армгард, а уж потом лететь в уборную (лететь, разумеется, шагом); впрочем, никакого осознанного решения он не принимал, так как поручения фон Армгард были по умолчанию в абсолютном приоритете и никакие позывы мочевого пузыря, какими бы неистовыми они ни были, не могли нарушить данную субординацию.
Госпожа фон Армгард сидела одна в своем просторном кабинете, но не за рабочим столом, а в зоне, предназначенной для гостей и мини-совещаний, расположившись в полюбившемся ей кресле из дерева, обитом добротной кожей. Она ждала гостий.
Кабинет ее был обставлен неброско, без изысков, но со вкусом. С настенных портретов на нее поглядывали выдающиеся общественные и государственные деятельницы прошлого, служившие ей примером и неиссякаемым источником вдохновения: Анна-Мари Клэр, Каролин Шейла-младшая, Амала Решми, Эрнестина Элоиза. Портрет последней висел на стене прямо напротив ее рабочего стола, поэтому каждый раз, когда фон Армгард поднимала глаза, она встречала взгляд этой без преувеличения блистательной женщины.
Выбор в пользу Эрнестины Элоизы был отнюдь не случаен.
Пусть три другие женщины ничем и не уступали Эрнестине в значимости на своем поприще, а то и вовсе превосходили, как в случае с Амалой Решми, о которой слыхали даже самые необразованные люди, причем в любой точке мира, фон Армгард не колебалась при выборе той, под чьим пристальным взором ей предстояло проводить свои трудовые будни.
Эрнестина Элоиза – одно лицо, но столько ликов: мать, бабушка, профессорша, известная философиня, чьи многочисленные труды затрагивали самые разные сферы жизнедеятельности человека, государственная и общественная деятельница и, наконец, дважды президентка Бразилии. Приняв бразды правления в сложнейший для страны период, когда экономика была в упадке, а страну раздирал затянувшийся политический кризис, за два президентских срока она смогла перезапустить все процессы и задать столь небывалую динамику развития во всех направлениях, что спустя всего два десятилетия страну уже ставили в пример, а в международной прессе нередко мелькало словосочетание «золотой век Бразилии».
Многим она особенно запала в душу после того, как в конце второго срока на посту президентки, вопреки беспрецедентной поддержке народа и инициативе парламента страны по внесению изменений в конституцию, которые позволили бы ей баллотироваться на новый, третий, срок, госпожа Элоиза наложила категоричное вето на законопроект и сложила свои полномочия, когда пришло время. Никакие доводы – почти уговоры – парламентариев о необходимости предлагаемых изменений для «продолжения взятого страной курса и реализуемой президенткой Элоизой политики», никакие (лестные) народные митинги в крупных городах страны, где десятки тысяч людей скандировали ее имя, держа в руках плакаты с призывом-мольбой: «Эрне, останься!» – не заставили Эрне (так любя звали ее бразильцы) изменить свое решение. Она объяснила причину своей непреклонности. Ее пламенная речь в парламенте в момент наложения вето облетела весь мир, разом став гимном демократической формы правления, а некоторые отрывки из нее оказались на страницах многих учебников по основам государства и права, причем далеко за пределами страны. И с напечатанных страниц ее слова: «…Подобно временам года, где лето сменяет осень, за которой следует зима, неизменно переходящая в весну, смена власти должна стать непреложным законом общества, без исключений! Любое удлинение лета или зимы, как бы мы ни жаждали этого, вредно природе. Так же и с властью… Самая смена власти и есть высшее благо!..» – дышат силой и пробирают сознание; можно лишь представить, что творилось в сердцах депутаток в тот день, когда гремела эта, как ее позже нарекли, «Апрельская Речь».
На закате своей жизни, оглядываясь на свой долгий и плодотворный трудовой путь, госпожа Элоиза признавалась, что уход с поста и наложенное вето она считает самым важным политическим актом, сделанным ею на посту президентки. «В тот вечер, – строки из опубликованной автобиографии, – когда я стояла на трибуне парламента с влажными от волнения ладонями и беснующимся желудком, я сделала, пожалуй, лучшее, что могла когда-либо сделать для своей страны. А после, запершись в парламентском туалете, я сидела и ревела навзрыд: рыдала от осознания того, что я сделала, и что я смогла! А на доносившиеся с парламентской площади скандирования толпы: „Эрне, останься!“ бормотала в ответ: „Эрне вас не подвела!.. Эрне не оплошала!“ Уже тогда, в той тесной кабинке, я понимала, что все, что мне предстоит еще сделать в жизни для своей родины, по значимости вряд ли превзойдет тот необычайно холодный апрельский день».
Политические обозревательницы всего мира были единодушны: мощнее сигнала мировому сообществу о том, что никто и ни под каким предлогом не должен присваивать власть, принадлежащую народу, не было послано ни одним политиком ни до, ни после Эрнестины. На фоне расплодившихся по миру глав государств, «приватизировавших» президентские кресла, руками сподвижниц окрестив себя «Лидершами нации» или «Матерями народа», поначалу действительно поддерживаемых народом, но с годами, а то и десятилетиями, возомнивших себя незаменимыми, «теми самыми», поступок президентки Элоизы вызывал неподдельное восхищение.
Под взглядом такой женщины невозможно не требовать от себя большего, думала фон Армгард, вешая портрет на стену.
Небольшие и аккуратные шкафы, заполненные самой разной литературой, от книг и печатных изданий, непосредственно связанных с родом ее деятельности, до научных и философских трудов и томиков художественной литературы, гармонично дополняли деловое убранство рабочего кабинета. Единственным, что немного выбивалось из всего этого монументального ансамбля, была фотография юной фон Армгард c церемонии вручения диплома Университета Офенизии – одного из престижнейших учебных заведений мира, и сам диплом… не простой диплом.
На дипломе сиял небольшой выгравированный символ в левом нижнем углу – позолоченная ветвь оливкового дерева. То был не просто знак отличия, но несравнимо лучше, недосягаемо лучше – знак восхищения высшего профессорского совета университета, присуждаемый не за безупречные оценки на экзаменах, а за достижения сверх учебного процесса. Этот знак означал еще и то, что ее имя выбито на стене университета наряду с другими обладательницами подобного символа: она там четырнадцатая – четырнадцатая за триста сорок восемь лет существования учебного заведения! Причем тринадцатая гравировка на стене датируется двадцатью семью годами ранее.
Оливковая ветвь открывала – вернее, распахивала – все двери перед ее обладательницей, полностью освобождая от такой рутины, как составление резюме и поиски работы, только успевай отвечать на звонки и сообщения с заманчивыми предложениями от работодателей, сулящих блистательной выпускнице блистательную карьеру.
Оливковая ветвь сделала еще кое-что для фон Армгард, то, чего она совсем не ожидала: она невольно помирила Симону со своей фамилией, с которой у той были весьма натянутые отношения.
«Фон Армгард» преследовала Симону все ее детство и юность, нередко являясь причиной насмешек, колкостей, конфликтов и косых взглядов, а порой и полной изоляции. Немалого юная Симона натерпелась из-за нее. Если одноклассницы вспоминали о своей фамилии разве что на перекличках в классе, то для Симоны «фон Армгард» было чем-то «живым», точно бремя на плечах, неизменно привлекающее недружелюбное внимание.
Обладательницам такой дворянской фамилии было отнюдь не место в том неблагополучном районе маленького города, куда семья фон Армгард переехала, когда Симоне едва стукнуло три года. А семья фон Армгард и вправду была самых что ни на есть дворянских кровей, с севера Фландрии, где одна из деревень даже носит имя прапрабабушки Симоны – Армгард, откуда, собственно, и тянется их род. Отнюдь не добрым стечением обстоятельств был вызван переезд такой семьи в чужую страну, в унылый городишко, в не лучший его район (своего рода гетто), что стал новым домом маленькой девочке. То было, несомненно, бегство: бегство из родных мест куда подальше, куда потише и подешевле, причиной чему послужило явно какое-то несчастье, почти несмываемый позор, запятнавший и разоривший семью, о котором юная Симона так ничего и не узнала, а повзрослев, не стала особо дознаваться. Родители упорно молчали, не проронив ни единого слова, и лишь по их тяжелым взглядам, когда любопытство подрастающей девочки толкало ее на расспросы о первом доме, она понимала, что случилось что-то страшное, мрачное, почти непереносимое; впрочем, она и не усердствовала в расспросах, поскольку той жизни и не помнила, разве что смутно всплывал «дом, где были утки в пруду». А гетто было ее домом в полном смысле этого слова, ведь другой жизни она и не знала. Вот только «фон Армгард» все жужжала и жужжала в округе, она-де нездешняя, привнося турбулентные моменты в ее почти нормальную жизнь.
А вот родители Симоны – совсем другое дело: они знали другую жизнь, совсем иную, оттого их интеграция в то, что стало новым домом, протекала болезненно. Но нужно отдать им должное: несмотря на недавнюю принадлежность к высшему классу и весьма безбедное существование, они стойко переносили все обрушившиеся на них лишения, адаптируясь под совершенно новый быт и новые реалии, окруженные бесконечными стеснениями как финансового, так и эмоционального характера. В отличие от Симоны, они так и не смогли там стать «своими», и, думается, натерпелись из-за фамилии куда больше, нежели дочь.
Первый звоночек прозвенел, едва фон Армгарды переступили порог местной администрации района, чтобы оформить свое новое местожительство. У клерка глаза на лоб полезли, когда она ознакомилась с заполненным формуляром. Не скрывая удивления, та пару раз бесцеремонно перевела взгляд с формуляра на мать Симоны, после чего не то прыснула, не то фыркнула, всем видом как бы говоря: «Этих-то как сюда занесло!» Особой тактичностью местные не отличались, так как жили в том районе по большей части бедные и, как следствие, не самые образованные и культурные люди, составлявшие в городе низший слой населения. На первых порах подобные фырканья и косые взгляды были так часты, что родителям не раз приходила мысль сменить фамилию хотя бы дочери, предвидя сложности, с которыми той придется столкнуться в школе. Но мысли так и остались мыслями. Нельзя сказать, что, крепко поразмыслив, решили не менять, просто после слов, оброненных однажды мамой девочки в разговоре с отцом: «Я – фон Армгард, она – фон Армгард, наша фамилия – это наша кровь и единственное, что у нас осталось… И она фон Армгард, черт побери! Она выстоит!» – вопрос отпал сам собой и больше не поднимался.
А трудности у девочки в школе были. «Фон Армгард», разумеется, выделялась на фоне прочих незамысловатых фамилий, приковывая внимание, точно красная тряпка для быка. Школьницам, как и везде, было отнюдь не чуждо желание поиздеваться друг над другом, награждая окружающих нелицеприятными кличками, проявляя особое рвение в отношении белых ворон. И если других награждали «обычными» кличками, то для Симоны у большинства был особый, персональный «словарь», где ехидные колкости вроде «ваше высочество», «дворянка» и «ваше святейшество» были самыми безобидными. Таким образом, даже в издевательствах она была изолирована от прочих жертв. Но Симона себя в обиду не давала. Порой конфликты заканчивались тем, что она приводила в школу на разборки своих подруг с района.
С преподавательницами было полегче в этом плане, хотя и здесь не без своих сложностей и драм. У тех все в отношении Симоны, будь то положительное, нейтральное или отрицательное, объяснялось ее фамилией. Что-то не понравилось в поведении – тут же слышалось: «Так она же фон А-а-армгард, видите ли!»; неувязочка какая-то произошла – разводили руками: «Ну что поделаешь, фон А-а-армгард»; а неизменные успехи в учебе сопровождались перешептыванием вкупе с многозначительным вскидыванием бровей: «Фамилия все-таки! Фон Армгард!» Драмы имели место по большей части в пятом и шестом классах с легкой руки Денизы Ануд – преподавательницы математики, недолюбливавшей Симону, причиной чему была мать девочки. Не раз и не два можно было слышать язвительные комментарии госпожи Ануд в учительской, возмущавшейся повадками фон Армгард-старшей на родительских собраниях и встречах. О нет, мать Симоны отнюдь не была активна на собраниях, лишь изредка позволяя себе вопросы, но именно эта «царственная немногословность», «величественный взгляд» и «барские замашки», как говаривала преподавательница, бесили последнюю; «Одета ничем не лучше нашего, ест то же, что и мы, квартирка, знаю, не ахти какая, а взгляд и повадки – будто дом полон прислуги!» – ворчала она под хихиканье коллег. Справедливости ради нужно отметить, что наблюдения госпожи Ануд по большей части соответствовали действительности, но «снисходительным взглядом» фон Армгард-старшая одаривала окружающих невольно: то было наследие славного прошлого семьи, неотъемлемая черта ее «я», которую женщина даже не замечала за собой; это отчасти и мешало ей обзавестись приятельским кругом общения на новом месте. Дениза Ануд же была личностью не без харизмы, женщиной в возрасте и с претензией на уважение (и уважение глубокое), и манеры фон Армгард-старшей попросту выводили ту из себя. На дочери она и отыгрывалась. Поскольку поводов для придирок по учебе девочка не давала, по успеваемости наголову превосходя всех своих одноклассниц, нападки носили личный характер. Юная Симона терпела, лишь дома позволяя себе поплакаться на жестокую несправедливость. Однажды она все же дала отпор, да такой, что Дениза Ануд возмущенно ворвалась в учительскую, бурля и пенясь, точно кипящий чайник. «Точь-в-точь ее мамаша!.. Ну точь-в-точь!.. Да я ее!.. Да я…» – взахлеб шипели ее уста, порывисто хватая воздух, пока коллеги не угомонили женщину, посоветовав ей сбавить обороты в отношении девочки, мол, добром для Ануд это не кончится, коль до директрисы уже дошли слухи о ее «особом отношении» к фон Армгард-младшей, и не сегодня завтра того и смотри вызовут горе-учительницу на директорский ковер. Заступиться за девочку учительниц побудила не заговорившая совесть или сострадание (многие разделяли неприязнь Ануд к фон Армгард-младшей из-за фон Армгард-старшей) и уж тем более не переживание за карьеру Денизы Ануд (фи!), а успехи девочки в учебе, принесшие школе первое за всю историю ее существования призовое место на межшкольной городской олимпиаде, «напомнив» таким образом всему городу о существовании этой школы, где еще, оказывается, чему-то учат.
А произошло следующее.
В тот день Дениза Ануд с утра пребывала в объятиях меланхолии, наведывавшейся к ней регулярно, и не особо горела желанием нести знание деткам. Устав от «не готов», «м-м-м» и ряда невразумительных чирканий учеников у доски, требовавших от нее активности в виде пояснений, повторений или праведной учительской брани, лишавшей всяческой возможности просто «отсидеть урок», женщина решила передохнуть и со словами «Армгард, к доске!» настроила свой энергосберегающий режим. Каково же было ее удивление, когда названная не шелохнулась. «Армгард, к доске!» – повысив голос, повторила она, полагая, что та просто не услышала, но девочка и головой не повела. «Симо-она!» – уже грозно прогремел голос преподавательницы. Только теперь девочка встала: «Да, госпожа Ануд?» На гневный вопрос-упрек, оглохла ли она, что не идет к доске, Симона возразила, что ничуть не оглохла, просто учительница ее не вызывала. «Ка-а-ак?! – ахнула женщина, не веря своим ушам и окинув взором класс, как бы говоря: „С ума сошла девочка!“ – Я дважды сказала: „Армгард, к доске“!» «Моя фамилия фон Армгард, госпожа Ануд», – последовал негромкий, но твердый ответ… Дальше свидетельства юных очевидцев расходятся: кто-то утверждал, что госпожа Ануд была так ошарашена ответом, что впала в ступор с отвисшей челюстью на пару минут, кто-то говорил о минуте, кто-то ограничился «секунд двадцать-тридцать», кто-то вдобавок узрел, что и без того круглые-прекруглые глаза женщины округлились до невозможности, многие услышали звук упавшего из учительских рук карандаша… Достоверно одно: госпожа Ануд действительно была огорошена, да так, что попросту остолбенела, растерянно промямлив: «А, ну да… фон Армгард… к доске», после чего сидела неподвижно, вперив мутный взгляд в Симону, энергично чиркавшую мелом на доске. Очнулась учительница вместе со звонком на перемену, когда дети умчались из кабинета; и вот тут-то ее и накрыла волна гнева и возмущения, которую она, не расплескав по пути, донесла до учительской. Разумеется, этот случай никак не облегчил жизнь юной Симоне на уроках математики, напротив, усугубил и без того незавидное положение, но одно можно сказать с уверенностью: впредь в устах Денизы Ануд «фон» неизменно предшествовало «Армгард». Нечего и говорить, что авторитет Симоны в классе после этого случая, который, к слову, и так был высок, вышел на совершенно новый уровень – уровень почитания; даже недруги невольно преклонились перед ней.
Слухи об инциденте моментально выпорхнули за стены школы. И двух дней не прошло, как фон Армгард-старшая узнала о произошедшем, сидя в парикмахерском кресле у своего мастера, чей сын учился в параллельном с Симоной классе. Глаза матери тут же увлажнились от распиравшей гордости – чувства, почти забытого ею за всеми невзгодами, постигшими их семью, их род. В тот вечер она поведала историю отцу ребенка, и родители долго стояли у кровати спавшей Симоны, лаская дочь взглядами, перешептываясь и единодушно сходясь во мнении, что кто-кто, а их девочка не пропадет, не лыком шита; «Истая фон Армгард!» – ласково заключила мать, затворяя дверь комнаты.
С дочерью они никогда не говорили об услышанном, да и Симона молчала.
Много-много лет спустя, когда Симона преобразилась в госпожу фон Армгард, в беседе с близкими она нередко вспоминала о Денизе Ануд, и вспоминала с благодарностью, называя ту одной из самых важных учительниц в своей жизни. Она не раз повторяла, что госпожа Ануд невольно закалила в ней стойкость духа и характер, заставив научиться двигаться вперед, несмотря на нескрываемую неприязнь, оскорбления и постоянные придирки, гнуть и гнуть свою линию вопреки всему. После такой «школы» все перипетии и невзгоды человеческого бытия, со слов госпожи фон Армгард, казались ей вполне преодолимыми препятствиями. «Не знаю, научила ли она меня математике, но уроки жизни давала превосходно! – шутила она. – Именно благодаря Ануд мои „молочные зубы“ выпали намного раньше положенного, сменившись „коренными“, которыми я без труда впивалась в плоть жизни».
Но это было позже, много позже, а вплоть до университета фамилия Симоны дышала ей в затылок, являясь больше поводом для тревог, нежели сугубо идентифицирующим элементом, коим фамилия служила абсолютному большинству. Но словно в сказке о фее с волшебной палочкой, по мановению Оливковой ветви Университета Офенизии все тревоги юности канули в небытие.
Слухи о том, что она потенциальная кандидатка на Оливковую ветвь, начали витать в университетских коридорах к концу предпоследнего года ее обучения. Уже тогда Симона приковала к себе внимание профессуры, поражая их не столько глубокими академическими знаниями, коими блистали многие ее сокурсницы (в Офенизии этим вообще никого не удивить), сколько магнитудой мышления, цепкостью ума и невероятной способностью развить любую идею, при этом ни капельки не страшась погружаться в совершенно неизведанные «воды» и низвергать общепринятые постулаты. «Полет мысли этой девочки, кажется, не ведает границ», – обронила однажды профессорша философии госпожа Гаяна в беседе с коллегами; последние соглашались, признаваясь, что дискуссии с фон Армгард порой настолько изнурительны и требовательны в интеллектуальном плане, что под конец занятий они порядком истощены. «Выйти живой из спора с фон Армгард – свидетельство научной и профессорской состоятельности!» – шутила профессорша истории госпожа Фабиана. Несмотря на все это, слухи об Оливковой ветви для Симоны были полной неожиданностью, громом среди ясного неба, ибо сей отличительный знак считался недосягаемым; да и он не был ее целью. Разумеется, слухи были ей приятны (еще бы!), вовсю тешили студенческое самолюбие, но она на них не зацикливалась – во всяком случае, старалась; мало ли слухов, думала она, и в прошлые годы, говорят, слухи ходили о той или иной выпускнице, так и оставшись слухами. Даже тот факт, что на защите ее финальной диссертации присутствовал почти весь состав высшего профессорского совета, члены которого аплодировали Симоне стоя, не внушил последней веру в возможность такого сценария. Лишь что-то смутно екнуло в груди, когда после защиты ее попросили подойти к сидящей в коляске госпоже Александре Марьям, живой легенде университета, бывшей ректоршей учебного заведения на протяжении двух десятилетий, с которой связывали золотые страницы Офенизии, присутствовавшей на защите в качестве почетной гостьи, и та проникновенно прошептала своими сухими девяностолетними губами, заключив руку девушки в свою: «Спасибо вам, деточка моя!.. Уважили нас! Уважили эти стены!» – растрогав Симону до глубины души.
К тому же о присуждении Оливковой ветви никогда не знали заранее, ведь самое заседание высшего профессорского совета, на котором путем тайного голосования решался такой вопрос, проходило всего за несколько дней до торжественной церемонии вручения дипломов и держалось в секрете, причем как сам факт его проведения, так и результаты голосования. Порой подобный вопрос и вовсе не поднимался на совете за отсутствием кандидаток, что говорило лишь об исключительности Оливковой ветви, но никак не о нехватке блестящих умов, коими Офенизия всегда была полна; так, старожилы совета еще помнят период, негласно названный «Оливковой засухой», – тринадцать лет кряду, когда вопрос о ветви даже не выносился на совет. Поэтому непосвященные – то бишь все, кроме членов совета, – могли только догадываться, является ли неприсуждение Оливковой ветви в конкретном году следствием отсутствия кандидатки или неполучения имевшейся кандидаткой ста процентов голосов членов совета (требовалось единогласие).
Лишь в день вручения дипломов, перед началом торжественной церемонии, когда все: виновницы торжества, профессура и гости мероприятия – собирались в сквере перед старинным церемониальным корпусом университета и среди гостей Симона обнаружила нескольких почетных профессорш, давным-давно не преподававших, главу министерства образования страны и пару-тройку видных общественных деятельниц, она наконец уверовала в то, что ветвь, в принципе, возможна. Уверовав же, тут же разглядела прочих предвестников оного: в воздухе витало волнительное ожидание, эдакое осязаемое предвкушение, столь сильное и насыщенное, что нависшую воздушную массу, казалось, можно было потрогать руками; местами ловила на себе сияющие взгляды гостей, ей вовсе не знакомых; и, наконец, профессорши, охотно беседовавшие с другими выпускницами, лишали ее этой возможности, нарочно избегая, чтобы, по-видимому, ненароком не выдать словом, жестом или взглядом Симоне то, что они знали, а их приветствия с ней были нехарактерно коротки и сдержанны (задачу «сохранить в тайне» ученые умы с треском провалили). Наспех собрав эти фрагменты воедино, возбужденное и цепкое сознание Симоны без труда уложило все это добро в мозаику. Картина была полна. И как художница, отойдя от «расписанного полотна» на пару шагов, дабы получше лицезреть полученный результат, она с трепетом разглядела отчетливые очертания заветного растения! И тут ее накрыло. Ей стало страшно, по-настоящему страшно, что она может быть удостоена такой чести. Четверть века ожидания ветви всей своей тяжестью рухнули на ее плечи, придавив бедняжку; в животе сделалось худо, аж до спазм, сердце заколотилось, воздуха не хватало. В панике кинулась было искать глазами маму, да вспомнила, что всех родителей заводили в здание с другой – зрительской – стороны. Время, лишь время могло ей помочь отдышаться, переварить и принять это известие, и она взмолилась: «Подождите, подождите, ну хоть самую малость!» – увы, время подло обратилось в резвую гончую и, рванув с места, помчалось во весь дух!.. Все понеслось и завертелось… И вот уже предпоследняя выпускница – ее близкая подруга Миранда – пожимала руку ректорше университета, принимая диплом и поздравления, стараясь при этом как можно скорее вернуться в ряды выпускниц, ибо все уже поняли, что все они – лишь прелюдия, фон, гарнир, а главное блюдо, которого ждали больше четверти века и наконец дождались, это она – дитя гетто с дворянской кровью! Пауза длилась мгновение, но для Симоны то было пропастью, куда она провалилась, несясь вниз от захлестнувших эмоций, над которыми была уже не властна. Все двести с лишним человек затаили дыхание, и даже стены старинного здания послушно замерли, погрузив огромный церемониальный зал в совершенное безмолвие. Наконец до предела наэлектризованный воздух пронзил торжественный голос ректорши, выдававший волнение: «И разум, жаждущий правды, – Симона Китри фон Армгард – Оливковая ветвь Университета Офенизии!» – вознеся вверх настоящую веточку оливкового дерева, сияя гордостью от выпавшей чести хоть раз провести почетный ритуал, – привилегия, миновавшая стольких предшественниц. Последние слова утонули во взорвавшемся гвалте всеобщего ликования, буквально сотрясшем своды зала. Никто уже ничего не слышал, и лишь в голове Симоны, словно в бреду, эхом отчетливо отдавалось: «Фон Армгард! Фон Армгард! Фон Армгард!» Что было потом, Симона помнила плохо, только фрагментами, как вспышки они отпечатались в памяти: гул в ушах от несмолкаемых оваций и восторженных криков, глаза Изабеллы – извечной соперницы в учебе, которую она почти ненавидела (и это чувство было взаимным), полные искренних слез радости и восхищения, оливковая веточка уже в своей дрожащей руке, чей-то голос в ушах, огромное витражное окно старинного зала в древней многоцветной мозаике, сквозь которое падал радужный сакральный свет, и, наконец, пламенный, величественный взгляд мамы («Ах, как он ей к лицу!»), пойманный в зрительской толпе, исполненный гордости и… благодарности, – это почти все, что сохранила память Симоны, истерзанная эмоциями. Только потом, когда она смотрела видеозапись с церемонии, она увидела, что происходило: что после слов ректорши она долго не выходила на помост, вся сотрясаемая рыданиями, закрыв лицо руками, что ректорша, вручая заветную ветвь, ей говорила что-то, а Симона той даже что-то отвечала, что она, обернувшись к залу с поднятой веточкой в левой руке и дипломом в правой, подолгу стояла так, объятая несмолкаемыми овациями и безудержно рыдая, что все выпускницы подбрасывали вверх свои церемониальные академические шляпы, что при ней ректорша торжественно передала одну шкатулку подошедшему и постаревшему господину Эзекелю Браска, чтобы тот выгравировал на стене университета ее имя, как он это сделал двадцать семь лет назад, что Симона пожимала руки всем профессоршам, и каждая говорила ей пару слов, и что на протянутую дрожащую руку своей курирующей профессорши она вместо рукопожатия бросилась той на шею, содрогаясь от очередной волны рыданий, отчего треугольная шляпа слетела с ее головы и покатилась по мраморному полу, и что потом она буквально утонула в поздравительных объятиях выпускниц…

