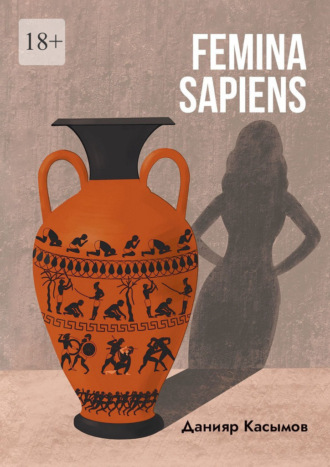
Полная версия
Femina sapiens
– Мм, что-то еще у меня в голове вертится про него… читал давно, но никак не могу вспомнить, что-то громкое, интересное было, когда он был молод…
– Остров?
– О да, точно! Остров! – аж на месте подпрыгнул. – Вот это да-а!.. – с искренним удивлением вырвалось у Икрама, отчего Айгуль снова засияла. – Да у тебя, любовь моя, будет встреча с Историей, можно сказать! Ох как я рад за тебя!
– И это еще не все! Ассистент фон Армгард…
– Чей-чей ассистент?
– Симоны фон Армгард, она депутатка Европарламента, руководит там целым направлением, в том числе курирует проекты по гендерным вопросам. Нехилая тетка, очень-очень влиятельная, короче, величина в политике. Так вот, ее ассистент сообщил мне, что господин Кельда изначально был приглашен выступать на главной конференции, давали ему на выбор любой формат выступления, лишь бы заманить его, а он от всего отказался, изъявив желание участвовать только в одной рабочей сессии в формате круглого стола, и… выбрал нашу сессию! От всех других отказался, только с нами, представляешь!
– Ты у меня прямо звезда! Ух, горжусь тобой! – засиял Икрам, крепко обняв супругу.
Он действительно восхищался ею, причем не только в подобные моменты, но и в повседневной жизни. «Неужели это моя жена?» – нередко мысленно вопрошал он. Его не покидало ощущение, давно пустившее в нем глубокие корни, что ему очень повезло с ней, даже как-то слишком; ему частенько хотелось буквально дотронуться до нее, чтобы убедиться, что она здесь, что она с ним. Он, собственно, так и делал, маскируя подобные «проверки» под обычные объятия и поцелуи. И это не проходило с годами. Ощущение, разумеется, приятное, но вместе с тем тревожное. Как бы он ни был – с ее слов – «интересен, порядочен и с хорошим чувством юмора», он чувствовал, что он ей не пара. Он знал себе цену, но на людях рядом с ней ощущал себя блеклым, «не по размеру»; ему казалось, что он являл собой тот самый случай, когда при виде незнакомой пары на вечеринке первое, что приходит на ум: что она в нем нашла? Подобные взгляды на себе мерещились ему повсюду, особенно при знакомствах. Так, после исполненного энтузиазма первого контакта с Айгуль, очарованные ее речью, выдающей недюжинный ум, открытостью, говорившей о самоуверенности, и, наконец, привлекательной внешностью незнакомцы, переводя внимание на Икрама, пожимая ему руку, силились на месте расшифровать спутника столь блистательной женщины, чтобы успокоиться и сказать себе: «Ах вот оно что!» Не всегда ему удавалось «успокоить» их. Ему регулярно снились сны, где у него была другая, и там, глядя на нее, он недоумевал, почти протестовал, повторяя: «Нет, нет, у меня ведь другая, другая – лучше, красивее, умнее!» Проснувшись и видя рядом спящую Айгуль, он облегченно вздыхал, крепко обнимал ее, повторяя про себя: «Вот она, вот она»; если этим он еще и нечаянно будил ее, отчего Айгуль в полудреме ворчала, жалуясь на пробуждение, то было верхом его утешения. Это давало осязаемое ощущение обладания ею, ведь в его руках ее сон! Это чувство было в разы слаще и сильнее, чем их занятия любовью. С последним у них все было, кажется, в порядке, но секс – недолгая услада тел, а он хотел большего, неизмеримо большего: он хотел заключить в объятия ее душу, ее мысли. Их дети дарили ему некоторое успокоение: даже если она уйдет от него, благодаря им она все равно будет присутствовать в его жизни.
– Фон Армгард – мощная фамилия! Звучит… м-м… монументально. Дворянского происхождения, что ли? – поинтересовался Икрам.
– Да вроде нет, – не сразу ответила Айгуль, задумавшись.
О депутатке она знала немало ввиду своей работы, но все, что знала, касалось сугубо трудовой деятельности этой дамы.
– Нет, она вроде из простых, – продолжила она, – даже из очень простых. Помню, читала где-то, что ее первым значимым проектом, который и принес ей признание на политическом поприще, был вопрос урбанистики, связанный с кварталами гетто. Да, да, она сама, кажется, из гетто… Хотя согласна, фамилия самая что ни на есть дворянская… Хм, интересно…
– И когда ты едешь? В Женеву ведь?
– Да, в марте, с двадцатого по двадцать пятое.
– Кстати, у нас что, Малика ночует? Ее обувь, кажется, в прихожей стоит.
Айгуль кивнула в ответ.
– Они с Айкой весь вечер готовили презентацию по «Основам психологии», пришла с ночевкой, допоздна сидели.
– Больше хихикали, наверное, чем готовились.
– Ну не без этого, конечно, в их-то возрасте.
– До психоанализа Изадоры дойдут, – прыснул Икрам, – вот потешатся!.. А утренник пацана как прошел?
На слове «утренник» Айгуль напряглась, хмурые тучи разом сгустились на ее лице.
– Прошел хорошо, даже очень, оттого это было… ужасно! Вчерашний день официально номинирован на звание «Мой самый грустный день года», и боюсь, что он выиграет в этой номинации за явным преимуществом.
Лицо Икрама вытянулось в один большой вопросительный знак с нотками недоумения, красноречиво требуя пояснений, но едва Айгуль открыла рот, как дверь кухни, скрипнув, отворилась и сонный мальчик с визгом бросился в объятия своего отца. Знаками Айгуль дала понять мужу, что расскажет позже.
Не мать, не дочь
Мягкие увядающие руки с почти прозрачной, обвислой в глубоких складках кожей, из-под которой отчетливо выступали крупные вены, бороздившие верхние конечности, словно наросты, выдавая почтенные лета их обладательницы, медленно положили на книжный столик небольшую папку с бумагами. На краешке одного листа, невзначай выбившегося из папки, можно было прочесть азиатскую фамилию на французском языке.
Другая рука – моложе и тверже – тут же потянулась к столику и аккуратно вернула взбунтовавшийся листок в лоно папки.
Старая рука взяла со стола чашку сильно разбавленного кофе, но, поднеся ее ко рту и замерев на мгновение в таком положении, вернула напиток на место, так и не испив ни глотка. Следом медленно поднялась с кресла и неторопливо подошла к окну, выходящему на пляж и океан, воды которого в этот день были на удивление спокойны. Ее размеренные неспешные движения были вызваны не почтенным возрастом, но думами, в которые хозяйка старой руки была всецело погружена.
На берегу бегала собака. Ее собака…
Человеку стороннему все в этой комнате показалось бы крайне странным, а то и вовсе сюрреалистичным. Но речь идет не о самой комнате, разумеется, а о двух женщинах, в ней находящихся, невозмутимо беседующих на темы отнюдь не невозмутимые. Все вокруг, включая двух особ, было в полном диссонансе с природой их беседы, все положительно не соответствовало всему: обстановка не соответствовала теме, тема не соответствовала внешнему виду женщин, их внешний вид контрастировал с тоном их голоса, тональность голоса не соответствовала содержанию сказанного, а содержание разговора уж никак не вязалось с их одеждой, которую и вовсе не должны носить люди, читающие документы, лежащие в папке на журнальном столике рядом с чашкой сваренного кофе, и, наконец, сами эти женщины никак не были похожи на людей, которые могли оказаться вместе в одной комнате (разве что совершенно случайно), не говоря уже о том, чтобы видеться регулярно (пусть и нечасто) и вести беседы на столь непонятные такому постороннему человеку темы. И все же здесь не было никакой ошибки, ни самой малой толики случайности.
Женщины были связаны друг с другом, причем узами более прочными, нежели самые добрые родственные отношения. Их общение не было их выбором. И если это применимо и к родственным отношениям, судя по житейской фразе «родственников не выбирают», то общаться или не общаться с родственниками все же в руках человека, тогда как у этих двух женщин и этой привилегии не было. Без всякого преувеличения, они были обречены видеть друг друга.
Эта гостиная, столь милая ее хозяйке, в которой та любила проводить свободное время, в основном погрузившись в чтение книг, в которых не было недостатка в этом доме, на пару часов пребывания молодой женщины, внешне довольно привлекательной, часто ловившей на себе восторженные взгляды мужчин, превращалась в нечто несуразное, нечто чуждое, совсем не милое помещение. Вот что творило одно лишь присутствие этой женщины в доме! Оттого старушка и отпускала на улицу свою собаку всякий раз, когда ожидала визита этой особы; да и пес был рад покинуть дом, не особо жалуя гостью, безошибочно чуя напряжение меж дамами. Благо, что такие визиты были нечасты.
И для молодой женщины это отнюдь не было приятным времяпрепровождением, но ее отношение и восприятие таких встреч были совершенно иными. Эти аудиенции составляли один из главных помостов ее трудовой деятельности. Нет, то не было работой, но по той лишь причине, что слово «работа» и близко не отражало всю сущность и глубину ее вовлеченности – физической и эмоциональной – в ведомую деятельность, которой она посвятила всю себя без остатка, самозабвенно отдавшись «благому делу». Для нее эти часы были моментами максимальной концентрации внимания, полной собранности, где она пускала в ход все свои знания и навыки, имеющиеся в арсенале, коих без преувеличения было немало.
Равномерное постукивание настенных часов гостиной гулко отдавалось на фоне образовавшейся паузы, которая, впрочем, обеим женщинам никак не мешала. Паузы были неотъемлемой частью их бесед, и частью немаловажной: паузы порой заключали в себе больше информации, нежели самые емкие слова.
– Медина, Ульяна, Малати и Альба – за продолжение пассивного мониторинга, «учитывая отсутствие острой необходимости». Гензебе, Кумико и Чечилия – за начало активной фазы, – прозвучал женский голос из глубины комнаты. Сказано это было бесстрастным ровным тоном, лишенным всякой эмоциональной начинки и не позволявшим определить позицию самой говорящей относительно обсуждаемого вопроса, если у той и была какая-либо точка зрения; слова несли лишь информацию.
– Вы повторяетесь, – не сразу ответила хозяйка собаки, не оборачиваясь.
– Прошу прощения… Матушка, – и эти слова были лишены всякой тональности.
Развернувшись лицом к собеседнице, хозяйка дома продолжила:
– Я не увидела мнения Юшенг.
– Мнение госпожи Юшенг я озвучу вам устно, вне протокола. На этом настояла она сама. – И, увидев призывный кивок, выражавший готовность слушать, продолжила: – Пусть Казахия и не проявляет активности в известном вопросе, она считает, что будет значительным упущением оставить страну без физического присутствия в условиях…
– В условиях соседства с ее «полыхающей страной», да? – перебила старушка. – Слышали уже… можно было и написать, ничего таинственного тут нет.
– Я не договорила… – не сразу, с расстановкой возразила молодая собеседница, довольная сильным промахом хозяйки, отчего подобие ухмылки запорхало в уголках ее глаз. За всю встречу то был ее первый невербальный импульс с мелькнувшей тенью эмоций, на которые она была намеренно скупа. «Теряет хватку!» – триумфально гремело в ее голове. Внутренний резонанс от этой мысли был столь велик, что она аж невольно заерзала в кресле, пусть и едва заметно. «Молчать… молчать…» – мысленно скомандовала она себе, намеренно выдерживая паузу, чтобы усилить эффект от просчета, ожидая, пока Матушка сама не попросит продолжить.
– Внимательно слушаю.
– Будет значительным упущением оставить ее без физического присутствия в условиях обнаруженных значительных запасов урановой руды в стране. – И снова пауза.
Легкий наклон головы Матушки свидетельствовал, что она вся внимание. Вторая продолжила:
– Это очень свежая и закрытая информация. Профильное министерство только на прошлой неделе доложилось по данному вопросу правительству страны. Никаких официальных заявлений и коммуникаций на этот счет пока не сделано. На фоне рассматриваемых правительством страны инициатив по гендерной корректировке в политической сфере, о которых говорится в досье, ситуация, по мнению госпожи Юшенг, приобретает оттенок, заслуживающий самого пристального внимания.
Она была довольна произведенным эффектом, внешне, однако, никак не выдавая оное. Теперь гневалась на себя за то, что мгновением ранее дала слабину и позволила эмоциям обнаружить себя, пусть и ненадолго. Вернув свой modus operandi, наказала себе впредь четче «держать линию» и не поддаваться импульсам. Пока Матушка переваривала информацию, она мысленно разобрала всплывшую гипотезу: а не намеренно ли Матушка оступилась, чтобы вывести ее из равновесия? Скрупулезно проанализировав «промах» Матушки со всех сторон, в том числе невербальную составляющую коммуникации, в оценке которой была сильна, пришла к выводу, что это не было трюком. Невольно вспомнились слова наставницы, твердившей им скрывать эмоции в присутствии Матерей: «Ваши эмоции – это козырь им в руки, которым они непременно воспользуются, если им будет нужно… О-о, они это умеют!»
– Прогнозные или подтвержденные запасы? – поинтересовалась «умеющая».
– Прогнозные. Но их министерству уже поручено провести дальнейшую детальную разведку для подтверждения и оценки запасов. По информации госпожи Юшенг, даже если прогнозные показатели будут подтверждены не в полном объеме, речь все равно идет о внушительных… колоссальных цифрах. С ее слов, Казахия метит в тройку по запасам в мире.
– Хм, интересно, – молвила хозяйка, вернувшись в кресло и задумавшись.
– Это еще не все, – после некоторой паузы сказала гостья и, медленно испив воды из стакана, продолжила: – Кроме того, она встревожена из-за госпожи Лан, которая, как ей кажется, демонстрирует признаки отступничества, что ослабит присутствие в регионе в целом. Это еще один довод, по ее мнению, в пользу активного решения вопроса.
– Это очень, очень сильное заявление… – тут же молвила хозяйка, в упор глядя на свою гостью, добавив следом: – Ей кажется, что Лан отступает?
– Но мы ведь все знаем, – с расстановкой произнесла гостья, – что, если госпоже Юшенг что-то «кажется», или «мерещится», или даже «приснилось», значит, так оно и есть, ибо Мама тысячу раз проверит и перепроверит, прежде чем сказать свое знаменитое «кажется».
«Она права, Юшенг словами не бросается… Ох, совсем я никудышная стала!» – расстроенно подумала хозяйка дома.
«Совсем сдала», – в унисон подумала вторая.
– Отступить невозможно, – мерно прошептала хозяйка, вдумчиво уставившись в одну точку; слова прозвучали больше заклинанием, нежели репликой в адрес собеседницы.
– Возможно, – последовал ответ гостьи, многозначительный взгляд которой договорил начатое.
– Я не разделяю вашей гипотезы, – вдруг устало произнесла Матушка. Она почти размякла в кресле, словно последние слова высосали из нее остатки сил; так же внезапно одряхлел ее взор. Молодая женщина всеми фибрами души силилась считать столь резкую перемену душевного состояния собеседницы, ничем себя, разумеется, не обнаруживая.
После недолгого молчания гостья продолжила:
– Скоро у нас будет возможность еще раз вблизи прощупать кандидатку на одном межправительственном мероприятии. Разумеется, ни о каких прямых контактах речь пока не идет. Это так, последние аккорды в формировании ее личного досье… На случай, если Совет решит-таки пойти дальше.
Хозяйка рассеянно кивнула, давая понять, что подготовительный аспект вопроса ее мало волнует; уж больно Дочери хороши и щепетильны в подобных вещах, чтобы беспокоиться по этому поводу. К слову, человека непосвященного фраза «формирование личного досье» натолкнет на мысль о сугубо бумажной работе по сбору информации, в беседе же этих дам под этими словами подразумевалась скрупулезная работа по формированию (в самом буквальном смысле этого слова) нужной карьерной траектории женщины, попавшей в их поле зрения. И формировалась она, разумеется, без всякого ведома субъекта и самым что ни на есть «ручным» способом: создавались благоприятные карьерные возможности, ускорялось продвижение по службе, устранялись различные препятствия и помехи, причем не только профессионального, но и личного характера, если последние грозили затруднить или замедлить продвижение кандидатки в заданном направлении. Все проворачивалось столь тонко и умело, что женщина ни сном ни духом не ведала о стороннем вмешательстве; все было в ее жизни: житейские передряги, проблемы на работе, семейные неурядицы и жизненные потрясения, но карьера неуклонно ползла и ползла вверх. К тому же внимания Дочерей удостаивались не абы какие женщины: прежде чем стать «кандидаткой», те подвергались дотошной всесторонней проверке на соответствие всем необходимым критериям и наличие высокого «личностного потенциала», включавшего в себя харизму, лидерские качества, хладнокровие и способность держать язык за зубами.
– И последнее: если вы не возражаете, предстоящее заседание Совета в этот раз предложено провести в периметре госпожи Чечилии, а не госпожи Кумико, ввиду известных обстоятельств.
Матушка рассеянно уставилась на гостью.
– О каких обстоятельствах идет речь?
– По состоянию здоровья, а лучше сказать, возраста. В последнее время госпожа Чечилия испытывает крайние сложности при перелетах. Остальные члены Совета не возражают.
– Не возражаю… да и как я могу возражать, если в скором времени сама буду вынуждена пользоваться подобными привилегиями, которые, надеюсь, мне будут оказаны.
Гостья и бровью не повела, умышленно оставив реплику хозяйки без комментария, не поддаваясь на закинутую житейскую удочку.
Минутой позже хозяйка взяла папку со стола и, неспешно подойдя к камину, где слабо тлел огонь, аккуратно уложила в него бумаги, наблюдая, как пробудившиеся языки пламени заключили их в свои поначалу робкие, потом жаркие объятия. Дождавшись, когда все обратилось в пепел, она развернулась и решительным голосом изрекла:
– Сообщите всю информацию, озвученную Юшенг, остальным… за исключением того, что касается Лан. Последней я, пожалуй, нанесу личный визит, чтобы понять ситуацию и градус проблемы.
– Принято, но в данном случае я сделаю «слепую» запись во внутреннем протоколе. От вас будут ждать комментария по необозначенному вопросу… А если его не последует, я буду вынуждена озвучить проблему как есть.
– Делайте то, что вы должны делать, – последовал спокойный, но твердый ответ. – Спасибо за ваш визит. Не стану больше вас задерживать.
Гостья поднялась с кресла.
– До свидания, Матушка.
– Хорошего вам дня.
«Ух, воистину железная дамочка!» – подумала хозяйка, услышав звук удалявшейся машины.
Она была рада избавиться от нее так скоро. Встречи с «железной дамочкой» ее в последнее время тяготили. Матушке вдруг сильно захотелось отвлечься, развеяться, и накинув на плечи легкую куртку и взяв вязаную шапку, она вышла со стороны веранды на пляж, и медленно, утопая в песке под тяжестью прожитых лет, направилась к берегу, где легкий морской бриз и стрелой мчавшаяся к ней собака вмиг унесли ее вдаль от обременительных мыслей.
Сны из пластилина
Икрам долго не мог заснуть. Он беспокойно ворочался в кровати, всякие мысли лезли в голову, мешая забыться в объятиях сна, но дрема, пусть и с сильным опозданием, все же накрыла его. Такой отход ко сну не обещал ничего хорошего…
Он недоумевал: почему ему тревожно, когда вокруг такое веселье? Отчего-то больно ныло в груди. Ему не хватало воздуха, но он все протискивался и протискивался через гудящую толпу, получалось это смертельно медленно. И лиц, их лиц он почему-то не видел, да и не хотел видеть. Под ногами что-то хрустнуло: нога, похоже, зацепилась за некий предмет, отчего стало сложнее идти, но он не обращал на это внимание. Не хотел смотреть вниз. И ликование вокруг, ликование! Почти восторг! «Ай-ай-ай, вы наступили, вы ведь наступили, как нехорошо…» – послышалось сзади едкое бормотание, но он не оборачивался. Нужно обязательно увидеть, отчего такой публичный экстаз, обязательно! С трудом выбравшись в первые ряды, он увидел помост, не сильно возвышавшийся над землей, куда по лестницам поднимались маленькие люди. Да, да, именно маленькие люди, не дети, а взрослые, но почему-то детского роста. И все им хлопали и улюлюкали. А что это за люд вокруг? Их лиц не было видно, но они были счастливы, он это знал. Ликование было абсолютным, ликование было искренним. И на помосте был некто, которого не было видно снизу, ибо маленькие люди, один за одним подходившие к нему, невольно закрывали собой его лицо. Этот некто снимал их треугольные шляпы, и целовал их в лоб, и говорил им что-то: добрые слова говорил, непременно добрые, поскольку стоящие рядом одобрительно кивали и кивали; словом, всеобщее умиление царило вокруг. И Икрама поглотило это действо, его вдруг охватила эйфория, он тоже торжествовал вместе с ними… И все было ладно, все было чудно! Но сзади кто-то дергал и дергал его за рукав пиджака, мешая наслаждаться зрелищем; Икрам пробовал было отделаться, не глядя отмахиваясь, но без толку, теребят да теребят… Он наконец раздраженно оглянулся, но никого не увидел, потом догадался: опустил взор и увидел «маленького взрослого» подле себя. То был его сын. Он выглядел совсем по-другому, совсем! Но Икрам знал, что перед ним его сын. Сын с тревогой повторял что-то, словно заведенный, теребя рукав отца, но что именно, Икрам никак не мог разобрать из-за стоящего вокруг гвалта. Вдруг он понял слова сына – не услышал, но понял: «Где моя шляпа? Где она? Где?» Он не знал, что ответить, лишь промямлил: «Не знаю, я не знаю», – и оттого ему было жаль своего мальчика. А бедняжка все дергал и дергал его за руку, все спрашивал и спрашивал, пока наконец не пришла его очередь подниматься к некто. Сын вдруг сник, замолчал и, развернувшись, направился к помосту. Икрам наблюдал за ним, как вдруг снова сзади послышалось липкое бормотание: «Ай-ай-ай, вы наступили, вы ведь наступили, как нехорошо». Его вдруг осенило: он тут же глянул вниз – что же это болтается у него в ногах? – и увидел треугольную шляпу, шляпу сына, затоптанную им. «Ай-ай-ай, – продолжалось неотвязное бормотание, – как нехорошо». Он поднял шляпу и дернулся было в сторону помоста, чтобы отдать ее сыну, как что-то вдруг оглушило его, и он замер как вкопанный… Тишина! Его оглушила полная тишина. Вдруг стало тихо: ни звука, ни хлопаний, ни ликований. Он обернулся на толпу и наконец-то разглядел их лица – все были на одно лицо! Он не видел явственно их очертаний, но видел, знал, что у всех одно лицо. Стало жутко, жутко-жутко; и тут его осенило: «Тот не должен поцеловать его сына ни в коем случае! Поцелуй – каторга!» Он хочет повернуться к помосту, чтобы крикнуть, помешать, но ни повернуться, ни издать звука не получается, а сзади тот уже заключает голову сына в свои «пустые» руки (пустые – он это знает), чтобы поцеловать… «Ай-ай-ай, нехорошо…» Голову его трясет, а тело ломит, как при долгом падении… «Икрам, Икрам!» – спасительно врывается знакомый голос, он со стоном просыпается и видит лицо жены в обрамлении лучей, точно ангел света, испепеляющий мрак подземелья.
– Кошмар? – глядя в сонные глаза и поглаживая щеку, вполголоса спрашивает она. – Ты стонал, причем громко…
– Ой, да, дурной сон… – выдохнул он, щуря глаза от света включенной прикроватной лампы. – Разбудил, да? Извини…
– Нет, ничего. Бедненький… не засыпай сразу, иди воды попей, развейся, потом ложись.
– Да, так и сделаю… И в туалет охота.
Сходив в туалет и на ощупь налив себе стакан воды на кухне (не стал включать свет), он замер, лихорадочно прокручивая в голове увиденный сон. Обычно он так делал только с приятными и занимательными снами, гоня прочь плохие; пусть сновидение и не было откровенным кошмаром, но царившая в нем угнетающая атмосфера вкупе с удушливой безысходностью относила его к разряду «гонимых прочь». И тем не менее сновидение манило Икрама пролистать его в памяти, было в нем что-то… разоблачающее, поэтому он прокручивал увиденное вновь и вновь, пытаясь заключить в капкане памяти тающие фрагменты сна, прежде чем они бесследно испарятся. Со снами никогда не знаешь, запомнятся ли они или рассеются безвозвратно, как будто они сами выбирают свою участь. Так, некоторые сны Икрам помнил с глубокой юности и даже с детства, они остались с ним вопреки его попыткам предать их забвению, а тех ярких сказочных сновидений, что он желал запомнить в свое время, и след простыл. С этим же несладким сном он почему-то не хотел расставаться.
За медленными глотками и разбором сновидения ему невольно вспомнился рассказ жены об утреннике сына. «Почему вдруг это пришло в голову?» – задумался он.
Возвращаясь в постель, Икрам обнаружил себя в комнате сына; не то чтобы не помнил, как сюда зашел, просто, направляясь в спальню, неожиданно прошел мимо, как если бы его понесло к мальчику. Укрыв ребенка спадавшим одеялом, вернулся в кровать. Засыпая, поймал себя на мысли, что был бы не прочь увидеть тот сон еще раз…
Ах, какая красивая женщина! Темные гладкие волосы, ниспадающие ниже плеч, делового покроя юбка, но больно короткая, обнажающая манящие ноги в черных колготках, и легкое короткое пальтишко – или это плащ? И сидит так складно, смиренно, и смотрит на него вполоборота: взгляд мирный, без тени надменности. А он подле нее, в машине. Машина тронулась. Он должен ей что-то сказать, должен, он это знает. Она ждет. Он наконец что-то мямлит: не слышит себя, но знает, что говорит ей что-то, нечто крайне неубедительное, судя по ее реакции, точнее, по отсутствию оной. Ни один мускул не дрогнул на прелестном лице, ничто не выдает интереса к тому, что он вещает. А машина едет, и он знает, что ему нужно что-то до того, как она доставит их на место, и еще знает: машина едет – хорошо, остановится – что-то случится… с ней. А она ему нравится, ой как нравится! Вдруг она взором просит его заткнуться, он умолкает и… впивается в нее губами, сильно, страстно. Его язык буровит ее рот, жаждая заполонить всю полость, выпить все соки до дна, а она пассивна: не сопротивляется, но и не отвечает. Приятный, мучительный зуд в паху нарастает стремительно. Оторвавшись от нее, он опускает взор вниз, на себя, и видит, что склонился над ней совсем голый (куда пропала одежда?), а его член – твердый, как молот, – готов уж фонтанировать. «Ох нет, нет! Рано, рано!» Он тут же бросается на нее, хочет непременно кончить в нее… вот-вот извергнется вулкан… судорожно срывает с нее юбку (нижнего белья нет!) и устремляет свой пах в вожделенную прорезь! «Успе-е-ел!» – ликует он, накрываемый огразмической тряской, и все бы хорошо, да тут как она зашепчет знакомым едким голоском: «Ай-ай-ай, как нехорошо, вы ведь…» – он взвизгивает, как ошпаренный, порывается соскочить с нее, да не выходит, обездвижен оргазмом, точно в капкане… И сладко, и мучительно, и уж невмоготу совсем, как вдруг отчетливо слышится: «И „да“ и „нет“ вам некто скажет, и путь он в лимб вам всем закажет!» Землетрясение… «Мокро, ой, мокро в паху, совсем мокро, ах, вот оно что: это сон!» Просыпаясь с угасающими сладостно-жгучими конвульсиями в паху, он чувствует, как трусы заливаются теплой спермой; мокро, тепло и сладко. Медленно приподнял одеяло в области паха, чтобы не заляпать его, подтянул ноги к телу и плавно – чтобы не разбудить Айгуль – развернулся лицом к стене, свернувшись в клубок.

