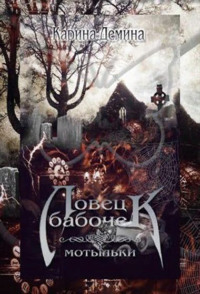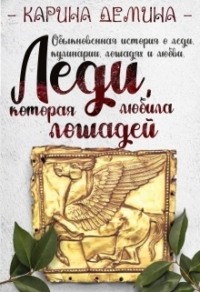Полная версия
Громов: Хозяин теней – 4
Филимонов отец тоже на заводе трудился, правда, льнопрядильном, где платили поменьше, но и не требовали от рабочих трезвости или иных глупостей. Близ завода позволили и домишки сложить, один из которых заняло немалое семейство Сивых. На том же льнопрядильном и Филимон свою трудовую карьеру начал. А уж после и сюда перебрался.
В артель пристроился. Так оно и спокойней, и экономней. Сказывал, что одно время вовсе без жилья был, ходил каждый день, да больно долго выходило, а на конке если или трамвае, то и дорого. Вот теперь Филимон домой наведывался, как мы, по выходным.
Деньги матушке носил. И так-то в целом.
– Угощайся, – разрешил я великодушно. – И чего припёрлись?
– Ну… так-то… помощи принесли. Сахару полфунта. И два – муки. Одёжки разной.
– Ношеной, небось.
– И чего? – Филимон с разрешения пирог не торопился ухватить, но разглядывал, выбирая, который побольше. – Всё одно ладно. Мамка перешьёт. Вон, там и рубахи нижние, Зинке самое оно, и малым. А ещё ткани принесли, доброй, шинельной. Батька хотел продать.
Батька у Филимона страдал стандартной рабочей болезнью – алкоголизмом.
– Но мамка не дала.
– Побил?
– Не, я ему двинул разок, – Филимон пожал плечами. – Ещё эта, которая девка, в школу зазывала. Мол, грамоте учить и всё такое.
– Так сходил бы.
– Когда? И так мало, что сдохнуть. Ещё вон и приработки поставят теперь.
– Думаешь?
– А то. Этот, новый, – Филимон наклонился. – Слыхал, как он Митрича ругал матерно, что, мол, мало работаем. Стало быть, норму подымут. А когда её делать-то? И как?
Это верно. Машины на фабрике далеко не новые. Митрич, да и Прокофьев, это понимают, а потому и не дают разгонять на полную.
– И толку-то, – Филимон-таки решился и вытянул пирог, но есть не стал, спрятал под полу. – Что мне с тое грамотности. Но малых свёл. Никитка наш тоже на фабрику просился. Я и подумывал к Митричу подойти, чтоб местечко нашёл, но теперь не пущу. Хотя вот поглядишь, малых станут зазывать.
Тоже обычная тактика[9]. Детям платят меньше, чем взрослым. А требуют почти столько же.
Выгода сплошная.
А что дети сгорают на этих фабриках втрое быстрее взрослых, так кому до этого дела.
– Пущай лучше в школу эту идёт…
– Ты потому их сюда приволок?
– Не, – Филька мотнул головой. – Спрашивали.
– Обо мне?
Вот тут я насторожился.
– Та не. Про то, чего там на фабрике деется. Кто там да как. Какие люди работают. Чего делают. Ну и так-то, обо всём. А ныне попросились поглядеть. А мне чего? Пущай глядят. За погляд, чай, денег не берут.
То есть, случайность?
Хотя… эта корчма к фабрике ближе прочих. И наши-то все, у кого в карманах не пусто, сюда заглядывают. А что, пиво, пусть и разбавляют, но ещё по-божески, и кормят сытно, без откровенной тухлятины. Опять же, хозяин крепкий, и сыновья его под стать. Если кто начинает буянить, то сами унимают, не доводя до драки. Стало быть, в корчме тихо.
Прилично даже.
Хорошее место.
– Только ты резко им однако же ж, – произнёс Филимон с укором.
– Ничего. Переживут.
В этом я не сомневался.
Из корчмы мы вышли уже ночью. Снова приморозило и под сапогами весело похрустывал грязный лёд. Воздух стал будто почище, но уходить отсюда надо, пока не подхватили какой погани.
– Сав, а Сав… – Метелька шёл, сунувши руки в карманы.
Опять рукавицы потерял?
Или забыл дома?
– Чего?
– Это ж были… ну, они, да?
– Радеющие за народное благо, – я криво усмехнулся. – Пройдёмся?
– А домой?
– Успеется.
Дома тоже не поговоришь. Старуха пусть и притворяется слепою да глухою, но видит и слышит получше многих. А уж как и куда услышанное повернёт и кому донесёт – тут и гадать не надо.
– Ну да, – Метелька подавил зевок. – Вот, блин… слушай, а чего ты с ними… ну так? Если они нам нужны и их искали, то чего теперь кобениться?
Где-то совсем рядом раздавались пьяные голоса. И мы с Метелькой свернули в переулок.
Если там, в центре, столица строилась по плану, была чиста и величава, то рабочие окраины – дело другое. Тут улицы возникали будто сами собой, с трудом пробивая себе дорогу меж домов и домишек, порой построенных из всего, что под руку попадалось. Летом их пополняли шалаши и палатки рабочих, которые полагали, что, коль тепло, то можно и на улице пожить.
Экономней.
Хаоса добавляли приземистые и широкие строения бараков. Вон там слева – суконной мануфактуры Твердятникова, про которую отзывались весьма даже неплохо, что будто бы управляющий не только общежитие давал, но и кухарок нанимал для готовки, и что кормили не совсем пустыми щами.[10]
И платили там прилично.
И лавки не держали.
В общем, хорошее место. А потому желающих попасть туда имелось прилично. А вот от мыловаренного заводика Пелянского, где готовили грошовое мыло, откровенно несло химией и дерьмом. Тут даже ретирадники не ставили, а потому рабочие ходили, кто куда.
По слухам, порой доставалось и продукции. Во всяком случае, наши это мыло брать брезговали.
– Метелька, не тормози.
– Чего?
– Того. Обычно ты ж у нас по людям соображаешь.
Фыркнул. И сгорбился обиженно.
– Смотри. Вот представь, что встретил ты какого-то парня. Вроде и видишь в первый раз, а он такой прям весь тебе радый, что прям не можется. Настолько радый, что прям готов в объятьях задушить. И в друзья набивается со страшной силой. Как ты к нему?
Метелька хмыкнул, но ответил:
– Никак.
– Именно, – мы шли мимо дощатого забора. – Тем паче, что времена теперь для революционеров сложные. Полиция вон до сих пор не успокоилась. Вот они и сторожатся. Я ж им человек сторонний. И как знать, не провокатор ли, не информатор или ещё кто.
– Ну да… – правда, уверенности в словах Метельки не было.
– Как раз провокаторы с информаторами изо всех сил будут в доверие втираться. И говорить, как они сочувствуют рабочим, и жопу лезть без мыла.
– А ты, стало быть, не лезешь.
– Нет.
– Как-то это заумно…
К моей придури Метелька давно привык.
– Хотя… если так-то да… на ярмарке, небось, ежели торговец весь из себя ластится, то точно дерьма подсунет.
И чихнул.
– О, правду сказал, – Метелька вытер нос рукавом.
– А ещё этот Светлый с артефактом сидел. Проверял, буду ли врать…
– Серьёзно?
– Серьёзней некуда.
– Тогда почему прямо не спросил?
– Так… вроде ж повода нет. Спросит ещё.
– Думаешь, вернётся?
– Ещё как… вот сам посуди, какая девка сильней в душу западёт, та, которая за тобой бегает, или та, что нос воротит?
Сравнение довольно приблизительное. И в психологии я не сказать, чтоб превеликий специалист. Скорее наоборот. Там, в прошлой жизни, я больше верил своему чутью, чем научной обоснованности. Но вот…
– Если мы сами проситься станем, нас сперва будут мурыжить проверками, а потом повесят какую-нибудь ерунду, вроде раздачи листовок. И смысла особо нет, и прогореть легко. А вот если им нас обхаживать придётся, тут уж вынуждены будут завлекать не только словами. И поручать станут куда как серьёзное.
– Ну, Савка… – Метелька покачал головой. – Не знаю… глядишь, и получится.
Получится.
Это я понял, уловив эхо чужого любопытства. И любопытствующего вычислил быстро. Незнакомый парень явно рабочего происхождения держался на другой стороне улицы с видом будто бы безразличным. Руки в карманы сунул, пялится на дома.
Было бы там на что пялится.
Да и его якобы расслабленная поза выделялась среди обычной утрешней суеты. Ну не принято тут так себе прогуливаться. Люди или спят, или работают, или ещё чем полезным заняты. А этот торчит, что столб посеред поля.
Я сделал вид, что пригляда не замечаю.
Суббота.
Завтра выходной, и предвкушение его наполняло душу радостью. Не только у меня. Метелька с утра поцапался с хозяйкой, вытащив из её тайника шмат сала и слегка зачерствелые пряники, один из которых и мусолил, не способный разгрызть.
Надо бы в аптеке рыбьего жиру купить.
И капусты квашеной. Это уже не в аптеке, а в лавке.
А ещё лучше свалить отсюдова.
– Савка! – лицо Филимона радовало взгляд свежим синим фонарём. Он щербато улыбался разбитыми губами и выглядел вполне довольным жизнью.
– Доброго утречка…
– Ага, доброго… Савка, а ты чего завтра делаешь?
– Как все. Сперва на молебен. Потом дядьку проведать.
Не то, чтобы вдохновляющее расписание, но уже одно то, что фабрики в нём нет настраивает на весёлый лад.
– А это… – Филимон оттеснил Метельку. – Тут… тебе просили передать, что, может, захочешь на встречу?
– Какую?
Филимон огляделся и, наклонившись к самому уху – в лицо дыхнуло вонью нечищенных зубов, перегара и чеснока – громко прошептал:
– Союзную. Это… союза рабочих Петербурга. Вот. Разрешенную!
Ну да. Официально профессиональные союзы были разрешены.
– Лекцию будут читать. О правах рабочих.
– Филь… ну оно мне на кой?
Потому что сколько лекций ни прочти, а прав у здешних рабочих не прибавится.
Мы прошли через проходную. И скинув тулуп, я пристроил его в самом углу. А то сверху понавалят своих, прокуренных, потом хрен избавишься от запаха.
– Так… три рубля обещали. Если придёшь.
Деловой подход.
Я призадумался.
– Сав… ну чего тебе стоит? Там недолго…
– А тебе чего обещали?
– Полтора, – Филимон не стал отнекиваться. – И Никитку к Вальцевым устроить. На автомобильный.
Это серьёзная заявка. Там, говорят, платят строго по регистру, и выходит втрое против обычного. Штрафов нет. На праздники харчи выдают, по особому уложению. Да и если встать к нормальному мастеру в помощники, то и самому в мастера выбиться реально.
Карьера.
– Сходишь, а? – Филимон аж приседает, норовя в глаза заглянуть. – Ну хочешь, я тебе и так деньги…
– Оставь себе, – от щедрого предложения я отмахиваюсь. – Схожу. Только… Филька, чего они обо мне выспрашивали?
А что выспрашивали, это точно.
И по глазам вижу – угадал.
– Потом, – говорю. – Найдёшь нас, как обед станет. Там и перекинемся словом.
– Савка, – Митрич трезв и зол. – Так, вы двое… ты туда, а ты давай на третий.
– Один не справлюсь, – я встаю, скрестивши руки на груди. – Побойся Бога, Митрич. Мешки неподъемные.
– Помощника дадим, только… – он кривится и видно, что происходящее ему самому не по нутру. – Вы двое в станках уже разбираетесь. А эти вот…
Ко мне подталкивают чумазого пацанёнка, который едва-едва до плеча достаёт. И не потому, что я так уж сильно вырос. Скорее уж мальчишка этот, как и вся местная детвора мелок с недокорму. А ещё он чумаз и костляв.
– Митрич…
– Савка, – он качает головой и даже не матерится. – Ну некого больше! Анчееву расчёт дали.
– Новый?
– Прокофьев. Пока с места не убрали. С выплатою за это… досрочное.
И сплёвывает под ноги. Понятно. Прокофьев не злой. Понимает, что осталось Анчееву недолго, и что новый управляющий не станет закрывать глаза на недоработки. А просто вышвырнет за забор и всё.
Социальные гарантии?
Пенсия по инвалидности? Не смешите.
Вот Прокофьев и воспользовался случаем, чтоб хоть какие-то деньги человеку дать. Надолго их, конечно, не хватит. Но это лучше, чем ничего.
– А с ним ещё семерых, кто тоже не тянет… – Митрич снова сплёвывает и добавляет пару слов покрепче. – А на их место велел ставить из тех, кто потолковей. Будешь теперь в подмастерьях.
Повышение.
– Денег прибавят?
Мат, которым меня обложили, вполне сошёл за ответ.
– А хозяин чего?
– Хозяин? – Митрич вытер ладонью усы, потом за спину убрал, стараясь на руку не глядеть. – А чего хозяин? Повздыхал, покачал головой и убрался. Это прежний-то в каждую дыру лез…
Прозвучало похвалой.
Передать что ли Мишке? Или не надо? Распереживается ведь.
– Этот же другой породы. Будет деньги получать, а остальное… ладно. Бери вон. Васька толковый. И крепкий.
Ага. Кости прям видно, до чего крепко одна за другую держатся, потому что кроме них и кожи в этом пацане ничего и нету.
– И тебе кого подберу… только станок гляди, аккуратней, там кожухи прохудились, порой пар прорывает, так что заслонку на полную не открывай, пускай лучше медленней…
– Идём, – я глянул на пацана.
Вот… сдохнет он к концу первой смены.
Или я, если жалеть стану.
Дерьмо.
А ещё понимание, что та революция, которая была в прошлом моём мире, не на пустом месте случилась. Власть там, капиталы, которые этой власти хотели – это одно. А захлебывающиеся своей кровью мужики, вышвырнутые за забор подыхать где-нибудь там, или такие вот, как этот мой помощник новоявленный, – совсем другое.
Хотя и не скажу, что проникся к революционерам большой любовью.
Может, потому что знаю, что там, в будущем, их идейность обернётся не меньшею кровью?
Ладно.
Это всё потом.
Потом – в нашем закутке, откуда пацана пришлось шугануть, впрочем, он только и рад был убраться. А мы вот садимся. Метелька, чумазый и злой сильнее обычного, и Филимон, который даже не пытался стянуть сало. Но и отказываться от угощения не стал.
– Тоже одного поставили? – Метелька жевал медленно. Промокшая от пота рубашка прилипла к хребту. И на лице обозначились острые скулы.
Чтоб.
Уходить.
Пока не подхватил чахотку. Или чего похуже, потому что пылища эта вокруг, пропитанная силой другого мира, тоже ни хрена не полезная.
– Не, – Филька мотнул головой. – С Кабышем. Он здоровый. Так что… ты это, с ним пойдёшь?
– А что?
– Так-то про него не спрашивали.
– А про меня?
Интересно. И с каждым слово всё интересней.
– А про тебя прям так хорошо… вчерась, ввечеру явился, ну этот, Светлый. На самом деле его иначей кличут. Мамка сказала, ну, когда они в первый раз ещё там заглянули. Вроде как ейный старый знакомец. И сказала, чтоб не вздумал ввязываться. Вот…
– Правильно сказала.
– Я и не ввязывался. Я ж не дурак. А так носят. Так чего спрашивал?
– Ну… так-то… когда ты туточки появился. Кто тебя привёл или сам ты. Или вот с кем дружбу водишь.
Эти вопросы были вполне понятны.
– Ещё, не замечал ли я за тобой чего-нибудь такого…
– Какого?
– Не знаю. Не объяснил толком.
А вот это уже настораживает. Хотя нет, вру. Не это, а вот такой горячий интерес, прям-таки почти извращённый. Одно дело прощупать или даже наблюдателя поставить, который за мной издали приглядит. И совсем другое – денег обещать. Причём по местным меркам сумма немалая. Детям у нас пять-семь рублей в месяц платят. И то считается неплохо.
А мне вон три рубля дают, чтоб только в гости заглянул.
– Про то, ладишь ли ты с машинами. Как к тебе начальство… ну и чего у вас с хозяином тогда приключилось. И так-то… то одно, то другое. Вроде так болтает-болтает, об погоде или ещё чём, и снова про тебя раз. И этак, и так. Прям извёл весь. Но рубля дал. И не велел говорить.
– А ты сказал.
– Ты ж не выдашь?
– Не выдам. И где они там будут?
– Так это… Староконюшинская три. Скажешь там, что ты на занятия. Там у них эта… школа вечерняя. Рабочая. Во!
Школа – это хорошо.
Учиться никогда не поздно.
Глава 5
Я с ужасом, ей-богу с ужасом, вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали![11]
Из открытого письма к молодым революционерам.Трамвайчик полз, весело дребезжа. И весеннее солнце, будто подгадавши, что день у нас выходной, щедро делилось, что светом, что теплом. Оттого ли или же по причине выходного, но настроение у меня было приподнятым. И даже взгляд кондуктора, который держался рядом, явно подозревая нас в недобром, не раздражал. Работа такая у человека – за порядком следить. А мы с Метелькою от местной публики, пусть и не в высоких чинах пребывающей, но всяко чистой, сильно так отличаемся.
Хотя вон тоже и умылись.
И причесались.
И костюмы вытащили те, которые приличными назвать можно. Да только пыль с грязью в кожу въелась намертво.
Танька опять ругаться станет.
Трамвайчик звякнул и остановился, выпуская нас с Метелькою и солидную даму в чёрном вдовьем платье. Даму сопровождала сухопарая девица, которой Метелька успел подмигнуть. Девица сделала вид, что не заметила и отвернулась.
А хорошо.
Люблю весну. Снежок подтаял, пустив по мостовым грязные струйки воды, а от реки потянуло болотом, но всё одно люблю. Перестукивается капель, плавятся сосульки на крышах, а синицы с воробьями делят ближайший куст, возмущённо чирикая. Щурится лениво, вполглаза наблюдая за птахами, огромный чёрный кот.
Мы остановились, чтобы купить калачей у разносчика – негоже с пустыми руками.
– Опаздываете, – дверь открыл Еремей, он же пакет и забрал.
– Так, трамвай долго ждать пришлось.
Оправдывался я лениво.
А в доме пахло едой. И нормальною. Сытною, горячею, от одной мысли о которой рот наполнился слюной.
Я уже знал, что будет, потому что так бывало каждое воскресенье.
Круглый стол. Скатерть с кистями и поверх – ещё одна, кружевная и расшитая. Фарфоровые тарелки, которые появились в доме не сразу, но Татьяна заявила, что ей они нужны, а Мишка не стал возражать. Пузатая супница и что-то там ещё, чем названия не знаю.
Обед.
Как по меркам нижнего города, вполне праздничный. Авдотья, бывшая в доме и за кухарку, и за прочую прислугу, подавши на стол, откланяется. У неё тоже короткий день, более того, Татьяна порой и вовсе даёт выходной, чему Авдотья весьма даже рада. Знаю, что перед уходом она сунет Тимошке пряника и велит вести себя хорошо. А Татьяна сделает вид, что не замечает этакого нарушения режима.
Тимофей, вычесанный, приодетый, спокойно сядет за стол.
А я в очередной раз уставлюсь в его лицо, надеясь поймать признак того, что он очнётся.
Вот-вот.
Совсем уже почти.
Он же смутится и сгорбится.
И…
В общем, привычно всё.
Мишка в полосатом костюме, который сидит почти хорошо. Синее платье Татьяны. Не траурное, но почему-то навевающие мысли о трауре. И белый воротничок с белыми же манжетами нисколько не исправляет впечатления.
А белые перчатки она снимет уже потом, когда за Авдотьей закроется дверь.
– Вы с каждым разом всё сильнее меняетесь, – Мишка первым нарушает давнее устоявшееся правило: не говорить за столом о делах.
О погоде вот.
О том, что лёд на Неве ещё не вскрылся, но уже того и гляди. И что следом, конечно, подтопит. Что квартирная хозяйка снова заглядывала, проверяла порядок, но больше, конечно, со скуки. И ещё очень Татьяне сочувствует, уверяя, что отсутствие приданого для приличной девушки, конечно, обстоятельство серьёзное, но можно и без приданого личную жизнь устроить.
О котах, которых хозяйка прикармливает.
И о том, что почуявши близость весны, коты эти начали орать по ночам.
Но никогда – о делах иных.
– Миша… – Татьяна откладывает ложку.
– Тань, я с самого начала был против. А ты посмотри. Они оба похудели.
Ну да, есть такое. Но это даже не от недоедания. Растём мы. И ввысь быстрее, чем вширь.
– У Метельки глаза запали. И вот, обрати внимание, на этот лихорадочный румянец.
Мы все уставились на Метельку.
– Я щёки натёр! – он даже отодвинулся от стола.
– Ну да. Чахотка с румянца и начинается. А пыль очень даже способствует её появлению. Пыли же там хватает. Я ещё когда думал сделать маски. Одно время даже обязал носить.
– И чего?
– Ничего. Сдирали. В масках дышать тяжко.
Есть такое. Воздух в цеху спёртый. Там и машины с паром, и железо разогретое, и людей тьма. А вентиляция… скажем так, про её существование, если кто и догадывается, то не на фабрике.
– И это вопрос времени, когда они заболеют. А главное, смысла нет! – он отодвинул тарелку с недоеденым борщом. Зря. Хороший борщ. Наваристый. И густой, так, что почти кашею. – Этот план изначально был ошибочным. Их не осталось.
– Кого? – Татьяна хмурится. Ей наша работа тоже не в радость была. Она бы предпочла, чтоб мы не разделялись, а вот жили вместе, большою и дружной семьёй.
– Революционеров. Я ведь смотрел… аресты почти прекратились. И почему? Потому что арестовывать больше некого. Суды, суды и суды… кто на каторге, кто на виселице. Всё. Закончилось подполье.
– На нас вышли, – я перебил Мишку. – Не закончилось оно. Залегло отлежаться.
И за границу частью выехало. Но вернётся. Любая буря имеет обыкновение заканчиваться. Так что переждут, погодят, пока Охранное не придёт к тем же выводам, что и мой братец. А там, глядишь, притомившись от трудов праведных, и приляжет на Карпах почивать.
– Одних повесили, конечно, так другие вон готовы в строй встать.
Тем паче, что на виселицу пошли исполнители. То самое мясо, задача которого воевать и принимать удары. И не важно, за какую оно идею стоит, народной свободы и блага, или же сладкой жизни и золота.
– А те, что на каторге, то и вовсе, считай, почти дома. Вон, то письма шлют, то листовки сочиняют, то и сами ноги делают.
– Савелий, а ты уверен, что они и вправду революционеры?
– Не провокаторы? Нет, не уверен. Вовсе очень странные люди.
Нас вон от самого дома до трамвайчика вели.
Думаю, что и тут где-нибудь нарисуются.
– Это… это опасно, – Татьяна стиснула в кулачке салфетку.
Неловко так.
Перчатки она сняла, и белоснежные, фарфоровые пальцы бросались в глаза этой вот неестественной белизной.
– Но для провокаторов щедрые больно. Те больше на идею давят, а эти вон так меня видеть хотят, что прям заплатить готовы, – я дотягиваюсь до пирога. – Три рубля обещали, если на собрание приду.
– А ты?
– А я что? Сходим, поглядим… но смотри, будут и тут крутиться. Выспрашивать.
– Может… – Татьяна замирает.
– Сбежать?
Я понимаю её. Со страхом. Опасением. С нежеланием что-то менять. Эти пару месяцев передышки позволили Татьяне не только осознать случившееся и как-то смириться с потерей, но и дали ощущение призрачной нормальности нашего бытия.
Наверное, горе меняет всех.
И не потому ли она, Татьяна Громова, приняв новое имя стала выстраивать над ним свою новую жизнь. Пусть в этой жизни и не было особняка, а имелся лишь флигилёк на три комнаты, но это всяко лучше промёрзшего болота и ощущения скорой смерти.
Не стало деда, но был Мишка.
Я вот тоже.
И Тимофей, которому Метелька тайком показал сахарного петушка. Не дразнясь, нет, скорее обещая.
Была надежда увидеть искры разума в этом вот пустом взгляде.
Был Еремей.
Была жизнь. Иная. Разительно отличавшаяся от прежней, привычной, но всё-таки была. И теперь Татьяна, пожалуй, как никто из нас чувствовал, насколько она хрупка. Нет, вслух она ничего такого не произносила. Всё же она Громова.
Долг там.
Клятвы.
Месть родовая, которую никак невозможно променять на обыкновенное бытие под маской чужого имени. Но… как же хочется.
– Всё будет хорошо, – я дотянулся до Татьяниной руки. – Тань, нас не оставят в покое.
Нам и так повезло. То ли не слишком настойчиво искали, то ли ещё не поняли, что искать надо. Но рассчитывать, что это везение продлиться долго не стоит. И что нашу хитрость не раскусят. И что мы никак не выдадим себя, а у тех, кто ищет, не хватит ресурса.
– Я понимаю. Просто… сейчас.
Она резко встала и вышла. А Мишка скорчил страшную рожу. Мол, как это мы своими разговорами расстраиваем Танечку.
Расстраиваем.
И ведь знает, поганец, что если промолчим, то расстроим ещё больше, что не потерпит она обращения, как с фарфоровою куклой, но всё равно переживает.
Неисправимый.
– Сав, обещай, что с фабрики уйдёшь. Революционеры они там или так, но… если так уж тянет побыть среди рабочих, то давай к нам, – сказал он.
Мишка, промаявшись с месяц, устроился в артель, которая ремонтом машин занимается. Не первой руки, конечно, зато там не смутила ни рожа его басурманская, ни отсутствие иных, кроме паспорта, бумаг. Платили, правда, тоже едва ли треть от нормальной цены, но работа, как понял, братцу отвращения не внушала. Более того, он и в коллектив вписался, и авторитетом обзавёлся, если устроить предлагает.
– Вот, – Татьяна не позволила развиться теме. – Посмотри.
Она протянула мне листок бумаги.
– Что это?
Набросок карандашом. Веточка какая-то с листиками и сережками. На березовую похожа, но я в ботанике не силён.
– Красиво вышло. Ты решила рисовать?
– Тимофей, – она покачала головой. – Представляешь? Залез в стол и рисовал. И ещё вот.
Листков оказалось несколько.
Женщина с круглым лицом и упрямыми губами.
– Мама. У нас была фотография… – голос чуть дрогнул. – Тимофей её лучше меня помнил. Я вот только по снимку.
И Буча.
Бучу я узнал и без подсказки.